Совестью
| Вид материала | Книга |
- Александр Твардовский – поэзия и личность, 79.29kb.
- Петр Петрович Вершигора. Люди с чистой совестью Изд.: М. "Современник", 1986 книга, 9734.25kb.
- Задачи отправлять В. Винокурову (Иваново) не позднее 09. 11 только по e-mail: vkv-53@yandex, 26.99kb.
- Отрощенко Валентина Михайловна ученица 11 «Б» класса Казаковцева Любовь Владимировна, 257.47kb.
- К. Лоренц Для чего нужна агрессия?, 315.8kb.
- Для чего нужна агрессия, 344.41kb.
- И с неспокойной совестью. Создавая лучший мир, невозможно не держать в голове, что, 29924.53kb.
- Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены, 348.85kb.
- Закон Украины, 2679.26kb.
- Вшестнадцать лет я, как и ты, учусь в школе, у меня есть хобби, я смотрю те же фильмы,, 34.7kb.
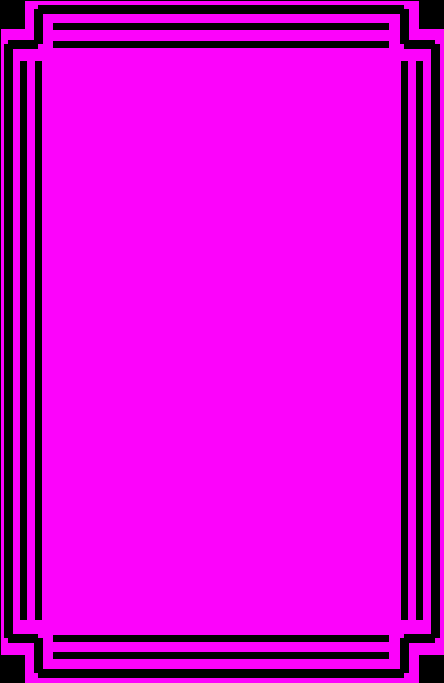
А
МОСКВА
1997
натолий Онегов
Анатолий Онегов
ДИАЛОГ
С
СОВЕСТЬЮ
В двух книгах
Книга 1
Диалог
с
совестью
День первый – день третий
Москва
1997

А. Онегов. Диалог с совестью. М.: 1997 – 608 с.
Анатолий Онегов – замечательный русский писатель, автор многих книг, посвященных родной земле, родной природе: «Я живу в Заонежской тайге», «Карельская тропка», «Вода, настоянная на чернике», «В медвежьем краю», «Следы на воде», «Лоси на скалах», «Здравствуй, Мишка», «Избушка на озере» и других.
«Диалог с совестью» – последняя остросюжетная работа А.Онегова. Это диалог с собственной совестью честного русского человека, ведущего непримиримую борьбу за свою землю, за свой народ с коварным и бездушным врагом...
Все права сохраняются за автором. © А.С.Онегов, 1997 г.
"Будут брошены все силы, миллиарды золота, лишь бы погасить пламя Русского Возрождения. Вот перед чем стоит сейчас Россия. Это почище Наполеона, Гитлера. Но если с нами Бог, то чего нам бояться?"
(Митрополит Виталий "Письмо
молодым людям России")
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
В телеграмме значилось: "Встречай пятница обнимаю цалую твоя Шура".
Телеграмму с почты передали в деревушку как обычно, по телефону. Как обычно, приняла ее бабка Василиса, а доставил адресату бабкин внук Митька, росший без отца, а потому избравший для себя главной политикой в жизни верную дружбу со всеми взрослыми мужиками, умевшими дружить.
Большеголовенький, с умными озорными глазенками, Митька качался на жердях забора под окнами и, чуть призаикиваясь в начале каждой фразы, басовито выводил:
.— Д-дядь С-сежа, д-дядь С-сежа... В-выдь сюда... Г-гости к тебе...
Митька торжественно вручил Морозову клочок линованной тетрадной бумаги, по которой бабка Василиса вывела синим марким шариком слова телеграммы, и, не дождавшись положенной благодарности, понесся в гору, к своему дому, одной рукой подтягивая великоватые порточки, а другой победно крутя над головой. Морозов же озадаченно разбирал содержание депеши, стараясь через возможные упущения разных почт и через бабкину орфографию все-таки добраться до смысла случившегося...
... Какая Шура? Откуда?.. Да еще с претензиями на близость: "Обнимаю цалую"?.. Может, шутка кого-то из друзей, решивших навестить его?.. Но он же просил жену, просил слезно — обещать всем под самое честное слово, что в деревне его нет, чтобы под осень остаться совсем одному и немного поработать...
Звонить на почту было поздно. Почта закрылась до завтрашнего утра — телеграмму передали, пожалуй еще днем, и Митька, конечно, тут же принес бы известие, но сам Морозов был на озере и только что явился домой.
... Шура... Какая еще Шура?.. Кого нелегкая несет?..
Все встало на свои места на следующий день. Он дозвонился до почты и разобрал то, что не смогла разобрать бабка Василиса. "Обнимаю целую твой Жора,"— гласил первоисточник.
Пожалуй, "Жору" старая женщина, прожившая всю свою жизнь здесь, в самых что ни на есть патриархальных русских местах, никогда и не слыхала, а если что-то похожее и касалось ее слуха, то либо пролетало дальше, как не свое, чужое, негодное, либо, если все-таки оставалось тут, оставалось уже в другом, принятом здесь виде. Поэтому-то бабка Василиса и определила Жору тут же Шурой, а если уж "обнимает" да "цалует", то есть ведет себя совсем по-женски , то о каком мужском роде вообще может идти речь... "Обнимаю цалую твоя Шура",— и только так.
Бабка Василиса присутствовала при разговоре Морозова с почтой и когда услышала снова "Жора-Шура", то заговорщицки поинтересовалась:
— А хозяйке-то вашей про Шуру енту известно?..
— Да не Шура это, Жора — Георгий, если по святцам. Друг мой, друг детства. Неплохой мужик.
— Мордатый, поди?— вопросила бабка, привыкшая упорно делить всех городских мужиков, прибывавших в деревню по разным надобностям, на мордатых и тощих. Тощой в ее представлении был заезженный жизнью, с худой судьбой, в вечных заботах и не при деньгах. Словом, мужчина не самостоятельный. Мордатый же, по бабке Василисе, заслуживал всяческих похвал и требовал с собой особого обхождения.
— Мордатый, мордатый! — успокоил старуху Морозов. — Сегодня явится. Увидите.
Все, что вот-вот должно было произойти, казалось Морозову нереальным, немыслимым... Великий Георгий Соколов, почти Победоносец, запижонившийся, мордатый, как определяла бабка Василиса, даже очень мордатый (по Морозову), с блеском и помпой закрутившийся в карусели "симпозиум — курорт — съезд — премия — награда и т. д.", вдруг сам обозвал себя по памяти их прежней дружбы Жорой и катит сюда, в эту медвежью глухомань, где, может быть, свои самые последние дни доживает вместе с некогда светлой, веселой, работящей лесной деревушкой ее самый последний житель-хранитель бабка Василиса.
Конечно, Жора звонил ему домой и вытребовал у жены адрес и маршрут. Он может вытребовать этот Георгий Соколов: “Милая, лапочка, сто раз вас целую..." Морозов хорошо представил себе всю эту трепливую жоркину бессмыслицу, которая обрушилась и на его жену. Жена, хорошо знавшая все жоркины повадки, конечно, пропустила болтовню мимо ушей. Но адрес этому трепачу почему-то дала... Вот черт! И кондрашка никакая его не хватит. Полста мужику, а все актеришкой крутится: лапочки-лялички... Нет, он видел Георгия Соколова и другим... Жесткий, решительный, пугающий глубиной и широтой мысли русский человек выдавал иностранной аудитории слово за словом слова за русскую литературу. Переводчику было легко переводить эту чеканную речь. Переводчик попался тонкоголосый, но зал, взятый Георгием Соколовым в полон, как казалось Морозову, испуганно молчал...
... И как в этом голосистом петухе все сразу умещается, — ругал Морозов своего бывшего друга, но ругал уже не так зло. — Вот черт! И зачем катит сюда — какие-нибудь заграничные сказки рассказывать, поди... Эх, Жора, Жора... А мог бы ты быть не столичным беллетристом, развлекающим московских молодящихся дам, а большим русским писателем, сыном своей земли. Ведь все было тогда при тебе: и слог, и образование, и боль людей принимал, как свою, и детство трудное с запечными тараканами в селе над Окой и с крохотным оконцем прямо на мостовую из полуподвала московского дома... Что и когда это случилось? Когда оставила тебя твоя земля? Когда ты потерял ее? — рассуждал сам с собой Морозов, припирая закрытую дверь дома батожком-топором и собираясь навстречу гостю.
Автобус, на котором должен был приехать Жора, прибывал к свертке-отвороту с большака около восьми часов вечера. Здесь автобус расставался с желавшими попасть в лесную деревушку, хранимую по зиме лишь одинокой старухой, и торопился дальше по большаку к конечному пункту маршрута, где ночевал, чтобы назавтра снова, накрутив на колеса километров девяносто лесной дороги-волока, объявиться в районном центре, объявиться в полной боевой готовности для нового путешествия в тот же день в нашу таежную глухомань.
До свертки-отворота, где останавливался автобус-трудяга, от деревушки было всего-ничего — с час хотьбы. До автобуса оставалось еще часа два. Но Морозов любил приходить на автобусную остановку заранее и ждать, когда в знакомые разговоры леса где-то там, еще очень далеко, войдет голос машины... Потом этот голос пропадет — дорога спустится вниз с бугра, потом явится снова и громче. И так, опускаясь и поднимаясь вместе с дорогой, исчезая и оживая вновь, работяга-автобус наконец явится перед тобой, как посланец из другого мира, живущего по иным законам...
В неспешном походе к автобусной остановке встречался Морозов еще с одной своей маленькой тайной: всякий раз в этой дороге он почему-то вспоминал, как впервые добирался сюда, в деревушку, вместе со своим старшим сыном. Сыну было тогда лет десять. Автобус в тот раз не пошел в эту сторону, и им с поклажей пришлось километров семь добираться еще до отворота-свертки. Те семь километров сейчас не помнились, не остались в памяти, как эта дорога от свертки до деревушки... Может быть, потому, что вначале они шли легко и только тут, в ожидании конца трудного пути, почувствовали усталость и уже считали оставшуюся дорогу чуть ли не на шаги. Сын еле переставлял ноги, но все-таки шел упрямо к цели: к лесной сказочной деревушке на берегу озера, где у них не было еще ни своего дома, ни своей лодки... Вот здесь, перед самой деревней, на берегу залива, уже за полночь они поставили тогда палатку и тут ночевали, не решившись никого беспокоить в столь поздний час...
Впервые озеро и деревушку они увидели вот отсюда, с горы, с Горнюхи, как зовут здесь эту вознесшуюся к небесам землю-холм, вознесшуюся над водой и лесом...Сюда, на Горнюху, поднимается каждый входящий в мир людей, некогда породнившихся с суровым северным озером и таким же глубоким в своих таежных тайнах северным лесом. И отсюда, с высоты птичьего полета, принимает в себя, если способен принять, все необычное торжество-таинство открывшегося ему первозданного простора.
Обычно здесь, возле самой Горнюхи, когда Морозов отправлялся на автобусную остановку кого-то встречать, его всегда перехватывал Митька. Мальчонка вдруг появлялся впереди на дороге и бесхитростно заявлял:
— Д-дядь С-сережа. Т-ты куда? К-к аа-автобусу? Я с тобой.
— Айда, Митька, к автобусу, — соглашался в ответ Морозов, и они шли вместе, рядом, иногда перекидываясь нехитрыми фразами вроде: "А б-быть д-дождю-то", — а чаще просто помалкивая каждый о своем.
Когда к Морозову приезжали жена и сыновья, Митька дичился, по-своему переживал и старался не показываться лишний раз на глаза. Но вот семья уезжала, Морозов снова оставался один, и снова два одиноких существа находили путь-дорогу друг к другу... Правда, Митька жил в деревне тоже недолго — по осени его увозили домой, в город, и тогда сторожить деревушку оставались лишь Морозов да бабка Василиса.
С Митькой было бы, наверное, проще, веселей, легче, как бывает обычно легче и проще человеку, когда есть в нем теплое чувство, что он не один на земле и что он сам тоже кому-то хоть немного нужен. Видимо, тоже самое хранил в своей чистой душе и заикастенький Митька, когда прятался от матери, приезжавшей забирать его на зиму из деревушки, и когда тайком поджидал Морозова на дороге к автобусной остановке...
На этот раз Митька возле Горнюхи не появился. Этот маленький человек с чутким привязчивым сердцем, наверное, как-то по-своему разобрался, что Морозова ждет сегодня не совсем простая встреча, что к нему едет кто-то особый, непонятный до конца, "мордатый"... Конечно, Митька слышал сегодня от бабки о морозовском госте... И этот "мордатый", пожалуй, означало для него, Митьки, маленького, неиспорченного еще человека, нечто иное, чем для взрослых: “мордатый" — это страшный, злой... Наверное, так. И наверное, именно поэтому Митьки и не оказалось сегодня на дороге возле Горнюхи.
За Горнюхой дорога, скатившись с холма, обряженного по летнему времени белоснежными ромашками и багряным клевером, неспешно входила в молодой сосняк, поднявшийся над упругими седыми мхами... Вот-вот среди этих мхов то тут, то там начнут посвечивать бурыми шляпками белые грибы-боровики. Их срок уже подходил, и Морозов, чувствуя время гриба-боровика, по привычке посматривал по сторонам: а вдруг рядом с красноватой полоской сосновой коры, упавшей на белый мох, таким же призывным цветом засветится и первый гриб-бодрячок.
Сейчас дорога оставит позади сосняк-беломошник и снова выйдет на открытое пространство, бывшее когда-то хлебным полем, а теперь за объявленной почему-то ненадобностью северного хлеба переведенное в разряд культурного луга, где пестуют, потчуют разной привозной химией многолетние травы, идущие затем на сено, попутно забыв заливные луга и луговины по ручьям и речкам, где богатое густое разнотравье, не требуя для себя ни химии, ни навоза, поднимается каждый год само по себе и каждый год неубранное никем пожухло уходит под глубокие снега...
Все эти бывшие хлебные поля, не знавшие засух и не требовавшие для своего счастья ни осушений, ни обводнений, все эти бывшие и заброшенные ныне покосы по ручьям и речкам, а рядом с ними нынешнее сиротское сенцо, собранное кое-как с "культурных" лугов — все это было его болью, все это терзало, рвало душу, не давало Морозову покоя каждый день и частенько приходило даже во сне вместе с другими тревогами за судьбу вот таких вот Митек, смотрящих прямо в душу своими открытыми глазенками, которым, того и гляди, достанется после нас изнасилованная, оскорбленная земля... И попробуй верни такую убитую землю к жизни...
Но сегодня эта неизбывная боль за будущую жизнь людей вроде как чуть приутихла, чуть отошла в сторону, оставив Морозова лишь в ожидании встречи с бывшим другом, и сейчас открытое пространство — бывшее когда-то хлебное поле, нынешний культурный луг — было просто пространством, светлым, веселым рядом с темной стеной леса. Дорога, не торопясь, поднималась вверх по полю. Там, вверху, она снова вступит в сосновый бор-беломошник с близким белым грибом. И так, бором-бором, и пойдет-пойдет сухой песчаной полосой к большаку, к автобусной остановке.
До автобуса было еще полтора часа. Морозов стоял на краю сосняка, у начала поля, стоял, опершись на свой батожок-посох, который как-то устроил для себя из сухой сосновой вершинки. Батажок получился легким, удобным в дороге по болотам — таким длинным батажком хорошо было проверять впереди себя путь. Как-то Морозов слышал от стариков, что такие длинные батожки когда-то именовали дружками: мол, дружка бы не забыть в дорогу, с дружком легче идти. Но этот "дружок" у Морозова не привился, не остался. Но зато с легкого слова сыновей этот сосновый батожок стал называться у них посохом, да к тому же еще и монастырским... Как-то привиделся им такой легкий и высокий посох, отглаженный твердой рукой, вместе с монахом-странником, тайно несущим грамотку опального протопопа Аввакума в самое Москву. Привиделся им такой самоотверженный странник поднявшимся на нашу Горнюху. Остановился странник-монах, зачарованный дивным видением нашего озера, и стоял так долго, опершись на свой посошок. Упрямо сработала детская фантазия, и задался им этот монастырский посох, как живая связь сегодняшнего дня с прошлой и яркой российской жизнью. Задался — и будь добр, отец, передай свой посох сыну в подарок, как благословение во взрослую дорогу. И готов был Морозов отдать свой батожок, но батожок был один, а сыновей двое. Морозов собирался сделать такой же другой — младшему сыну, но тот запротестовал — пожелал получить не новый посошок, а уже побывавший в руках отца.
... Неужели они все-таки видят во мне что-то такое, что дает им силы и пример в жизни?..
Сам к себе Морозов относился очень критично, вечно мучился, ища оценку своему труду, вечно переживал, что и это очередное написанное — в муках рожденное им — так же несовершенно, а то и просто худо, как и все прежнее... Дома тоже не принято было хвалить его труды, но не принято было и ругать. Вот и получалось, что и домашние тоже по-своему помогали его сомнениям. И лишь письма от читателей, чистые и честные, давали силу и какую-то веру в правильный путь. Но все эти сомнения касались почему-то только литературы. И Морозов нисколько не мучился, когда откладывал в сторону авторучку и брался за топор. Подправлял ли он старый дом, рубил ли новую баню — здесь он знал оценку своему труду, слышал ее:
— Вот отец дал — вот это баня!
Или так:
— Отец сделает — это он может!
"Это он может" — это говорилось о его планах сшить новую лодку... Но почему же никто из его близких никогда не сказал о его рассказах, очерках, о его планах написать что-то: "Это он может"?.. Почему?.. Может быть, потому что о нем никогда не трубила пресса, а его книги, хоть и не лежали на прилавках книжных магазинов, но никогда и не вызывали у критиков ни восторга, ни гнева?.. Может быть, это все от того, что его литературу вообще не принято было хвалить, замечать?.. Но тогда, что такое литература?
С Жоркой все ясно. Лиричен! Тонок! Мастер деталировки! Но почему от его "деталей" все чаще и чаще у Морозова оставалась лишь память о фирменных нашлепках на джинсовых брючишках, в которые Жорка выряжал какую-нибудь юную газель, а то лезли в глаза прежде всего застежки каких-нибудь интимных частей женского туалета?
Жорку Морозов напрочь отказался читать лет пять тому назад. Случилось это после того, как в очередной изящной повести Соколова на городскую лирическую тему он тщетно старался уловить смысл повествования, почувствовать авторский стержень, вызвавший откровение словом, но вместо этого обнаружил детальное описание лоснящегося, играющего мускулами мужского торса, выполненное автором от имени тридцатилетней героини, которой уже успела поднадоесть верность семейной жизни. Кто-то, помнится, осмелился эту повесть Соколова и поругать, но места в журнале для этого не дали, и ругатель ограничился лишь публичной критикой на каком-то камерном писательском собрании.
Ругать Георгия Соколова уже в то время было нельзя. Он уже был причислен почти к лику святых от художественного слова, входил в различные антологии, изданные в разных заграничных местах, и успешно представлял нашу советскую литературу на всевозможных международных аренах. Новоиспеченного классика торопились только переводить...
Эта явившаяся перед самой встречей досадная память больно кольнула внутри...
... Кто ты сейчас? Что? Какой? И зачем ко мне? Что случилось, если вспомнил вдруг лесные дороги?.. А скорей, не случилось ничего — просто лауреатская суета-жизнь показалась вдруг пресной и потянуло на волю, как тянет другой раз и дорогого выездного жеребца из дорогой сбруи и от сытых кормов в дикий табун, живущий тревожной жизнью... Но ведь в лес, на природу, на ту же охоту он мог двинуться и куда поближе. Достаточно позвонить, изъявить желание — свезут, покажут, в кого стрелять... Нет, тут что-то не так. С Жоркой все-таки что-то случилось. А может, где лбом в стену, как разбежавшийся бык?.. Эх, Жора, Жора... А сколько путей-дорог было у нас с тобой вот по этим самым лесам... А как ты добирался ко мне в такую же вот, забытую богом и людьми, деревушку, когда я поселился там, расставшись с редакциями и стихами, и стал ловить рыбу — кормить себя и людей... Как ты пришел тогда ко мне, грязный, мокрый, закоченевший, перемесив двадцать пять километров разбухших от ледяных дождей болот. Как пили мы тогда с тобой крепкий-крепкий и горячий-горячий чай, лучше которого тогда не было, наверно, ничего на свете! Мы пили чай у окна в морозную ночь, смотрели на обмороженную луну-ледышку и утверждали каждый свое.
Ты ругал меня за то, что я бросил город, поэтические вечера, что я не думаю о писательстве, о карьере, а без этого, мол, не будет никогда ни книг, ни прочего... Я же молчал, не зная тогда, что ответить тебе, но твердо зная, что в тот мир, где за искренние чувства можно выдавать чувствительную дрожь, да еще получать за эту дрожь-фантазию деньги, я не вернусь... А ведь с тех пор прошло как раз двадцать лет. И вот ты снова катишь ко мне... С чем?— И на чем?.. Теперь между нами нет осенних болот — между нами неплохая дорога, подходящая для быстрых колес. Приедешь ли ты все-таки на автобусе, как все люди? Или пойдешь звенеть лауреатскими медалями по районному начальству, вытребывая машину для творческого вояжа в глубинку?..
Морозов не хотел этого — он не любил игры в угадайку, но получилось как-то само собой, и он неожиданно для себя загадал: явится на автобусе — значит, серьезно; привезет начальственная машина — считай, очередной вояж, на этот раз к старому другу... Это тоже теперь модно у сегодняшних генералов: разыскивать своих солдат.
Морозов не успел договориться сам с собой, как из леса лихо вынырнул зеленый "уазик" и прыг-прыг-прыг — быстро покатил вниз по дороге через зеленое поле-луг к нему, к Морозову.
"Уазик" был новенький, щеголеватый — еще по номерам Морозов угадал райкомовскую машину...
Первым из машины появился райкомовский шофер Эдуард. Морозов знал его давно. Эдуард иногда приезжал к ним в деревушку на рыбалку и тогда брал у Морозова лодку. Непьющий, старательный, никогда ничего не всучишь ему за услуги — такой народ нередок здесь, в наших северных лесах, все еще хранящих свою честь и совесть.
Морозов относился к Эдуарду с симпатией еще и потому, что этот дядя Эдик-шофер был, пожалуй, самым главным человеком у Митьки. Мальчонка боготворил Эдуарда, а тот, почему-то не имея своих детей, относился к Митьке так, как другой отец не относится к родному сыну.
— Принимайте гостей, Сергей Михайлович. Здравствуйте.
— Гости-то где? Укачались в дороге что ль?
— Здесь я здесь, свет Сергей Михайлович, — Жора, давно позабывший проселочные дороги и приспособленный теперь лишь к элегантным автомашинам, с трудом выдирался из "уазика", путаясь в собственных ногах...
— Ну, брат Серега! Здорово! Красавец! Бородища! Странник! Скрытник! Протопоп Аввакум! Сергий Радонежский! Ну, что — созвал рать к битве! Собрал силы русской земли! — Жора чуть ли не орал на всю округу, стараясь сгрести Морозова в охапку и оторвать от земли.
— Ну, даешь! Ну, забрался! А красотища! Мох белый! Мы тут притормозили — полюбовались. И гриб! Гриб-боровик! Боровик-генерал! Ну-ка, Эдик, похвастайтесь! Говорит, не было еще грибов. Первый в этом году! На счастье! Ну, старик! Ну, жизнь! — Жора разом прервал объятия и восторг, устало ткнулся в заросшую бородой щеку Морозова и отступил к машине. — Ну, давай, старик, садись! Показывай, куда дальше!
— А может, дойдем? Тут рядом. Вещей-то много у тебя?
— Да нет, так барахлишко. На первое время... А что — разомнемся. Действительно. По старой памяти. Войдем, как странники с молитвою в обитель!
Эдуард хотел вмешаться в планы друзей, настаивал на своем, требовал, чтобы доверенная ему дорога, начавшаяся от дверей райкома, завершилась у самых дверей дома, но Морозов не отступил, имея тайное желание поднять Жору пешком на Горнюху и оттуда разом опустить его в тишь и благодать мирной воды и леса. Жора, изобразивший было из себя странника, несущего молитву к земле, заколебался. Ему, конечно, удобней было бы нырнуть из машины прямо в дверь дома, но что-то екнуло, что-то забеспокоилось внутри и заставило все-таки нарушить привычный путь, повсюду выстланный сервисом. В конце концов он засунулся наполовину в машину и вытащил оттуда ружье в футляре и футляр с удочками. Чемодан темной дорогой кожи и пижонский рюкзак с крючочками и разнокалиберными кармашками и карманами подал ему из машины Эдик.
— Один момент! — взывающе произнес Соколов и принялся было шептаться с водителем, но получил категорическое нет на предложение рассчитаться за машину.
— Тогда презент! — Жора лихо отстегнул какую-то застежку на чемодане, чемодан открылся с одного своего бока и оттуда явился смешной звереныш в пластиковом исполнении. — Это вашему наследнику — сыну или дочке. Кто у вас помоложе?
Морозов уже не мог вмешаться в жоркину бесшабашную суету — у Эдуарда не было детей, Морозов знал, как тот переживает, мучается, считает виноватым во всем только себя... А тут этот Жора с наследником... Конечно, он ничего не знал, но его балаганная бесшабашность, без оглядки на возможные ошибки, его сегодняшняя жизнь, видимо, без учета возможных издержек все-таки родили бестактность, придя из другого мира в мир все еще эталонных чувств. Темный, горький мазок так и остался на общем светлом полотне их встречи.
Зверушку-презент Жоре пришлось убрать. Он принялся копаться в чемодане, разыскивая еще что-то, как оплошавший коробейник, попавший к празднику не с тем товаром. Морозову оставалось только загородить друга собой, попрощаться с шофером и принять от него подарок-конфеты для Митьки...
И тут что-то иное, чужое, пришлое вмешалось в привычную цепь здешних радостей и ценностей... Жора, Горнюха — захватывающий вид с Горнюхи, приготовленный для Соколова, а потому отказ от машины, намеревавшейся попасть в деревню, лишили сегодня радости двух очень хороших людей : Эдик в этот раз не увидел Митьку, а Митька не увидел своего дядю Эдика... Эту вину Морозов целиком принял на себя.
На столе, изредка пофыркивая, торжественно шумел самовар. Морозов налил себе в кружку крепкого чаю и теперь сидел в хозяйском углу, "под иконами", ждал, когда чай чуть остынет и с доброй улыбкой наблюдал, как Жора крутится вокруг стола, ладно устраивая по разным блюдечкам и тарелочкам изысканную московскую снедь.
Выставив на столе очередную закуску, Соколов обязательно совал нос к самому самовару и, блаженно потягивая в себя самоварный дух, всякий раз произносил:
— Дым! Дым! Дым! Серега, ты понимаешь, что такое самоварный дух-дым!
Жора снова совал нос в самовар и снова сладостно закрывал глаза:
— Настоящий самовар! С дымом! Черт возьми! Не электрический! Заправдашний!
— А ты что у себя на даче и самовара не ставишь?
— Ставлю, ставлю, друг Морозов, электрический ставлю — на самовар с дымом все времени не хватает... Дым отечества!.. Ты что смеешься, басурман?.. Может быть, отсюда этот дым отечества и пошел!..
— Нет, друг Соколов, дым отечества скорей всего пошел от курных крестьянских изб с дымом в дом. А не от самоваров. Самовар тогда больших денег стоил — их бы на дым для всего отечества никак не хватило, — Морозов прихлебнул из кружки чай и снова, улыбаясь, посмотрел на Жору. — А улыбаюсь я по другому поводу — знаешь, как прекрасно видеть человека двадцать лет спустя в той же роли. Помнишь, как ты, ангел-спаситель, явился тогда ко мне в лес, в брошенную людьми деревушку и притащил с собой всякие столичные кушанья?— И вот также вот крутился тогда вокруг баночек и пакетиков — только тогда у тебя блюдечек под закуски не было... А когда все разложили и сели отужинать, оказалось, что хлеба-то у нас с тобой и нет. У меня хлеб давно кончился и были только сухари, а ты, упоенный запахами разносолов, запах хлеба просто забыл и не зашел в магазин за буханкой...
Жора хохотал:
— Помню! Помню, как ты крыл меня всякими разными словами за пижонство, за копченую колбасу, за болгарские сигареты, которые я пер тебе через те страшные болота. Вот так вот стоял, как зверь,— Соколов приподнялся, развернул плечи, выпятил вперед живот и выпучил глаза, готовый пойти в психическую атаку.— Вот-вот так и стоял. Мне страшно сделалось, честное слово. Мысль мелькнула: а вдруг он здесь чокнулся? Я к нему: стол накрыт — милости прошу. А он сверкает своими жуткими глазищами и хлещет словами по морде: "Колбасу притащил! Ты бы лучше буханку хлеба припер! Жрать что будешь?" Помню, попало за сигареты. Ты однозначно пожелал вместо них махорки: мол, дешевле и крепче.
Морозов, прихлебывая чай, внимательно слушал жоркин пересказ давнишней истории, дивился на его распухший от литературных трудов живот и добрел глазами:
— А ведь ты и теперь небось без хлеба явился?
— Взял! Не беспокойтесь, господин Морозов. Клянусь, помнил твои страшные глаза и взял. Пожалуйста! — Соколов торжественно подал на стол длинный румяный батон почти калачовой выпечки. — Примите хлеб, а вместо соли, — он быстро обежал глазами стол, — хотя бы сию кетовую икрицу Петропавловского производства. Как видишь, исправился.
— А право, из тебя еще и человек выйдет. Смотри, сервируешь неплохо — не забыл, не испортили тебя заграничные половые.
— Серега, милый, кухня, стол — моя слабость!.. Что ты!.. Мясо духовое!.. Салат с рыбкой!.. И стол только сам. Даже Ляльку к столу не подпускаю, когда гости.
... Ну, трепи-трепи,— думал про себя Морозов,— Ляльку ты свою к столу не подпускаешь, потому что безрукая она с детства. До сих пор, небось, и щей ни разу не сварила...
Лялькой Соколов в этот раз называл свою жену. Ляльками шли у него и все чужие жены, с которыми он был коротко знаком. И хотя его жену Жора никогда не посмел бы назвать Лялькой, Морозова от всей этой сладенькой болтовни всегда коробило, но тут он жоркину Ляльку пропустил мимо, и перед ним видением стала Елена Соколова — святая женщина, подвижница, положившая всю себя целиком к литературным стопам мужа. Елена — Морозов всю жизнь звал ее только так, хотя никто из других знакомых ее именно так не называл — переписывала, перепечатывала, правила, собирала, складывала все, что выходило из-под лихого жоркиного пера, носила по редакциям, получала обратно, а ее муж только творил, освобожденный ото всех земных забот. Он был освобожден ото всех земных забот даже тогда, когда они жили только на зарплату Елены. Она получала в школе за свои уроки русского и литературы всего ничего, она могла хотя бы взять репетиторство, чтобы легче было кормить семью из трех человек, содержавшую к тому же для Соколова-охотника прекрасную охотничью собаку, но из школы Елена бежала только домой, к его рукописям.
... Сукин ты сын, Жорка! Если бы не Елена быть тебе заштатным редакторишкой в каком-нибудь сереньком издательстве, где принято "подкармливать" редактора с гонорара, а редактору положена зависть к классикам и страждущий взгляд в сторону тех, кто все-таки выбился из редакторов в люди. Стоило Елене тогда, в самом начале, шлепнуть ладошкой по столу: мол, в конце концов будешь ли ты, муж, кормить семью! — и все! И пошел бы ты, мил человек, в редакторишки на всю жизнь читать чужие рукописи!.. Нет, тебе бы не хватило характера после чужих романов писать свои. Ты был рассчитан только на румяную жизнь, Жорка! Позвонишь Елене: "Где Соколов?" — и услышишь чуть живой голосок: "На охоте он, Сереженька..." — "Что-нибудь напечатал? С чего гуляет?" — "Нет, Сереженька, у него весенняя охота началась — на вальдшнепа. В Псковскую область уехал..." — "Вот собака!"— скажешь уже после того, как попрощаешься с Еленой. Но вот выжил. Выплыл, сумел доплыть в своем собственном челночке. А потому, что все время все-таки плыл, плыл в одну сторону. Доплыл, догребся, потому что, видимо, знал, что только так и догребется! Доплыл! Все равно молодец! И дома теперь сыр в масле и мебель хоть каждый год меняй. И Елена благополучия дождалась — как-никак, а жена живого классика,— Морозов вспомнил, как встретил Елену этой зимой в Доме Литераторов и как сразу не признал в роскошной парижанке золушку-бессеребренницу Елену Соколову. Да и Жорка был другим — ходил черт знает в чем, как хиппи, и не от моды — другой раз жрать нечего было. А сейчас барин. Живот! Щеки породистыми брыльями! Подбородочек на английского лорда!..
— Сит даун плиз! — прервал его размышления Соколов. — Милости прошу, господа! Кушать подано! — Жорка картинно поклонился.
... Черт возьми, ему не хватает только полотенца на согнутой руке — и точь-в-точь ярославский половой из купеческого ресторана. Только помордастей, пошире во всех местах, чем продувной официантишка, согнувшийся в три погибели перед богатым гостем...
— Айн момент! — новоявленный половой совершил какое-то замысловатое движение, и на столе среди закусок оказалась фляжка с коньяком.
— Айн момент! — тоже почти магическое движение обеими руками, и рядом с коньячной фляжкой крошечными пеньками встали две чарочки-наперсточки.
— Серега! Черненые! Устюжская работа! Считай — привет тебе от Вологодской земли, где начали мы с тобой когда-то все наши северные походы. Помнишь: Сокол, Чашниково, Воробьево, Бирюково?— А дальше по тракту до Устюга мы с тобой так и не добрались. Не добрались даже до Тотьмы. А ведь там, задолго до нас, запела чистая душа Коли Рубцова... Сказка!
Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племен!
Как прежде скакали на голос удачи капризной,
Я буду скакать по следам миновавших времен...
Соколов отпрянул в сторону, отделился от стола, закусок, самовара, от только что извлеченных пеньков-стопочек, которые и вызвали у него этот поток ассоциаций — он уже был вне всего, что окружало — был только он один посреди избы, озер и лесов. И были стихи:
Боюсь, что над нами не будет возвышенной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, все понимая, без грусти пойду до могилы...
Отчизна и воля — останься, мое божество!
— Ты знаешь, Серега, я ведь был там, у Рубцова, прошлой осенью. Вологда принимала щедро, везла на пароходике. Были стихи. И был певец. Удивительный певец! Раньше никогда не слышал. Тюрин. Николай Тюрин. Никаких претензий — только поет. Получает где-то в хоре какие-то гроши — рублей сто вроде. Чтобы платить за квартиру, где-то оформляет какие-то стенды — чудно рисует. Какие у него акварели! И поет! Поет русские народные. Поет романс девятнадцатого века, но в чистоте, ясно, хорошо. И как везде в России, никто не приглашает русского человека на профессиональную сцену. Я потом звонил в Минкультуру, в филармонию. Глухо! Молчат, будто что-то все время пережевывают... И вот река Сухона, пароход — и вдруг слышу поют. Поют вот это самое:
И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье, меж этих померкших полей,—
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!..
— Я на цыпочках туда... И там песня! Ох, какая, Серега, песня! Вот эти слова с голосом, с гитарой, с речной тишиной, с севером — единое целое!.. Магнитофона с собой не было — не взял дурак. Жалею. Честное слово. Но Тюрина найду! Надо что-то менять, что-то делать! Нельзя, чтобы русская песня зарабатывала себе на жизнь карикатурами в стенной газете! Нельзя!
Соколов устало опустился на лавку. Экспрессия длилась недолго, но он запыхался...
... Тяжел стал, сердечко в жирке, да еще коньячком его подгоняет,— Морозов хотел это сказать вслух, но не сказал... Рубцов, певший свои песни в сиротстве и нищете, Тюрин, поющий без претензий, и Министерство культуры, пережевывающее вместе со своими филармониями престижные бутерброды, достали его — достали тот вечно гудящий в нем огонь несмирения с ложью, и он отрешенно махнул рукой:
— Ладно, Жора, пей чай. Конец этой черноте придет. Либо у народа будет песня, либо не будет народа.
— Давай за народ, за народ-феникс! — Соколов накапал из фляжки в стопочки-пеньки и одну из них на ладони подал Морозову. — Будем!
Морозов подержал стопку, согрел серебро теплом руки. Он знал раньше, что вот так вот согретый рукой коньяк мягче и теплей принимается тобой. Жора накапал себе в стопочку еще раз, потянулся фляжкой в сторону друга, но увидел непочатую стопку.
— Ты что, Серега? Неужели и тут запрет? Неужели ни грамма? Ну, даешь! Это с каких же пор? После Постановления?
— Нет, раньше.
— И как — правда ни грамма? Интересно...
— Ну, тебя к черту — потом как-нибудь расскажу...
— Сердце? Желудок? Печень?..
— Да нет. Тут пока — тьфу-тьфу-тьфу — все в порядке. Надо было. Пьют вокруг. Мертвую чашу принимают, как ты любил говорить. Надо было все это обрубать. Ну, вот я и начал с себя. А там дальше... Расскажу как-нибудь...
— И не тянет? Не мучает?.. Коньяк в серебре, согретый рукой. Под икорочку, под лимончик!.. Нет? Удивительно... А я грешен! Грешен — не отказываюсь, как от маленькой радости жизни,— Жора опрокинул в себя еще один серебряный наперсточек и вдруг поперхнулся. — Черт возьми! Сглазил что ли себя? Или — это ты? Со своими примерами!.. Кха-кха... Вот черт — и вдруг не пошла. Серега, ты чего смеешься? Я ведь правду говорю — не пошла,— Жора еще больше закашлялся и побежал к умывальнику. От умывальника вернулся красный, с красными глазами и, тяжело дыша, опустился на лавку:
— Давай скорей чай! А говорят, что раньше не умели от вина отводить — мол, наркологов не было. Все было! О-ох,— его еще раз передернуло и на этот раз отпустило совсем. Он прихлебывал чай жадно, смачно. — А сахар вприкуску у тебя есть? Такой, чтобы с одним кусочком выпить пять стаканов? Нету? Жаль! Плохой сахар — не тот. Как вся нынешняя жизнь. Точно, Серега! Эрзац-жизнь. Помнишь парк культуры имени Горького?... Выставку трофейной техники там открыли. Мы с тобой туда вместе сколько раз бегали. Мне тогда очень"рама" нравилась — самолет-разведчик с двумя фюзеляжами. А ты все норовил в немецкий "тигр" забраться. А помнишь, был там павильон с разными эрзац продуктами? Так и писалось везде: "эрзац-хлеб", "эрзац-масло"... Смеялись все: "Ясно, почему фрицу против нас не вытянуть — у него эрзац-масло одно." А ведь, Серега, эрзац-масло — это всего-навсего наш сегодняшний маргарин. А эрзац-хлеб? Ты думаешь мы сегодня хлеб печем из такой же муки, из какой пекли раньше? — Жору вдруг понесло в сторону муки, твердых и мягких пшениц, в сторону наших недоборов с земли, но и это, как все, что родилось в нем сегодня, было неглубоко, не для того, чтобы разобраться, вникнуть в суть, найти правильные пути — все это было лишь трепом в общем-то достаточно информированного человека.
... Нет, брат Соколов, что-то ты несешь не то, что у тебя там, за этими словесами лежит, мучает, просится наверх, но боится выйти,— Морозов не поддержал жоркиной эрзац-темы, он все еще видел перед собой тот осенний тракт Вологда–Великий Устюг, по которому они добирались когда-то в свой первый северный лес. — А ведь там, в лесной глухомани, которую для себя еще только открывали столичные охотники, уже был, мучился и пел свои песни тот же Рубцов:
В горнице моей светло
От этой ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...
Эта память-видение давнишней Вологодской земли, забытой, казалось, тогда и богом, и правителями, у Морозова могло продолжаться долго... Что говорил, по какому поводу махал перед ним руками его нынешний гость, он не знал — он только отмечал потусторонне продолжавшуюся жоркину нездоровую суету. Но вот Соколов перестал суетиться и стих. Морозов расстался с сентябрьской вологодской дорогой середины пятидесятых годов и увидел вдруг перед собой совсем другого Соколова — это был грешник перед исповедью... Осунувшееся лицо и поднятые в мольбе глаза, пораженные неизбывной болью...
— Серега, ты помнишь собаку, которую ты застрелил тогда в лесу, при мне?..
Морозова будто ударило где-то внутри, передернуло болью, как от незаживающей раны... Это была не самая лучшая память, которую Соколов мог ему вдруг предложить...
Собак за свою жизнь он стрелял два раза и оба раза своих, преданных ему до конца. Последний раз он застрелил Бурана, двухгодовалого кобеля-лайку. Бурана трехмесячным щенком он унес в лес, в охотничью избушку, вырастил и выучил там. Они жили с полгода только вдвоем, и казалось, не было тогда на земле другой более верной связи между живыми существами, чем их связь-дружба с Бураном.
Буран был чистокровным породистым псом и, как все чистопородное, специально выведенное, имел куда меньше спасительных путей в жизни, чем разномастные деревенские собаки. Этих-то путей к спасению и не хватило ему, когда пришла болезнь чума... Сначала казалось, что собаку удалось выходить — болезнь случилась в Москве и на помощь пришла ветеринария. Но и ветеринария не смогла избавить охотничьего пса от жестокого испытания жизнью — от чумы у собаки осталась эпилепсия. Приступы падучей повторялись все чаще и чаще. Ни о какой охоте с Бураном не могло уже быть и речи. И Морозову оставалось только ждать естественного конца. Кто-то рассказал ему, что собаки с такими болезнями сами уходят из дома и так где-то пропадают. Но Бурана Морозов вынужден был держать на цепи — он жил тогда у чужих людей и брать пса в комнату не мог. Да и сам Буран, вольный, таежный пес, не выносил заключения в четырех стенах. Даже тогда, когда Морозов тайком от хозяев заводил собаку в дом и укладывал ее на коврик у своей кровати, у него не было покоя — Буран озирался, искал выхода на волю и молча, одними губами, будто зная, что голосом нельзя выдавать своего присутствия в доме, поскуливал.
Каким он будет этот конец?.. В тот раз собака билась в судорогах часа четыре. Все это время Морозов стоял на коленях перед собакой, стараясь удержать ее, вернуть ей как-то разум и душу... Через день припадок повторился. Он начался с вечера и бил собаку всю ночь до утра. Рано утром к Морозову приехал ветврач, знакомый, добрый человек, и предложил отдать собаку — отдать, чтобы усыпить... Нет, он не мог отдать своего Бурана, не мог отдать доверенную ему жизнь в чужие руки... Нет, Морозов не был излишне сентиментален, он никогда не проливал слез по поводу птицефабрик и мясокомбинатов, давно научившись знать, что люди — существа плотоядные, и что животный белок был нам крайне необходим для нашей эволюции.
Ветврач деликатно уговаривал. Морозов молчал, ничего не зная. И может быть, на какое-то время все осталось бы так и дальше, если бы не хозяйка дома, где он квартировал. Просто и по-своему ясно она подвела итог всех сомнений: "А и нечего мучить ни себя, ни людей."
"Мучить себя" Морозов бы пропустил — он никогда не мучил себя, выполняя любой долг перед жизнью. Но вот "мучить людей" его ударило, ударило неожиданно, не дав приготовиться к защите... Он быстро сходил в дом, вернулся обратно с ружьем, поднял рывком за ошейник собаку, лежавшую без движения... И произошло чудо — собака встала, встала, правда, как-то странно, будто во сне, но встала и пошла рядом с ним... Впереди было два камня, рядом друг с другом, с щелью-хомутом между ними — прямо для головы пса. И пес сам ткнулся в этот хомут. Грохнул выстрел. В голову — точный выстрел охотника по месту.
Все, что было потом, было, как в тумане, в бреду. Он выкопал тут же могилу, похоронил пса, выстрелил вверх из второго ствола двухстволки, по-охотничьи сказав "извини и прощай" своему четвероногому другу... И все... Все, как положено... Кроме одного: Морозов не видел крови после выстрела... На белоснежной шерсти собаки не появилось после выстрела ни кровинки...
... А может, он жив?.. Может быть, выстрел прошел мимо?.. Может быть, промахнулся?.. И закопал живую собаку?.. — этот бред был все время в голове, не отпускал, не уходил.
Морозов сидел у окна и смотрел на улицу. И тут по улице в отряде деревенских собак, мчавшихся куда-то по своим делам, мелькнул белый высокий пес... Буран!.. Морозов выскочил на улицу: "Буран! Буран!".. Нет, это был другой пес...
Хозяйка дома, наблюдавшая эту сцену, так же ясно и просто, как выносила приговор собаке, оценила и эту ситуацию: "Отжил твой Буран, отжил."
Морозов не мог больше оставаться в этом доме... А Буран часто приходил к нему во сне. Приходил хорошо, покойно, без претензий и обид... Следом за Бураном были еще и еще собаки, разные и другие, но Бурана у него уже никогда больше не было.
Много лет спустя Морозов оказался в тех местах, где когда-то похоронил своего Бурана. Он хорошо помнил тот дом, где жил, и тот пустырь, где были два камня рядом с могилой его собаки. Дом он нашел, но пустыря и камня уже не было. Камни куда-то убрали, а пустырь отгородили забором и залили асфальтом, устроив тут стоянку сельскохозяйственной техники... Могилу Бурана он не нашел...
Так Морозов застрелил свою вторую собаку. А первую застрелил при Жорке, тогда в лесной деревушке, в ноябре, когда снег закидал все тропы и дороги, и легкого пути из леса к людям уже не было. У них не было к тому же и лыж. Продукты кончились, и надо было что-то решать...
Жорка явился тогда к нему, в лес, чтобы уговорить и увезти обратно в Москву, к стихам, к издательствам, к "большой литературе". Уговаривать Морозова пришлось долго — зима опередила "переговоры", и Жорка, не выдержав урезанного пайка, сдал и в плаксивой истерике ежечасно требовал бросить все к чертовой матери и уйти тут же из леса к людям.
У Морозова были свои планы — он оставался здесь на зиму, собирался охотиться и менять решение не желал. Но идти к людям, к магазину надо было все равно. Морозов и не заводил бы разговор, кому идти — он бы сбегал туда и обратно, но вот беда, у него была собака, еще не подросший как следует щенок Верный, привязанный к нему, как нитка к иголке. И щенок болел. Его подкараулила та же самая чума, которая потом, после подкараулит и Бурана.
Кое-как, без лекарств и врачей Морозов выхаживал собаку, больше заботой, теплом, вниманием, лаской помогая Верному выжить, побороть болезнь — ведь не какой-нибудь комнатный лорд, а деревенский псенок, в котором заложена, обязательно заложена большая воля к жизни.
Верному то легчало, то опять он почти отходил. Он все время мочился, но не мог мочиться в избе и постоянно просился на улицу. Морозов выносил его во двор и тут же, кутая в телогрейку, нес обратно, чтобы не простудить. И Верный мог бы и выжить при такой заботе...
Конечно, о походе за продуктами не было бы и разговора, если бы не Верный... Он мог бы остаться дома с Жоркой — Жорка выносил бы его на улицу, но Жорка наотрез отказался оставаться один. Он боялся таежного одиночества и не мог допустить его к себе даже на сутки — он прямо и обезоруживающе заявил Морозову: "Боюсь! Да боюсь! Боюсь! Мне страшно!"
Выходило: идти к людям только вдвоем. А Верный? Он не мог оставаться один. Кто бы выносил его на улицу и приносил домой? Кто бы давал ему теплое питье?.. Брать с собой?.. Безумие — еле живая собака просто не смогла бы идти...
Все это строго, по полочкам Морозов разложил перед другом. Мол, так и так. Либо ждать, когда собака придет в себя, а пока питаться рыбой и дичью, либо тебе, Жорка, надо взять с себя в руки, побороть страх и остаться с собакой... Или же пойти к людям самому.
И Жорка тогда сорвался в истерику.
— Нет! Нет! Нет! — орал он безумно, дурно, все время шаря рукой по стене, где висело его ружье. — Нет! Нет! Нет! Тебе твой паршивый пес-ублюдок дороже человека! Дороже людей! Дальше шли уже ругательства, угрозы. Морозов молча ждал, когда этот бред кончится... Может быть, стоило поступить по другому: сгрести Жорку в охапку, набить морду и приказать сидеть и ждать его возвращения... Морозов думал об этом, но друг его был в таком состоянии, когда трусость, страх полностью исключают разум. Они были вооружены и рукоприкладство могло тут закончиться выстрелами...
— Тебе твоя паршивая собака дороже человека, друга! Дороже меня!..
Дальше Морозов уже ничего не слышал. Он схватил старый валенок и запустил им в собаку, сжавшуюся у печки. Верный взвизгнул и бросился к двери. Морозов схватил со стены ружье, распахнул дверь и ногой выбросил собаку на улицу... Потом грохнул выстрел... Морозов вернулся, кинул на постель ружье и приказал: "Собирайся! Пошли!"
Рюкзак, телогрейку, шапку он вышвырнул Жорке на улицу. Прикрыл батажком дверь и по снежной целине напролом пошел от дома к лесу.
К людям они успели еще до закрытия магазина. Затем сидели в избе за столом. Жорка еще молчал, но ел много, с жадностью. Морозов вылил в себя стакан водки и лег на лавку, накрыв голову ватником. Ночью ему снился сон... Он возвращается домой в деревушку с продуктами, с Жоркой. Вот его дом, крыльцо, дверь, припертая батажком... И у двери, прижавшись к ней, сидит собака... Верный! Живой! Не убитый! А только виноватый, что так все вот получилось... На шее у Верного, чуть пониже головы, Морозов видит, видит явно, живо, три, еще не затянувшиеся до конца плешинки-раны, следы от его трех картечин...
Морозов вскакивал в этом дурном сне, вытирал с лица холодный пот, пил воду, снова укрывался с головой ватником , и снова к нему являлся Верный, на крыльце дома, прижавшийся к двери, живой, не убитый, а только виноватый, что так все вот получилось... И три плешинки-раны, следы картечин на шее...
Домой он возвращался, как во сне, шел так же, впереди Жорки, нес рюкзак с продуктами. Шел тяжело, но шел, чтобы увидеть на крыльце свою собаку...
Собаки на крыльце дома, конечно, не было. Он наведался в кусты, где оставил Верного — тогда он не закопал его, не успел, собирался это сделать сейчас, сегодня, когда вернулся, но под кустами собаки не было. Не было нигде. Но не было и следов — после них на деревню опустилось новое белое покрывало густого снега и скрыло под собой все прежние следы... Скорее всего убитую собаку утащили какие-то звери — вокруг все время бродили волки.
О своем сне он никогда никому не рассказывал. Не говорил ничего и Жорке. Жорка немного отъелся, посмелел и вскоре Морозов отправил его в Москву, отправил добро, открыто, ничего не держа за душой, пожелав легкой дороги и постаравшись забыть то худшее, что вдруг явилось между ними... И теперь Жорка сам вот здесь, двадцать лет спустя, возвратил ему его самую больную память...
— Серега, ты помнишь собаку, которую ты застрелил? Ее, кажется, звали Верным? — Соколов еще раз повторил свой вопрос...
— Ну, помню. А для чего сейчас тебе эта память?
— Серега, я видел Верного...
— Где, как?— — не выдавая ничуть своего напряжения, будто для порядка спросил Морозов.
— Недавно... Во сне... Видел, как мы шли домой от людей... Помнишь — с продуктами?.. Явно так вижу... Подходим к дому. Дверь. Твой батажок... И у двери щенок. Живой . Прижался к двери. И на шее три дырочки, как от картечи. А я стою и думаю: как же так — как это раны успели за одни сутки зарасти?.. Проснулся — бьет меня страх. Кричу Ляльке. Лялька вскочила: что, как?.. Я ей рассказываю: серегину убитую собаку видел, которую он убил тогда в деревне, из-за меня убил. Живая она была, живая! А сам, Серега, реву, ревмя реву... Лялька лекарства, капли — не могу — рыдаю. Никогда, Серега, так не рыдал! Никогда! Поверь... Мать хоронил, слезы все проглотил, не взорвался, не вылил боль. А тут из-за собаки реву...
Морозов сидел пораженный, убитый этим признанием... Как же так, ведь я никому ничего не говорил. И точно такой же сон у Жорки. Двадцать лет после случившегося... Чертовщина! Идиотизм!.. Наверное, я когда-то ему трепанул... Нет, не было, не мог...
— Слушай, — Морозов остановил друга, — а ты до этого от меня никогда про такой сон не слыхал?
— Нет! А что?..
— Ничего... Совесть это в тебе, Жора, ожила. Долго спала и вот ожила. Это к лучшему, — это все, что Морозов мог сейчас выдавить из себя— выдавить, не раздувая собственной боли и не обидев, а успокоив друга...
— А ты знаешь, Серега, это не все... Утром звоню Володьке Быкову — он сам родом из вятских лесов. Спрашиваю: "Володя, ты в снах все должен понимать — как никак по вятским лесам у вас и сейчас всякая чертовщина небось ведется. А тот хохочет: "У нас брат Георгий, в каждой деревне снам свое толкование. А тебе что, страшный сон приснился?" Так и так говорю: видел во сне ожившую собаку. И кровь на ранах видел. Сергея Морозова собака — он ее из-за меня застрелил. Признался ему во всем. Володя и говорит: "Это тебя чья-то родная душа к себе позвала. Сама явиться не посмела — обидел ты ее, значит, вот собачку и послала..." Звоню твоим, спрашиваю: так и так, мол, где Сергей, в здравии ли?" Сын отвечает младший: "Папка на север поехал, посмотреть, где реки собираются с севера на юг переворачивать..." Ну, думаю: живой-здоровый, раз дерется за землю — тут о твоих подвигах такого, брат Сергей, понаслышаны... Так вроде и обошлось... А тут следом Париж. Назавтра салон мадам Корниловой. Она нашего брата на французский переводит и издает... К мадам завтра. Поздний вечер. Ложусь спать. Сон не идет. На душе вроде и тихо, и забот никаких особых, а нет сна — то забудусь, то снова за окном французская столица. А забудусь, провалюсь куда-то и вижу глаза: большие-большие и всю душу из тебя вынимают. Я верчусь, ухожу от этих глаз и не могу. И снова просыпаюсь. Снотворное пить не хочется — от него голова утром болит. Снова стараюсь уснуть, внушаю себе, до тысячи считать принимаюсь. И снова забудусь и тут же глаза. Знакомые, а чьи не могу понять. И только к утру разобрал: Серега, твои глаза меня ночью в Париже мучили... Ну, думаю: то собаку дружок посылает, то сам явился — достал все-таки, в Париже, а достал. И что же ты думаешь: сон в руку!
— Мадам любезна. Показывает французские книжные новинки. Все прекрасно. То да се. А потом, как огорошила: "А вы господин Соколов, не знаете ли такого русского писателя Морозова, который живет в лесу и, как Сергий Радонежский, делит пищу с медведями?" Ну, тут я, Серега, чуть вслух не закричал по-российски: мол, друг это мой! лучший друг! сегодня, мол, как раз во сне его видел!.. А мадам продолжает: "Я недавно получила в подарок книжечку Морозова. Она для детей, но очень глубока. Здесь совсем иное представление о природе. Тургенев когда-то объявил природу мастерской — помните, у Базарова "природа не храм, а мастерская и человек в ней работник" ? Надо сказать, что мадам — баба почти русская, из наших, из бывших — отец у нее из первой эмиграции. Поэтому она кое-что в наших делах смыслит... Итак, мадам продолжает развивать свою мысль: "Потом мы, значительно разрушив нашу мастерскую-природу, стали присваивать природе статус храма — мол, чур, заповедано! Но храм — это храм, это место, куда приходят для очищения. А грешат и пачкают в другом месте. А что это такое, другое место? Это разве не природа?.. Значит, давайте из какой-то части природы устроим храм-резерват, а ко всему остальному попрежнему будем относиться, как к полигону для испытаний на выживаемость? Так ли?.. Так вот ваш мудрый Морозов (это я, Серега, все ее слова передаю, а не свои) всем своим творчеством утвердил наше новое качество жизни: природа — это храм-дом, здесь мы живем, мастерим и здесь же молимся своим богам. Вы знаете, это очень спасительно и, главное, очень вовремя для всей сегодняшней жизни... Мол, нечего надеяться на резерваты, где на всякий случай будет храниться природа — порядок нужно хранить всюду. Храм-дом — это очень много! И снова наша с вами Россия приносит миру идеи спасения!.. Я тут же стала искать повсюду книги Морозова. И нашла. И представьте, все это написано не сегодня, не вчера — все это Морозовым сказано давно, сказано ясно, понятно. Как мы проглядели? Или в то время еще не были готовы к работам этого писателя?.." И она показала стопку твоих книг! Серега, я виноват перед тобой — я и не знал, что у тебя уже целая библиотека. И не избранных, не переизданий — ты мыслишь, мыслишь все время! Ты живешь!.. Вот тут-то мне и объяснились твои глаза прошлой ночью...А что я? Ты знаешь, как страшно однажды спросить самого себя: "А что ты сделал?" А если этот вопрос задаешь себе не в самом начале, не в середине, а уже тогда, когда, считал, что дошел, добрался, победил?.. Так вот мадам... просила тебе передать, что она с большим удовольствием и не по разу прочитала твои произведения и что будет их переводить... Сначала, конечно, для журналов, чтобы приучить к тебе публику. А затем книги! Понимаешь: книги во Франции, в Европе!
Морозов молчал, никак особо не принимая эти известия — у него давно были другие заботы: ему мечталось написать книгу для детей, книгу о земле, о лесе, о воде, написать книгу, которую дети стали бы перечитывать и не один раз и которую потому можно было просить издать тиражом побольше.
— Ты что не радуешься? — завершил Соколов рассказ о парижских событиях. — Или тебе и этого мало? Тогда хочешь последнее?
— Валяй, — Морозов налил себе уже холодного чаю, но вставать и кипятить самовар сейчас, после всего услышанного и, честно говоря, тряхнувшего его очень здорово, просто не хотелось.
— Так вот валяю дальше... Москва. Лялька где-то в бегах. Нинуха в своей комнате что-то соображает свое. Учится неплохо. Как мать — будущая филологиня. И как мать — никакого желания торчать на кухне...
...Ну, наконец — признался, почему любит кухню...
— Дверь к Нинухе приоткрыта и слышу оттуда жесткий мужской голос с магнитофона, — Жора наклонился к чемодану, стоявшему тут же, у стола, и положил на стол аккуратную коробочку портативного магнитофона. — Послушай! Вот под этот самый голос сидит и балдеет моя дочура, студентка МГУ.
Соколов нажал кнопку:
"В связи с обсуждением проекта переброски части стока северных рек на юг меня крайне беспокоит та расточительность, с которой мы относимся к земле. Логика этой расточительности возвращает нас в те времена, когда наши предки знали только подсечную форму ведения сельского хозяйства. Кстати, подсечное хозяйство, когда сжигали лес и на пепелище, щедро сдобренном минеральными удобрениями (золой от сгоревшего леса), сеяли лен, репу, было прекращено, например, в известном мне Пудожском районе Карельской АССР лишь в 1861 году по реформе о раскрепощении крестьян — т.е. все это было совсем недавно. Ни отсюда ли мы так лихо забыли сейчас большую половину сельхозугодий нашего русского севера, совершив в этом регионе злополучное сселение деревень?.. А ведь бросили мы тут прежде всего те самые, поручевые-поречные луговины, так называемые выкосы (покосы), с которых (и только с них!) собиралось то высококачественное северное масло, отдаленного родственника которого по столицам помнят еще до сих пор под именем вологодского..."
Жора чуть убавил звук и обратился к Морозову:
— Ну, как — узнаешь самого себя, господин Морозов, что отстаивает позиции храма-дома?..
Конечно, Морозов узнал свое выступление на конференции, посвященной проекту переброски северных рек. Действительно, все это он говорил — все это произнесено им. Но он не помнил, чтобы это выступление записывали — по крайней мере микрофона на трибуне перед ним не было... Значит, кто-то писал из зала... Надо же, — Морозов удивился искренне, — кого-то, значит трогает, раз записывают и слушают. Вот это уже хорошо. Это получше, чем парижский салон жоркиной мадам...
Соколов снова прибавил звук:
"Есть ли у нас ум? И остановимся ли мы когда-нибудь в своей расточительности первобытного земледельца? Победим ли мы когда-нибудь в себе того нашего предка, который видел перед собой только стену дремучего леса и мог подняться в единственной мысли: жечь и жечь этот лес, жечь каждый год и каждый год бросать отвоеванную огнем у леса пашню, чтобы создавать тут же новое пепелище. Ведь пепелище греет человека до тех пор, пока оно хранит в себе жар вчерашнего огня. Но завтра пепелище остывает, завтра от золы пожара человеку остается лишь выжженная земля, лишенная плодородия..."
— Ну, хватит, — Морозов махнул рукой на коробочку магнитофона.
— Нет, брат. Слушай! Раз наговорил, значит, слушай!
"... на мой взгляд, нам не хватает только желания как следует подумать, что же мешает нашему русскому северу производить высококачественное масло и мясо и выращивать по тридцать центнеров с гектара пшеницы, ржи, ячменя, овса, как это делают наши старательные соседи финны...
... нет сомнения, что препятствием тут только организационные меры...
... почему до сих пор не рассматриваются организационные вопросы на нашем Севере, в нашем так называемом Нечерноземье, в то время как на юге страны полным ходом идет поиск и внедрение новых форм ведения сельского хозяйства?.. А потому, что наши прожектеры сумели распространить заведомо ложную информацию о потенциальных возможностях севера — север интересует их лишь как полигон для ущербных проектов. Отсюда и складываются разные были и небылицы о хозяйственном потенциале региона, складываются с единственной целью — лишить русский север какой-либо инициативы...
... если к русскому северу добавить умно и по-новому организованное сельское хозяйство всей нечерноземной зоны (которая живет и мечтает о таких путях), то доходы от переброски северных рек на юг по части Продовольственной программы будут столь сомнительными, что законно встанет вопрос об ответственности наших прожектеров перед экономикой страны..."
Пожалуй, магнитофон еще мог говорить и говорить, но Морозов взмолился и Жора остановил ленту...
— Вот тут-то, Серега, я и сдался совсем. Услышал я тебя, посмотрел, как дочь моя тебя слушает, и стало мне тут действительно страшно! Сколько речей я всяких повсюду наговорил, на разных языках, а вот представил себя на твоем месте перед людьми, перед русским народом, увидел зал с открытыми родными лицами и испугался... Нечего мне им сказать... Поверь — это самое страшное для писателя, когда ему нечего сказать своему народу...
— Так ты сюда в глухомань за темами что ли приехал?..
— Погоди, Серега — не спеши. Не губи душу, будь помягче, ради бога... Сам же за исповедь все время стоишь, а другому в праве на исповедь отказываешь... Прости, если виноват перед тобой — виноват, конечно. В чем точно, не знаю, но виноват — точно. Прости, но помилуй, — Соколов опустил вниз глаза и что-то мешающее ему убрал пальцем со щеки...
Морозов все-таки не выдержал, дрогнул. Он готов был обнять друга, даже поцеловать, успокоить, но поднявшись из-за стола навстречу откровению, наткнулся на остывший самовар и заключил все только что сказанное и слышанное:
— Вот и самовар остыл... Сейчас новый согрею, брат Георгий. С дымом! Не электрический.
