От автора Моему замечательному земляку и настоящему мужчине Зие Бажаеву посвящается
| Вид материала | Документы |
- *Русская народная песня (баян), 81.37kb.
- «возмездие», 5692.71kb.
- Священник Александр Торик- воцерковление, 761.15kb.
- Илья немцов XXX гончар из модиина, 2524.44kb.
- Игрушки для мальчиков. Нужны ли куклы настоящему мужчине, 403.46kb.
- Оправдание добра. Нравственная философия, 758.85kb.
- В каждом мужчине обитают боги, 5684.21kb.
- Диля еникеева мужчина и женщина: искусство любви, 9797.01kb.
- Приведены психологические причины, способствующие возникновению различных заболеваний, 2274.83kb.
- Л. К. В лаборатории редактора содержание: от автора замечательному редактору, редактору-художнику,, 4159.25kb.
От автора
Моему замечательному земляку и настоящему мужчине Зие Бажаеву посвящается
Просматривая свои политологические работы годичной, двухгодичной и гораздо большей давности, я к своему удивлению обнаружил, что многие изложенные в них мысли, идеи, концепты, как ни странно, до сих пор не устарели.
В частности, когда около десяти лет назад я писал книгу “Невостребованные идеи”, мне представлялось, что те полузабытые и совсем забытые мысли выдающихся либеральных политологов, о которых шла речь в книге, очень скоро станут общими местами, тривиальностями, основой типичных политических технологий современной власти. Но время идет (идет, к сожалению, с невероятной скоростью), а эти идеи так и остаются невостребованными, не нужными ни обществу, ни власти.
По-прежнему забыты слова одного из основоположников фундаментальной политологии – Бориса Чичерина – о том, что уровень свободы не может быть выше уровня благосостояния. И постсоветские государства с трагическим упорством продолжают пытаться построить свободные и открытые общества на социальном пространстве, где профессор получает в месяц 30-40 долларов, а учитель – двадцатку.
Такой же невостребованной осталась мысль политолога мирового уровня Петра Струве о том, что уровень свободы не может быть выше уровня культуры. И мы опять же с упорством требуем свобод для людей, которые один раз в году держат в руках книгу, да и то детективную или кулинарную.
Ненужными оказались и критерии, по которым политического лидера можно отличить от политического вожака, харизматичность – от номенклатурщины, политическое хамство – от политической воли.
И уж совсем не дошли до адресата многие, уже лично мои, советы конкретным украинским политикам: о том, что недеяние в политике зачастую более эффективно, чем бессистемные, непродуманные действия; что умение терпеть является более высшим достоинством политика, чем умение наказывать; что власть не берут и не дают, а создают; что политика – это не искусство возможного, а наука оптимального, и т. д.
Исходя из всего сказанного я и решил собрать и переиздать те свои работы, которые не только не утратили своей актуальности, но и в некоторых случаях сегодня оказались более актуальными, чем вчера.
Kогда-то О. Генри сказал замечательную фразу: “Самым прибыльным бизнесом в Америке является экспорт свинины. Прибыльнее разве что только политика”. У нас в Украине, безусловно, политика превратилась в самый доходный, рентабельный вид бизнеса. Но это не значит, что в политике действуют только закономерности и правила бизнеса, но уже не действуют закономерности и правила собственно политической жизни.
В бизнесе и политике много общего. Но есть и принципиально различные вещи. Опытный ветеринар может, конечно, помочь человеку с расстройством желудка, но не в состоянии излечить его от неврозов. Подобным образом бизнесмены от политики могут, конечно, используя знания технологий купли-продажи, обеспечить тот или иной результат голосования или то или иное поведение парламента. Но вряд ли они способны к тонким собственно политическим технологиям, без которых не мыслимы эффективное и успешное построение гражданского общества и функционирование государства. Поэтому, несмотря на стремительную коммерциализацию нашей политики, мне все же кажется, что и фундаментальные политологические идеи, и маленькие открытия, касающиеся современной политической жизни, когда-нибудь могут все же пригодиться нашим политическим персонажам.
Хочу также добавить, что я не разделяю взглядов некоторых моих коллег-политологов, которые относят себя к правому или левому идеологическому спектру. Мне кажется, политолог должен всегда стараться выходить из двухмерного идеологического пространства в многогранный и полифоничный космос политического менеджмента.
В одном превосходном немецком фильме мне запомнились такие слова: «Верных идей, как бы они ни назывались – «правыми» или «левыми», не бывает, если им заставляют служить людей».
Люди действительно не должны отдавать свою жизнь ни строительству социализма, ни развитию капитализма. Люди должны служить только самим себе, своим страстям, эмоциям, украшению и насыщению своей быстротечной жизни. Те или иные политические идеи, какими бы красивыми они ни казались, хороши лишь до тех пор, пока они служат лишь инструментом для человеческих страстей, но не тогда, когда человеческие страсти пытаются подчинить этим политическим идеям.
И самое последнее: не верьте политикам, которые говорят, что они держат на своих плечах общество, государство или нацию. По одной из древнегреческих легенд Антей, устав держать на своих плечах Землю, взял и бросил её. Но с Землей ничего не случилось. Абсолютно ничего!
Автор выражает искреннюю признательность своим друзьям, коллегам, сотрудникам, которые интеллектуально, морально, эстетически помогли в работе над этой книгой: Юрию Пахомову, Мусе Бажаеву, Анатолию Пойченко, Николаю Ильчуку, Ласло Kемени, Наталье Сидоровой, Kатюше Пойченко, Руслану Фирсову.
Часть первая. ИСТОРИЯ
· Предисловие
· Борис Чичерин – предтеча российской политологии
· Петр Струве – защитник права и прав
· Михаил Туган-Барановский: победитель или жертва?
· Сергей Булгаков: политологические парадоксы
· Михаил Грушевский – президент и ученый
Предисловие
Невостребованные идеи
Наше общество мучительно пытается преодолеть пропасть, отделяющую кризисное настоящее от желаемого будущего. Но пропасть не только впереди, а и позади нас. Это – колоссальный разрыв преемственности в развитии духовной культуры, целого ряда наук. Особенно не повезло в этом плане политической науке. В конце XIX – начале XX века в России и Украине творила плеяда незаурядных политических мыслителей, чьи идеи легли затем в основу многих ведущих политологических школ Запада и почти полностью замалчивались либо вульгарно дискредитировались на родине. Даже сейчас положение мало изменилось. Осознав, наконец, что не может быть эффективной политики без высокоразвитого ее научного основания – политологии, мы зачастую стремимся с такой же готовностью «заглядывать в рот» зарубежным политологам, с какой ранее их поносили, начисто забыв о том, что отечественная политическая мысль в свое время задавала тон всему научному миру.
Эта часть книги – своего рода «воспоминание о будущем», попытка реконструировать невостребованные, к сожалению, идеи наиболее крупных российских и украинских либеральных политических мыслителей, идеи, которые, думается, крайне необходимы в наших сегодняшних политических исканиях и сомнениях.
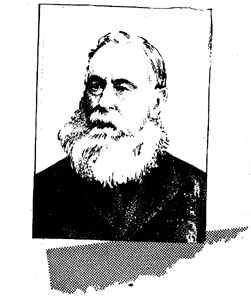
Борис Чичерин – предтеча российской политологии
Поэт в России, как сказано, «больше, чем поэт», зато ученый в России часто меньше, чем ученый. Поэт, как правило, – владыка умов, а ученому иногда приходится угождать владыкам, чтобы спасти саму науку. Наконец, российские поэты порой брали на себя миссию обличителей ученых, но ученые почти никогда не обличали поэтов.
В подтверждение можно привести следующую эпиграмму:
Палач свободы по призванью,
Палач науки по уму,
Прилгавший к ясному преданью
Теоретическую тьму,
Как ты ни гордо лицемерен,
А все же знай, Видок Тетерин,
Что ты в глазах честных людей
Доносописец и злодей,
Холоп и шут самодержавья,
Достойный тяжкого бесславья
Иль смерти немца Коцебу...
Итак – свершай свою судьбу.
В этой эпиграмме российский поэт Федор Иванович Тютчев дал едкую и гневную, но совершенно несправедливую оценку российскому ученому и политику Борису Николаевичу Чичерину.
Эпиграмма Тютчева, лишний раз показавшая, что и талант бывает слеп, вряд ли сильно уязвила Чичерина. Слишком много он испытал куда более сильных потрясений и трагедий. Хотя горечи он не мог не почувствовать и не мог в очередной раз не подивиться, насколько мало его понимают в любимой стране и плебеи, и вельможи, и просвещенные люди. Действительно, его фундаментальные труды по истории и теории политики канули в общественную и научную среду как в воду – никем не замеченные. Досадуя, что российское общество «пробавляется журнальными статьями», а серьезных научных трудов никто не читает, Чичерин вместе с тем надеялся, что на его родине когда-нибудь «снова пробудятся серьезные умственные и политические интересы»1.
Будем и мы надеяться, что это время уже наступает, что народ наш и его парламентарии все более тяготеют к серьезным политическим знаниям. А если это так, то наступает и время возвращения во всей полноте глубоких и ярких научных работ Чичерина, которые с полным основанием можно отнести к золотому фонду отечественной профессиональной политологии.
Б. Н. Чичерин (1828-1904) родился в семье блестяще образованного дворянина – Николая Васильевича Чичерина, игравшего заметную роль в хозяйственной жизни державы. Братья его достигли успехов на дипломатическом и политическом поприще. Сам же он всю жизнь пытался примирить, запрячь в одну упряжку два, считавшиеся непримиримыми, свои божества – науку и политику.
Науку он боготворил саму по себе, в силу внутренних, имманентных ей достоинств, к которым он относил прежде всего «самостоятельность начал, независимость от каких бы то ни было мистических представлений, строгость методы, ясность мысли, точность выражений»2. Политику же он ценил как прежде всего способ достижения (если, конечно, политика верна и научна) свободы личности. А то, как относился он к свободе, можно понять из следующего высказывания, явившегося своего рода его духовным заветом: «Есть и другое (кроме науки.– Д. В.) начало, столь же возвышенное и благородное, которому человек может посвятить свою жизнь и отдать свою душу; это начало есть свобода, составляющая самую сущность духовного его естества, сокровище драгоценное, особенно в самом заветном его святилище – в глубине совести, которая является высшим судьей и решителем всех нравственных вопросов. И от нее не откажется тот, кто полюбил ее не страстью юноши, который ищет в ней упоение необузданного разгула, а глубокою привязанностью зрелого мужа, который видит в ней оплот нравственного достоинства и необходимое условие истинно человеческого существования»3.
Хотелось бы обратить внимание читателей не только на содержание этого высказывания, но и на форму изложения мысли. Она отличается от доминирующей сегодня научной, а тем более околонаучной стилистики примерно так же, как музыка Баха от нынешнего «попса». Воистину, у Чичерина немного было шансов быть по достоинству оцененным своим временем – слишком мало он считался с расхожими мнениями, слишком он не терпел, по его собственному выражению, «популярничания» и «заигрывания с демосом», слишком был откровенен в изложении своих взглядов, часто не совпадающих со сложившейся интеллектуальной конъюнктурой.
Наука политики
Чичерин был одним из первых российских мыслителей, который попытался взглянуть на политику не как на искусство, т. е. сферу, где господствуют интуиция, вдохновение, лицедейство и неожиданность, не как на ремесло, где правят практический разум, жизненный опыт и здравый смысл, а именно как на науку. При этом его постоянное подчеркивание важности в политике фундаментальной теории, философских отвлеченных начал могло бы вызвать иронию – как потуги «книжного червя» вторгнуться в область живых общественных страстей, – если бы он сам не был блестящим политиком-практиком.
За спиной Бориса Николаевича – 20 лет напряженной и плодотворной земской работы, опыт председателя Московской думы, но выше этого опыта он все же ставил умение философствовать, мыслить теоретически. Наступал XX век с его культом реализма, эмпиризма, прагматизма, а он по-прежнему писал, что увлечение практическими соображениями в политике хуже мудрствования, философствования, оторванного от жизни.
Философской модой в политике становился материализм, уверенный в собственной непогрешимости и умеющий «припечатать» оппонента непарламентским выражением, якобы свидетельствовавшим о его близости к реалиям жизни. А Борис Николаевич вдруг изрекал такую тираду: «Если идеализм, витая в облаках, предавался иногда фантазиям и действовал разрушительно на практику, то в нем самом заключалась и возможность поправки: под влиянием критики односторонние определения заменяются более полными и всесторонними. Реализм же, лишенный идеальных, т. е. разумных начал, остается бессильным против самых нелепых теорий»4.
Кстати говоря, он совершенно не разделял существовавшую тогда точку зрения о том, что коренным недостатком социализма является его надуманность, базирование на неких иллюзорных основаниях. Напротив, он видел порочность некоторых форм социализма именно в слишком жесткой их привязке к рутинной, грубо утилитарной практике жизни народа, в их опоре на не всегда разумные потребности широких масс, в их направленности, среди прочего, и на то, чтобы подавить всякую самостоятельность отдельного лица и не дать никому возвыситься над общим уровнем.
Если суммировать вышеприведенные высказывания ученого, то они в принципе сводятся к положению, которое часто повторялось в нашей истории, но почти никогда не выполнялось: нет ничего практичнее хорошей теории. У Чичерина данная мысль звучала следующим образом: даже плохая теория для политики в конечном счете результативнее, чем бездумное следование практическим обстоятельствам. Только наука, «сознательная теория» может «дать ключ к систематическому устройству государственного организма», в то время как «чисто практический ход может привести к этому разве в продолжение многих веков»5.
Правда, Чичерин провидчески предупреждал представителей политической науки и политиков-практиков: «Наука тогда только идет твердым шагом и выверенным путем, когда она не начинает всякий раз сызнова, а примыкает к работам предшествующих поколений, исправляя недостатки, устраняя то, что оказалось ложным, восполняя проблемы, но сохраняя здоровое зерно, которое выдержало проверку логики и опыта»6.
Сегодня, когда мы с трудом и с неизбежными издержками восстанавливаем многие ветви отечественной политологии, подрубленные едва ли не от самого основания, эти слова читать особенно досадно.
Переходя к последовательному изложению политологических взглядов Чичерина, заметим, что многим они наверняка покажутся небезупречными. Однако, на наш взгляд, к ним правомерно применить слова Бориса Николаевича о том, что даже недостатки теории могут нести печать величия, если эта теория сформулирована великим человеком.
Государство
В свете бесконечных споров наших парламентариев о роли, функциях, обязанностях и компетенции государства чрезвычайно любопытными и насущными представляются размышления Б. Н. Чичерина об этом важнейшем субъекте политики.
Будучи по натуре человеком мягким, Борис Николаевич тем не менее был принципиальным противником концепции государства-филантропа. Невзирая на нападки оппонентов-радикалов, он последовательно отстаивал мысль о том, что государство не должно кормить, одевать, обогащать каким-либо образом своего гражданина, чтобы не воспитать у него комплекс нахлебника и не убить в нем инициативность. Все это человек должен желать сам и уметь сделать сам. Государство же лишь обязано защищать всеми доступными средствами честно заработанную собственность гражданина и самую его жизнь как главный вид собственности.
Итак, первая задача государства – это защита гражданина. Но есть и другая, более значимая государственная цель – созидание гражданина, достойного защиты, иначе эта защита теряет смысл.
Чичерин, которого ученые и поэты, социалисты и либералы обвиняли в бесчеловечности и государствопоклонстве, писал: «Разум указывает на общую цель государства так же, как он указывает и на все цели, определяемые общими, безусловными идеями. Эта цель есть гармония развития человека»7. Предваряя вопрос о том, как же и с помощью чего государство будет достигать этой цели, он тут же добавлял, что у него есть такое мощное средство, как воспитание гражданина посредством свободы и правды.
Веря в такие способности и возможности государства по отношению к личности и соответственно призывая политическую науку исследовать природу человека, его свойства и назначение, чтобы быть полезной государственной власти, Чичерин верил и в возможности последней в плане формирования народа. Споря с демократами, он пытался опровергнуть мнение о том, что государственная власть создается народом. Напротив, утверждал он, она сама создает из толпы народ, не только формируя, но и объединяя отдельных разрозненных людей в одно целое. При этом государственная власть, по его мнению, всегда остается средством, а народ – целью.
Тогда же Чичерин пришел к выводу, который подтверждается ныне на наших глазах: «Государство разрушающееся и государство возникающее держатся на одних началах; не имея достаточно крепости в собственной организации, они всю деятельность слагают на отдельные лица, сословия и общины»8. Правда, мы до сих пор не можем определить, разрушается ли, заново ли возникает наше государство, или с ним одновременно происходят оба этих процесса. Но в данном случае нас больше интересует вывод Чичерина о том, что и тот и другой процессы не могут затягиваться до бесконечности.
Всему есть свой конец: государство, которое зиждется на воле и компетенции отдельных лиц и локальных социальных групп, либо гибнет, либо все же создает стройную и целостную систему учреждений мощной исполнительной власти, пронизывающих все политическое пространство общества и способных заинтересовать все его элементы в исполнении воли государства. Третьего не дано.
Говоря о целях, задачах и сверхзадачах государства, ученый предупреждал, что они могут выполняться лишь при определенных условиях.
Во-первых, государству, правительственным органам не должны мешать слои, стремящиеся к насилию и анархии. Во-вторых, государство, проводящие реформы, не должны подстегивать нетерпеливые радикалы, требующие всего и сразу. Тем более если это касается государства, только-только встающего на ноги.
Поэтому столько обвинительной горечи содержалось в следующей оценке Чичериным тогдашнего положения державы Российской: «Долго сдавленное общество, выпущенное на свежий воздух, шаталось, как человек, вышедший из многолетней тюрьмы и впервые увидевший свет Божий. Бродячие элементы всплывали наверх и увлекали умы, в особенности молодежи. В то время уже издавались прокламации, взывавшие к истреблению всех высших слоев общества. Чернышевский держал в своих руках все нити этого движения, организуя и поджигая своих единомышленников. Последовавшие затем великие реформы могли удовлетворить и привязать к правительству разумных людей, но социал-демократам, мечтавшим о разрушении всего общественного строя, они казались ничтожеством»9.
Как ни странно, Чичерин не придавал большого значения проблеме разделения властей в государственном устройстве, т. е. той проблеме, которую сегодня многие считают ключевой. Он весьма пренебрежительно замечал: «Разделение властей по отраслям – на законодательную, исполнительную и судебную – составляет вопрос второстепенный, хотя и оно имеет свое значение. Верховная власть может быть неразделенная или раздельная, простая или сложная. Первая форма, в свою очередь, подразделяется на монархию, аристократию и демократию, смотря по тому, кому присваивается власть»10. Кстати говоря, монархию и демократию .он четко отделял от деспотии и охлократии, называя последние не формой и образом государственного правления, а болезнью государства, его неорганическим состоянием.
Касаясь вопроса о том, какая форма государственного устройства лучше, Чичерин полагал, что хороша любая, которая вытекает из всей истории и особенностей народа и, следовательно, лучше служит личности и обществу в целом.
Главное же, от чего зависят, по его мнению, устойчивость и прочность государства, – это от наличия в его теле определенных элементов. «Природа государства, как и всякого органического тела, – писал он, – заключает в себе элементы двоякого рода: постоянные и изменяющиеся. Без первых оно теряет свою личность, без вторых оно не может совершенствоваться. Первому соответствуют наследственные правители, второму – выборные; первому – недвижимая и неотчуждаемая собственность, второму – движимая и отчуждаемая»11.
Рассуждая о первом элементе, Чичерин не лукавил ни перед читателями, ни перед собой. Понимая, насколько его взгляды будут непопулярны в научной среде, он тем не менее с максимальной определенностью и честностью утверждал: «Просвещенный абсолютизм, дающий гражданам все нужные гарантии в частной жизни, содействует развитию народного блага гораздо более, нежели республики, раздираемые партиями»12.
Что касается другого элемента, то он заслуживает особого разговора, ибо тема народного представительства была, пожалуй, главной в теории и практике ученого.
Народное представительство
Чичерин однозначно считал, что народное представительство, выборность политического управления суть залог политической свободы. Самые теплые и вдохновенные слова в его политологических работах принадлежат именно представительским учреждениям, особенно земству. Сколько чувства, например, заключалось в следующей его тираде: «Едва ли в России найдется другая среда, которая бы до такой степени приходилась чувствам и потребностям порядочного человека. Это не собрание чиновников, всегда имеющих в виду, что думает и скажет начальство; это не съезд дельцов, заботящихся единственно о частных своих интересах; это не ученое сословие... это и не городское общество, где нередко выставляются вперед весьма необразованные элементы; наконец, это и не дворянское собрание, которое и по составу, и по способу производства дел представляет собой какую-то бестолковую сумятицу. Земство есть цвет дворянства, поставленный в самые благоприятные условия для правильного обсуждения общественных вопросов; это – собрание независимых людей, близко знающих дело и совещающихся о тех жертвах, которые они готовы принести для общей пользы»13.
В этих, казалось бы, продиктованных лишь эмоциями словах при внимательном прочтении обнаруживается целая концепция политического представительства. Из нее следует, что земцем (депутатом) может быть человек следующих качеств: дворянин; независимый от обстоятельств; компетентный; бескорыстный; поставленный в благоприятные условия для общественной работы.
На первый взгляд, есть все основания обвинить Чичерина в элитаризме, политическом аристократизме, но прежде познакомимся с логикой его рассуждений. А логика такова: в политике должны участвовать не те, кто желает, а те, кто может; не все граждане, а лишь наиболее способные и умелые. Исходя из этого он решительно отвергает идею тотального участия в территориальном и государственном управлении всех слоев населения.
«Но все ли граждане без различия должны быть призваны к представительству и достигается ли государственная цель возможно большим положительным влиянием массы?» – неоднократно делился сомнениями Чичерин и добавлял: «Вот вопросы, от решения которых зависит доброкачественность государственного устройства. Если цель государства состоит в гармоническом развитии человечности в народе, а первое условие для этого – свобода и безопасность (разумеем под именем последней правомерное принуждение, охраняющее свободу), – то представлять народ могут только те, которые, обладая наибольшей свободой, всего более ею дорожат, а вместе с тем имеют наиболее интереса в твердости общественного порядка, собственники»14.
К таким людям он и относил дворян – не в силу, конечно, их «голубой крови» или врожденных политических способностей, а потому что именно этот социальный слой обладал определенной образованностью и воспитанием. Но главное заключалось, по его мнению, в том, что дворяне были собственниками.
Вопреки бесчисленным своим оппонентам он считал именно собственность стержнем и «истинной связью политического тела». Поэтому-то, полагал Чичерин, политические права граждан должны быть соразмерны с их состоянием, и значительное имущество составляет первое условие, необходимое для представителя.
