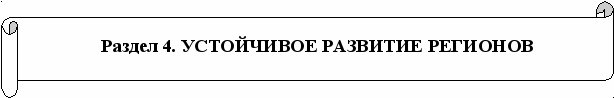11) [Текст]: научно-аналитический журнал (издаётся с 2007 г.)
| Вид материала | Документы |
СодержаниеНаправления развития инновационной деятельности Ключевые слова Какая модернизация нужна россии? Ключевые слова |
- 9) [Текст]: научно-аналитический журнал (издаётся с 2007 г.), 9826.34kb.
- [Текст]: научно-аналитический журнал (издаётся с 2007 г.), 3560.33kb.
- 10) [Текст]: научно-аналитический журнал (издаётся с 2007 г.), 5535.4kb.
- 8) [Текст]: научно-аналитический журнал серия «Право» (издаётся с 2007 г.), 15457.76kb.
- [Текст]: научно-аналити-ческий журнал (издаётся с 2007 г.), 4433.08kb.
- Мировой экономики, управления и права, 9699.86kb.
- Мировой экономики, управления и права, 4708.15kb.
- Анкета участника международной научно-практической конференции «актуальные проблемы, 62.51kb.
- Ежемесячный аналитический журнал, 26.94kb.
- Журнал издается с 1991, 2949.78kb.
П. В. Скрипченко
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ МОНИТОРИНГА
Аннотация: в статье обозначены основные направления развития инновационной деятельности учреждений профессионального образования. Обоснована необходимость создания учебно-научно-инновационных университетских комплексов и организации мониторинга инновационной деятельности образовательных учреждений на региональном уровне. Для организации мониторинга предложено использовать систему аналитических моделей инновационной деятельности, представленных структурными динамическими и факторными параметрами ее формирования.
Annotation: In the given article the main lines of development of innovation activity in vocational academic institutions are pointed out. The need to create scientific-academic-innovative university complexes and to organization the innovation activity in educational institutions monitoring on the level of region is proved. The system of analytical models of innovation activity represented by structural dynamic and factor parameters of its formation is advised to be used for organization of monitoring.
Ключевые слова: модернизация образования, инновационная деятельность, учебно-научно-инновационный университетский комплекс, мониторинг инновационной деятельности образовательных учреждений.
События последнего времени, вызванные негативными проявлениями глобального экономического кризиса, наглядно продемонстрировали, что национальная экономическая система испытывает острую потребность в ее модернизации, причем не только самой этой системы, но и всех сопряженных с ней сфер жизнедеятельности общества. Можно признать, что Россия вступила на путь построения «экономики знаний», основанной на инновационных технологиях, высоком научно-промышленном потенциале и интеллектуальной собственности, с ведущей ролью последней в обеспечении инновационности экономики. Связано это с тем, что устойчивое экономическое развитие на инновационной основе невозможно без повышения интеллектуального капитала, предопределяющего возможности эффективного создания, распространения и освоения инноваций. Отсюда неизмеримо актуализируется роль образования как такового и, особенно, высшего профессионального в формировании и развитии интеллектуального капитала общества и личности.
Впервые осознание этой важнейшей проблемы произошло с началом государственной модернизации российского образования, впоследствии оформившейся в приоритетный национальный проект «Образование». Этот проект, задающий стратегические и тактические ориентиры развития образования на всех его уровнях, во всех видах и направлениях подготовки, вызвал соответствующие изменения не только федеральной, но и региональных образовательных систем.
Логичным следствием данных изменений явилась трансформация институциональных условий, создающих базис для обеспечения высокого уровня и качества профессионального образования, целеориентированных на повышение эффективности использования интеллектуального капитала в национальной и региональных экономиках.
Роль профессиональных знаний и умений значительно возросла, а главной ценностью и стратегическим ресурсом развития нации был признан интеллект, интеллектуальный капитал. Образование стало рассматриваться как непрерывный процесс обучения человека на протяжении всей жизни.
Ключевыми направлениями развития российского профессионального образования в настоящее время определены: формирование федеральных научно-образовательных комплексов; конкурсная поддержка инновационных программ; создание в регионах интегрированных центров сертификации профессиональных квалификаций; внедрение модульных программ обучения; поддержка баз практики (путем кооперации с работодателями); привлечение работодателей к образовательному процессу на всех этапах (начиная с приема студентов и заканчивая выпуском).
Главная роль в реализации перечисленных направлений принадлежит университетам, являющим собой высшую ступень институциональных структур российского профессионального образования.
С позиций задачи участия в построении инновационной экономики институциональная роль университетов модифицируется. Сохраняя свое функциональное предназначение как производителей и распространителей знаний, университеты одновременно выступают поставщиками высококвалифицированных специалистов, разработчиками новых продуктов и технологий. «Современный университет – это уже не только образование и теоретические исследования, а комплекс, органично сочетающий в себе образовательную, научную и инновационную деятельность и вносящий реальный вклад в повышение региональной и национальной конкурентоспособности» [1, с. 119].
Социально-экономические реалии последних десятилетий XX в. породили новую функцию университетов – функцию инновационной деятельности и коммерциализации научных продуктов. Это потребовало соответствующих изменений внешней и внутренней среды не только самих университетов, но и всех взаимосвязанных с ними институциональных структур: органов государственного и регионального управления образованием (с позиций развития нормативной базы функционирования университетов); предприятий и организаций (как потребителей создаваемых университетами инновационных продуктов и высококвалифицированных специалистов); учреждений начального и среднего профессионального образования (как основных поставщиков абитуриентов); научно-исследовательских учреждений (как партнеров университетов по инновационной деятельности) и т.д.
Как следствие, процессы институциональной трансформации университетов происходят по нескольким основным направлениям: реформирование образовательной системы и образовательной политики; изменение стратегии и организации проведения научно-исследо-вательских работ; расширение источников финансирования университетов; коммерциализация взаимоотношений университетов с хозяйствующими субъектами всех сфер и видов экономической деятельности; реструктуризация внутренней среды университетов, в первую очередь организационной структуры и системы управления.
Вплоть до недавнего времени университеты рассматривались как высшая ступень профессионального образования и исследовательские центры, ориентированные на подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием и научные исследования, причем в первую очередь фундаментальные. Но под влиянием происходящих технологических, экономических, социальных изменений начал формироваться новый тип университета, осуществляющий «третью миссию» экономического развития в дополнение к образованию и исследованиям – вклад в удовлетворение социальных потребностей с целью улучшения регионального либо национального экономического положения, а также получения финансовых выгод университетом [1, с. 119].
В первую очередь появление нового типа университетов было обусловлено трансформацией их роли – производить практически полезное знание и готовить специалистов, обладающих полезными для общества навыками. Данная роль объясняется теорией трансформации традиционного университета в «предпринимательский университет», осуществляющий «третью миссию» экономического развития (теория «тройной спирали»). Основная идея теории состоит в том, что университеты играют главенствующую роль в процессах технологических инноваций в условиях развития общества, основанного на знаниях.
Отсюда очевидно, что в деятельности университетов появилась новая функциональная задача: осуществлять адаптацию инновационных разработок к условиям конкретного производства и рынка, что привело к созданию на базе университетов производственных и инфраструктурных подразделений. В задачи этих подразделений входит доведение результатов научных исследований до их производственного и коммерческого применения, трансфер практически готовых продуктов и технологий из университетов в реальный сектор экономики. Соответственно этому во внутренней структуре университетов стали создаваться организационно и экономически оформленные структуры самых различных видов: бюро интеллектуальной собственности, совместные исследовательские центры университетов и промышленности, научные и технологические парки, инновационно-техноло-гические центры, инновационно-промышленные комплексы, консалтинговые центры, промышленные исследовательские консорциумы и др.
Одной из перспективных форм новых университетских структур, на наш взгляд, является учебно-научно-инновационный университетский комплекс. Такие комплексы создаются на базе региональных многопрофильных технических и технологических университетов, осуществляющих профессиональную подготовку специалистов на инновационной основе, с максимально возможным привлечением работников и студентов к участию в инновационной деятельности. Реальность этого участия определяется тем, что такого рода образовательные структуры имеют необходимую для осуществления всех этапов инновационной деятельности (от зарождения идеи до ее практической реализации) материально-техническую базу (не только научные лаборатории, но и опытно-конструкторские, производственные структуры), устойчивые экономические связи с промышленными предприятиями, расположенными как в зоне территориального местонахождения университетов, так и в других регионах страны.
По нашему убеждению, учебно-научно-инновационный университетский комплекс следует рассматривать как сложную интегрированную систему, осуществляющую ряд технологически сопряженных видов деятельности (образовательную, научную, инновационную), органично объединенных инновационной ориентацией. Интегрированный характер учебно-научно-инновационных университетских комплексов, на наш взгляд, выступает объективным условием сбалансированности модернизационных процессов в сферах профессионального образования и науки, секторах региональной экономики и отраслях промышленности.
Итак, активизация инновационной деятельности к настоящему времени сформировалась как целостная атрибутивная характеристика функционирования и национальной образовательной системы в целом, и региональных систем профессионального образования, в частности. Вместе с тем, следует признать, что в региональном разрезе инновационная деятельность учреждений высшего профессионального образования имеет существенную дифференциацию как по содержанию направлений ее проведения, так и по масштабам, что обусловлено сохраняющейся дифференциацией социально-экономического развития регионов России.
Практика показывает, что инновационные процессы в различных образовательных учреждениях развиваются крайне противоречиво, а региональное образовательное пространство далеко не во всех его элементах может рассматриваться как инновационно-восприим-чивая среда. Данное обстоятельство порождает объективную проблему мониторинга инновационной деятельности региональных субъектов системы образования.
Мы считаем, что сложность организации такого мониторинга обусловливается отсутствием единых подходов к определению критериальных параметров оценки инновационной деятельности учреждений профессионального образования, существованием широкого разнообразия методик ее исследований.
Сама постановка проблемы критериев и показателей, характеризующих инновационную деятельность образовательных учреждений до настоящего времени является дискуссионной, что связано с незавершенностью формирования ее теоретического представления.
Как справедливо отмечает Д.И. Кокурин, «для проведения таких исследований (инновационных – примечание наше) особую значимость приобретает исследование категорий, характеризующих феномен инновационной деятельности…» [3, с. 7].
Проведенное нами исследование показало, что в научной литературе чаще всего в качестве категорий, характеризующих инновационную деятельность образовательных учреждений, традиционно выступают ее качественные параметры, определяемые посредством диагностики инновационных процессов. Однако среди исследователей не выработано единой точки зрения по поводу содержания критериев разработки целостной методики мониторинга инновационной деятельности как системного наблюдения за состоянием и динамикой инновационных процессов в их совокупности.
В качестве примера приведем точку зрения О.Г. Красношлыковой, относящей к числу «качественных критериев» инновационной деятельности: актуальность (соответствие инновации социокультурной ситуации развития общества); новизну (степень оригинальности инновационных подходов, своеобразное сочетание, комбинирование известного, представляющего в совокупности новизну); образовательную значимость (степень влияния инновации на развитие, воспитание и образование личности); общественную значимость (воздействие инновации на развитие системы образования в целом); полезность (практическая значимость инновационных процессов); реализуемость (реалистичность инновации и управляемость инновационных процессов) [4, с. 97-98].
Параллельно с приведенным составом «качественных» критериев Красношлыкова О.Г. дает состав «оценочных» критериев инновационной деятельности, относя к ним новизну, реальную полезность (получение практического результата), общественную и педагогическую значимость [4, с. 98-99]. Содержательный анализ обоих составов критериев исследования инновационной деятельности (и качественных, и оценочных) показывает, что их разработчику не удалось избежать дублирования отдельных критериев, например, новизны, полезности, значимости.
Нечеткая определенность состава оценочных критериев, которые должны выступать качественным «мерилом» для разработки количественных измерителей инновационной деятельности образовательных учреждений, не позволила О.Г. Красношлыковой сформировать систему количественных параметров ее оценки. Доказать это можно составом рекомендуемых автором «показателей» диагностики инновационной деятельности:
- показатели изменения содержания образовательного процесса: обновление содержания образования, обновление методов, форм работы, сочетание самоанализа, самоконтроля с самооценкой и оценкой партнеров до совместной познавательной деятельности;
- показатели воспитательно-образовательного процесса: самоуправление, сотрудничество преподавателей, учащихся, родителей в достижении целей обучения, воспитания и развития; совместное планирование и организация деятельности преподавателя и ученика как равноправных партнеров (ответственность за результаты воспитательно-образовательного процесса разделяется между учеником и учителем); высокий уровень мотивации участников педагогического процесса; комфортная вещно-пространственная и психолого-педаго-гическая среда для всех участников целостного педагогического процесса; право выбора содержания, профиля, форм получения образования учащимися;
- показатели оценки эффективности воспитательно-образовательного процесса (сравнение соответствия конечных результатов с запланированными результатами): высокий уровень воспитанности и обученности учащихся, отношение к учебе, отношение к труду, отношение к природе, отношение к общественным нормам и закону, отношение к прекрасному, отношение к себе» [4, с. 99-100].
По нашему мнению, в приведенном составе «показателей» далеко не все из них могут быть названы показателями как таковыми, тем более, количественно измеряемыми. Например, показатели «отношения» (к учебе, труду, природе, общественным нормам, закону, прекрасному, себе – третья группа «показателей») не подлежат каким-либо градациям оценки, так как являются строго субъективными с точки зрения личностного восприятия. Или «комфортная вещно-пространственная и психолого-педагогическая среда» (вторая группа «показателей») также в силу субъективизма ее восприятия не подлежит измерению.
Отсюда можно сделать вывод, что не все из рекомендуемых к использованию показателей обладают смысловым содержанием как параметры оценки инновационной деятельности, скорее, они раскрывают содержание условий для проведения данной деятельности. Кроме того, ни один из приведенных в качестве примера показателей не отражает специфику инновационной деятельности образовательных учреждений, заключающуюся в том, что ее результаты отложены во времени, а процессы, образующие данную деятельность, реализуются в текущем периоде. Это означает, что параметры мониторинга инновационной деятельности должны учитывать временной дифференциал между затратами на организацию и проведение данной деятельности и ее результатами.
Проблемным нам также представляется констатирующий характер рекомендуемых к использованию показателей оценки инновационной деятельности. В данном случае нами имеется в виду то, что рассматриваемые показатели невозможно оценить в динамике, как и выявить с их помощью влияние факторов, обусловивших динамику инновационной деятельности образовательного учреждения как целостности.
Изложенные обстоятельства, на наш взгляд, убедительно доказывают сложность формирования состава параметров оценки инновационной деятельности в сфере профессионального образования, которые могли бы составить систему количественных измерителей для организации ее мониторинга. Наша позиция по этому поводу состоит в том, что измерители инновационной деятельности должны быть представлены набором аналитических параметров, формализуемых в виде моделей, отражающих сущностные взаимосвязи между параметрами. В качестве примера такой модели можно привести модель рентабельности инновационной деятельности, определяемой соотношением прибыли, полученной от ее осуществления, к произведенным затратам.
Таким образом, исходная проблема мониторинга инновационной деятельности учреждений профессионального образования заключается в определении состава показателей. Мы полагаем, что одним из вариантов решения данной проблемы может стать формирование системы аналитических моделей инновационной деятельности, представленной структурной, динамической и факторной моделями.
Структурная модель должна включать в себя аналитические переменные содержания инновационных процессов, масштабы (объемные показатели) деятельности их участников. Примерами частных показателей структурной модели могут служить удельные веса объемов инновационного продукта, создаваемого образовательными учреждениями, в общем объеме инновационной продукции региона; уровень затрат, прибыли и других экономических показателей отдельного учреждения, осуществляющего инновационную деятельность, в совокупном объеме затрат, прибыли и т.д. всех участников инновационной деятельности в регионе и др.
Динамическая модель должна обеспечивать возможность исследования результативности, затратности, объемов инновационной деятельности в динамике, для чего могут использоваться приростные показатели, определяемые как в абсолютном (стоимостном), так и относительном (процентном) выражении.
Наиболее сложной по параметрам формирования является факторная модель, что объективно предопределяется широкой совокупностью факторов различной природы, оказывающих влияние на формирование, состояние и динамику инновационной деятельности. Следовательно, факторная модель должна одновременно учитывать источники, условия и факторы данной деятельности.
Таким образом, организация мониторинга инновационной деятельности в региональном профессиональном образовании позволит сформировать и систематизировать информационный массив о вкладе образовательных учреждений в формирование регионального инновационного продукта и на этой основе разрабатывать направления развития инновационной деятельности с учетом приоритетных потребностей региональной экономики.
Литература
1. Владыка М.В., Шанин С.А. Государственное финансирование инноваций высшей школы в парадигме устойчивого развития экономики России// Вестник БУПК. – 2005. – №3. – С. 115-122.
2. Жиц Г.И. Инновационный потенциал высшей школы: проблемы методологии и практики оценки // Инновации. – 2005. – №9. С. 85-89.
3. Кокурин Д.И. Инновационная деятельность. – М.: Экзамен, 2001. – 576 с.
4. Красношлыкова О.Г. Организация инновационной деятельности образовательного учреждения // Завуч. – 2002. – №7. – С. 89-100.
5. Россия-2050: Стратегия инновационного прорыва/ Под ред. Б.Н. Кузык, Ю.Я. Яковец. – М.: ЗАО Изд-во «Экономика», 2005.
6. Сегедина Н.Н. Проблема социологической диагностики инновационных процессов в региональной системе образования// Вестник БУПК. – 2006. – №3. – С. 319-323.
В. Н. Шапалов
КАКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ НУЖНА РОССИИ?
Аннотация: в статье рассматривается стратегия осуществления модернизации в современной России, которая должна включать не только политический, но и социальный аспекты. В статье подчеркнуто, что в России сложилась социальная база модернизации, основу которой составляют представители креативного класса. Важнейшим условием осуществления модернизации является диалог общественных организаций, бизнеса, креативного класса и государства.
Annotation: The article presents the strategy for modernization and improvement in Russia. This strategy should contain both political and social aspects. The author states that nowadays Russia has a social basis for modernization which lies upon the creative class. The main condition for successful modernization is a proper communication between social organizations, businesses, the creative class, and the state.
Ключевые слова: модернизация, политические и социальные аспекты модернизации, инновационная модель модернизации, диалоговая модернизация, креативный класс.
На протяжении 2009 г. необходимость осуществления модернизации превратилась в едва ли не главную тему внутриполитических дебатов в России. Интенсивность дискуссии вполне объяснима. Глобальный кризис и весь комплекс межгосударственных отношений, сложившийся после августовских событий 2008 г. фактически сделали невозможным дальнейшее существование базовой логики «медленного старта» модернизационного курса, которая, скорее всего, изначально и закладывалась в политическое планирование российской власти.
Обратим внимание на тот факт, что модернизация в смысле поиска новых ресурсов ускоренного экономического развития, преодоления отсталости и утраты конкурентоспособности оставалась доминантой развития СССР/России на протяжении практически всего ХХ в.
Если в 30-х гг. прошлого века Советский Союз экономически малоэффективным, социально разрушительным и политически репрессивно-мобилизационным путем смог осуществить индустриализацию, то следующий экономический и технологический переход в 1960–70-х гг. страна позорно пропустила. Сказались многие факторы холодной войны и «биполярности» мира, которые вместе с гонкой вооружений и «железным занавесом» работали, помимо прочего, как технологии антимодернизационного изматывания СССР. Хотя эти факторы и были существенны, но основной выбор между модернизацией и нефтяной иглой экспортно-сырьевой экономики был сделан самой советской системой.
После развала Советского Союза Россия на протяжении 1990-х и «нулевых годов» крайне долго и болезненно тестировала многочисленные предпосылки, сценарии и ограничители перехода к модернизационной стратегии.
Стимулирующий потенциал ценностей свободы, рынка и демократии, который мог восприниматься обществом как ресурс ускоренного социального и экономического перехода в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века был довольно быстро утрачен. Причиной стала не только и не столько глубина экономического провала и общественного кризиса, как такового, но и то, что российские экономика и политика 90-х решающим образом определялись как этап передела власти и собственности, тогда как стратегические задачи развития отошли на второй план. Социальная легитимность приватизации и рыночных преобразований была поставлена под вопрос.
Помимо прочего, дискриминации задачи развития способствовали также объективная слабость государства, центробежные тенденции, реальные угрозы частичного распада страны и необходимости удержания единства как посредством тотального торга с региональными элитами, так и реальным применением силы на Северном Кавказе.
Наметившиеся было признаки развития и модернизации страны (которые были достаточно очевидны, например, в «программе Грефа») постепенно эволюционировали в сторону формирования рентоориентированной сырьевой экономики. Свою роль здесь сыграли не только внутриполитические и социальные обстоятельства (от старта второй волны передела собственности и контроля над рентой до общественно-политических рисков глубоких реформ), но также и внешнеполитические и внешнеэкономические факторы.
Сочетание благоприятной коньюнктуры мировых сырьевых рынков, ускоренной глобальной экспансии финансовых спекуляций и «возгонки капитализаций», а также серьезно усилившиеся после начала операции США в Ираке в 2003-м эффекты «энергетической геополитики» создали в России предпосылки для усиления роли государства в экономике (в первую очередь в ТЭКе). Эти же факторы привели к принятию идеи «энергетической сверхдержавы» как стратегии развития, основу которой составили следующие направления: укрепление социальной и политической стабильности «общества перепотребления» и поддержание быстрых темпов роста; накопление финансовых резервов и увеличение капитализаций национальных компаний; доступ к новым активам и иностранным технологиям; расширение возможностей политического влияния в отдельных странах и регионах мира.
Оценивая итоги данного этапа развития, американский политолог Стивен Коэн подчеркивал: «Россия следовала по пути модернизации сверху в течение столетий. Иногда этот процесс шел безболезненно, иногда это была “модернизация через катастрофу”. Но никогда прежде результатом не становилось подобное возвратное движение вспять от современности» [3, с. 28]. Полемизируя с американской политической наукой, занимающейся Россией, в ее оценке современного периода нашей истории как «переходного» (от тоталитаризма к демократии и капитализму), Коэн характеризует данный период как процесс «демодернизации» России [3, с. 31].
Экономический кризис-2008 и последовавший за ним экономический спад в полной мере выявили проблемы низкой конкурентоспособности отечественной экономики, неудачи в ее реформировании и диверсификации, высокой зависимости от внешней конъюнктуры и сырьевого экспорта.
Таким образом, осознание того, что эксплуатация практически выжатых до дна экономических, социальных и даже политических ресурсов прошлого дальше невозможна, способно стать важнейшим стимулом для принятия идеи модернизации и выработки национального проекта ее осуществления. В этом случае наступающие «десятые годы» как раз станут уже не постсоветскими, а определят развитие на десятилетия вперед.
Важно подчеркнуть, что вопрос о возможности модернизации в России имеет не только политический, но и более широкий, социальный, характер.
В настоящее время в России существуют два подхода к модернизации.
Первый, который мы определяем как инновационную модернизацию, представляет собой продуктивное социально-экономическое, политическое, структурно-институциональ-ное, управленческое, технологическое, социокультурное, гуманитарное обновление современного общества и современного человека на основе опережающего, а не догоняющего развития, происходящее без жесткой мобилизации широких социальных слоев с целью перевода общества в новое качественное состояние. Это не просто компенсация отставания в каких-то сферах, но приведение всей страны в состояние максимальной адекватности условиям и требованиям современности, критериям конкурентоспособности в глобальном мире. Это создание привлекательной модели национального развития, способной стать примером для подражания, т.е. обладающей большим эффектом «мягкой силы». Это радикальное открытие страны через ее включение во множество глобальных инновационных и технологических цепочек и конкурентных площадок, полная интернационализация науки, системы образования и информации, превращение креативности людей в наиболее прибыльное для них, особо ценимое обществом и наиболее защищаемое законом качество. И в этом контексте модернизация – это национальная революция против самих себя.
Иными словами, необходима осознанная готовность принести интересы личности в жертву интересам развития общества в целом, ради России будущей. Речь, конечно, не о насилии, а о том, что инновационные и конкурентные факторы заменят в принятии решений факторы сугубо политические. При выборе данного варианта модернизации государство может выступать в качестве инициатора и поддерживающей силы, но не доминировать в этом процессе…
Второй подход – модернизация как средство для локальных улучшений в экономике, в области государственного управления и некоторых других сферах. Такую чисто технологическую модернизацию можно проводить вне рамок масштабного проекта и без политической составляющей. Основным актором модернизационного процесса в этом случае является государство, перераспределяющее финансовые ресурсы в пользу высокотехнологических отраслей и осуществляющее оптимизацию управленческого процесса. Общественная инициатива в этом случае полезна лишь как сугубо вспомогательный фактор. У этого подхода есть и свои преимущества – оно приемлемо для большинства политических сил. Ведь цель повышения конкурентоспособности страны в мировом хозяйстве за счет новых источников развития, на взгляд автора, мало кем оспаривается. В принципе, мы это уже проходили – политика советского времени (до горбачевского ускорения 1985 г. включительно), которая лишь пыталась оттянуть неизбежный обвал, не идя на решительные превентивные шаги. Последующие запоздалые и импульсивно проводимые политические реформы уже не могли изменить ситуацию.
Первый подход – это диалогичная модернизация, она невозможна без серьезного и уважительного диалога с обществом. Второй подход не исключает сценария авторитарной модернизации (хотя и не делает его единственным). Надо только учесть, что авторитарная модернизация может быть эффективно реализована при переходе от аграрного общества к индустриальному. При трансформации индустриального общества в постиндустриальное авторитарные методы становятся архаичными, «ручное управление» все более вытесняется более современными правилами и технологиями. А военная составляющая приобретает вторичный характер – точно так же, как «жесткая сила» постепенно уступает место «мягкой». В этой ситуации достоинства авторитарной модернизации исчезают.
Инновационная модель модернизации опирается на свободную волю, инициативу и конкуренцию граждан правового государства, воспринимающих модернизацию как ценность. Такая форма модернизации является особенно важной, по сути, единственно возможной на постиндустриальной стадии развития. Индустриальные модернизации могли производиться сверху, путем мобилизации многих тысяч людей с лопатами, которых можно было согнать на строительство города, канала, завода. Постиндустриальная модернизация высоких технологий нуждается в творцах, в инициативных людях. Поэтому если постиндустриальная модернизация появится в России, то только как либеральная.
Исторический опыт показывает, что любые социально-политические и экономические модернизации могут рассчитывать на успех при наличии как минимум трех условий: во-первых, целей развития, то есть артикулированного представления о том, куда и зачем страна и народ должны идти, во-вторых, проекта реформ, то есть маршрута движения, и в-третьих – субъекта, иначе говоря, локомотива – мотивированной социальной группы, класса, этноса или иного амбициозного и пассионарного сообщества, которое является главным проводником инноваций и на которое возлагаются все надежды на обновление страны и государства.
Как российский, так и мировой исторический опыт наглядно доказал, что модернизации, не подхваченные обществом, не защищаемые обществом, не ставшие ценностью для него, быстро обрываются, сменяются авторитарными контрреформами, а в ряде стран (например, в Иране в эпоху Белой революции) верхушечные и навязанные модернизации приводили к взрыву фундаментализма и радикализма, чего нельзя исключить (возможно, в меньших масштабах) и в России.
В то же время международные кросскультурные исследования, проводимые в 2005-2007 гг., показывают, что граждане бывших социалистических стран Восточной Европы отличаются от других европейцев по ряду фундаментальных признаков. Они проявляют наименьшую готовность уважать законы. В этих странах самый низкий уровень включенности людей в институты гражданского общества (в 5-6 раз ниже, чем в среднем в Европе). Эти же страны соревнуются между собой за лидерство по недоверию к национальным институтам власти – подчеркиваю, институтам, а не персонам [5]. И все эти особенности объяснимы. Если порядок обеспечивается не в результате усвоения правовых норм личностью, а насильно, путем вмешательства власти, то это неминуемо приводит людей к отчуждению и от закона, и от власти. В условиях авторитарного режима отчуждение человека от власти и закона, недоверие к ним, стремление обойти закон и обмануть начальство прекрасно сочетаются с патерналистскими настроениями. Более того, патернализм – прямое следствие социального и политического отчуждения народа. Чем больше человек отчужден от той или иной сферы жизни, тем больше склонен к патернализму.
При анализе же состояния современной России, российского общества в целом, необходимо обратить внимание на следующие особенности.
Сегодня Россия во многом является страной победившей бюрократии. Бюрократическое государство все ярче обнаруживает корпоративистские черты, скрупулезно все регламентирует, строит иерархии и вертикали, активно вмешивается в экономику и общественное перераспределение при сохраняющихся больших имущественных и социальных диспропорциях.
В стране крайне низкий уровень доверия к ближнему, к обществу в целом, к его институтам, включая, конечно, и рыночные, а также конкуренцию. Естественно, что «большое государство» и его постоянное вмешательство способствуют сохранению такой ситуации. Хотя имеются и другие факторы, включая все сложности транзита, переходного состояния общества в последние два десятилетия.
Существенным обстоятельством является то, что нынешний период в развитии общества связан с сокращением каналов вертикальной социальной мобильности, замедлением карьерных процессов и перспектив, отключением «на профилактику» или за ненадобностью «социальных лифтов». Замедление социальной динамики после периодов глубинных трансформаций 1990-х гг. является вещью объективной. Однако молодежи, представителям общественно значимых, но дискриминированных в нынешней иерархии профессий (хотя бы тем же ученым) от этого не легче. Особенно если правила игры предполагают жесткие, неравные и часто воспринимаемые как несправедливые имущественные, клановые и корпоративные цензы на карьерный рост.
Рентная природа богатства только усиливает тенденцию к корпоративности, а также неравенство и представления о несправедливости перераспределения и «царстве привилегий». Патернализм государства и дальше подтачивает возможности сотрудничества граждан между собой, социальной солидарности и усиливает недоверие, потому что различные группы («сословия», «корпорации») вступают в борьбу с государством и друг с другом не за то, чтобы обеспечить свободу, равенство возможностей и справедливость, а за то, чтобы получить больше привилегий со всеми вытекающими последствиями.
Отсутствие или неразвитость в обществе эффективных формальных институтов вовсе не означает, что вместо них царит анархия, право сильного и война всех против всех. Напротив, вместо формальных и видимых структур работают неформальные и теневые структуры, институты и практики (взятка, откат, «крыша» и возможность договориться), которые обеспечивают определенный уровень доверия и предсказуемости, а также технологии конкуренции, эффективности и коммуникации.
В результате в последние десятилетия коррупция не является каким-то отклонением и повреждением системы, а сама стала системообразующим элементом. Коррупция работает как механизм перераспределения ресурсов, ренты и статусов не только между властью и бизнесом, но и между различными социальными группами. С помощью денег можно не только заручиться государственной поддержкой, но и приобрести конкурентные преимущества в обществе. Представители некоторых профессиональных сословий с помощью коррупционных доходов либо путем обмена услугами могут «подтягивать» свой статус и уровень жизни до отметок, соответствующих социальной значимости их работы, неадекватно оцениваемой официальными зарплатами или даже искаженным рынком. Таким образом, мы имеем дело с порочным кругом, системой, где причины и следствия перемешались и воспроизводят друг друга с энтузиазмом вечного двигателя. Без преувеличения можно утверждать, что механизмы этого повседневного функционирования широкого социального «общественного договора» сегодня оказываются, пожалуй, важнейшим препятствием для качественного развития страны.
Таким образом, наше общество в том состоянии, в котором оно сейчас находится, к мобилизации не готово, российские граждане не готовы работать в условиях мобилизационной модели. Здесь причины разные, и объективные, и субъективные. Но главная причина состоит в том, что мы перешли к рыночной экономике, это привело к своего рода атомизации общества, когда каждый человек думает, прежде всего, о собственном выживании и выживании своей семьи, и никакого объединяющего замысла он не примет.
В то же время исследователи отмечают, что в России сложилась социальная база модернизации.
В постсоветский период оформилась основанная на индивидуализме и капиталистических формах активности альтернативная адаптационная стратегия. "Мотивационная ("достиженческая") активность выступает предпосылкой стратегии жизненного успеха, которая рассчитана на общественное признание и получение какой-либо выгоды... Она основана на потребностях личности в признании и самоуважении... Это – стратегия активизма и символических ценностей" [6, с. 173].
У воспринявших ценности модерности россиян произошло перемещение индивидуальных достижительных мотиваций на уровень "глубинных базовых представлений, символов и ценностей, которыми люди руководствуются в своем повседневном хозяйственном поведении" [1, с. 67].
Окончание XX в. в России ознаменовалось изменением практики социализации и инкультурации личности, модели достижения успеха. В первое постсоветское десятилетие все большее количество россиян использовало новый механизм социокультурной легитимации успеха, наметился переход от преобладающего усвоения общинных, коммунитарных ценностей к ценностям индивидуализма.
Рассматривая формы социальной состязательности как культурный феномен, К. Мангейм выделяет два принципиально различных подхода к жизни. Первый подход предполагает, что человеком движут осознанные цели, он честолюбив и твердо знает, к чему стремится, рационально воспринимает мир и осознает время как некую целостность. "Личность обогащается качествами, необходимыми для экономической борьбы: смелостью, реализмом, способностью анализировать психологию оппонента, неослабным интересом к познанию взаимозависимости явлений, постоянным предвкушением новых возможностей, умением видеть перспективу каждого из достижений в их цепи, жить скорее будущим, нежели настоящим, не удовлетворяться уже достигнутым, настойчиво добиваться новых шансов на успех, полагая, что их реализация важнее, чем то, что уже достигнуто, короче говоря, вечными усилиями "превзойти себя" и неспособностью "влачить существование" [4, с. 146].
Энтони Гидденс полагает, что человек, склонный к культивируемому риску, способен усматривать непредсказуемую игру случая в обстоятельствах, которые воспринимаются другими людьми как стереотипные, не требующие творческой интерпретации. Возникающие инновации расширяют границы социально приемлемых жизненных практик, формируют стратегию опоры на собственные силы личности, ее интеллект, возможность рационального жизненного выбора, поскольку "в наши дни рискованность не является делом выбора; это сама судьба"[2, с. 194].
Таким образом, для преобразования страны необходимо создать условия, когда граждане России могли бы себя реализовать в инновационной деятельности. Для этого необходимо, чтобы государство поощряло деятельность творческих креативных людей. Но что такое креативная личность? Креативная личность – это не та личность, которая гонится за золотым тельцом и думает о своем обогащении в первую очередь, а творческая личность. Западный опыт показывает, что такая личность имеет другие стимулы трудовой деятельности – самореализация, создание новых высоких технологий, работа в соответствующем инновационном коллективе и так далее.
Именно эти люди по факту является основным генератором инноваций, субъектом воспроизводства человеческого капитала, держателем культурного и информационного ресурсов. Американский социолог Ричард Флорида причисляет к креативному классу творческих профессионалов, занятых в креативном сегменте экономики, – работников, чья экономическая функция заключается в создании нематериальных активов, приносящих материальные дивиденды: новых идей, новых технологий и нового креативного содержания. Они занимают все более важное место по отношению к политике, к экономике, а не существуют вместе с маргинальной средой. При этом Ричард Флорида отмечает: «Даже согласно самым строгим из моих критериев, в России сейчас около 13 млн. представителей креативного класса, т. е. ей принадлежит 2-е после США место в мире по абсолютному числу работников, занятых в креативных профессиях. По проценту от общей рабочей силы это ставит ее на 16-е место. В моем мировом индексе креативности – комбинации разного рода показателей технологий, таланта и креативности – она попадает на несколько менее впечатляющее 25-е место. Другими словами, есть поводы для оптимизма, но впереди еще много работы» [7, с. 10].
В социальном отношении это представители отраслевой и фундаментальной науки, разработчики и реализаторы высоких технологий, представители некоторых сегментов бизнеса (чаще среднего, созданного с нуля, а также венчурного), активная часть городской интеллигенции, работающая в сфере формирования духовной и информационной реальности. Сюда же следует отнести и представителей «рутинных» профессий, склонных к инновациям и усовершенствованиям в пределах своей профессиональной деятельности, – среди них особое место принадлежит бюрократам-инноваторам. Креативный класс в своей массе состоит из тех, кого в России называют «интеллигентами», а на Западе – «интеллектуалами», но не тождествен ни тем, ни другим.
В то же время по индексу креативности, по мнению Флориды, мы на 25-м месте. Как же так? По объему мы – на 2-м месте, а по результативности – на 25-м. Что это такое? Почему так происходит? Значит, креативность куда-то уходит, направляется в другую сторону, каким-то образом умерщвляется – и этом, на наш взгляд, одна из важнейших проблем современной России.
Нередко представителей креативного класса определяют как «модернизационный класс», «инновационный класс», «поколение модернизации» и т.п. Но определение «креативный класс» наиболее точно указывает на интегрирующие признаки его представителей – креативно-творческую деятельность и креативно-творческое отношение к жизни. Можно говорить даже о «человеке креативном» (homo creativus), для которого определяющей является творческая идентичность, в котором превалируют непрагматические жизненные мотивации, нередко и со специфической креативной моделью поведения. Носителям подобного психотипа присуща способность к нестандартному мышлению, к риску, к принятию эффективных решений в условиях неопределенности, к творческим озарениям, к выходу за пределы имманентной личностной данности. В иных социальных стратах, включая бюрократический класс, доминирует, как правило, вполне рациональная мотивация.
Очевидно, что по объему контролируемых ресурсов и уровню влияния на принятие политических и экономических решений креативный класс слабее всего представлен в жестко интегрированной и мобилизованной корпорации силовиков или олигархов, не говоря уже о бюрократическом классе, чья монолитность в российских условиях скреплена самой влиятельной политической партией.
Однако, во-первых, это достаточно массовый класс – 10–20% от всего населения; во-вторых, его представители – люди энергичные, самоотверженные, способные создавать локальные «очаги развития», при этом они не нуждаются в жесткой иерархии и управленческой «вертикали». В-третьих, именно представители этого класса контролируют человеческий капитал, который в нынешнюю эпоху становится основой развития и благосостояния любого общества.
Определяющими чертами представителей креативного класса является творческая и социальная субъектность, желание и способность быть участниками процессов социального развития. Вот почему им нужна не «руководящая и направляющая роль» со стороны государства, а создание благоприятных условий для развития, а также моральная поддержка, чтобы они верили, что их труд не сизифов, и что они нужны обществу.
Именно национальный креативный класс является основным генератором и источником инноваций. В ситуации, где он подавлен, рассеян, маргинализирован, инновации приходится экспортировать извне – это характерно для догоняющих модернизаций.
Креативный класс стремится к самоуправлению, самоорганизации и саморазвитию. При достижении критической массы и в случае построения механизма солидаризации интересов (например, через создание новой эффективной политической силы) он способен стать реальным субъектом развития страны.
Однако продуктивное существование креативного класса в России возможно только при наличии свободного социального и культурного пространства. В ситуации, где нет свободы – свободы политической, свободы творческой, свободы духовной, свободы самовыражения, – креативный класс маргинализируется, его совокупный потенциал снижается, начинается «отток мозгов» – бегство образованных людей из страны либо «внутренняя эмиграция», поэтому любая инновационная модернизация становится невозможной.
Российский креативный класс всячески нуждается в расширении и институализации горизонтальных связей – как внутри сообщества, так и в отношениях с государством. Поскольку у его представителей доминируют непрагматические мотивации, это сообщество в той или иной степени способно к мобилизации – оно готово откликнуться на призыв власти и принять участие в большом модернизационном проекте – даже в условиях отсутствия у государства избыточных ресурсов на модернизацию. Но при этом государство и властная политическая элита не должны рассматривать относительную независимость креативного класса в качестве угрозы, не должны мешать его самоорганизации и кристаллизации в его среде альтернативных элитных сообществ и группировок.
Кроме того, чтобы личность творила, конечно, необходима базовая социальная инфраструктура. То есть, люди должны быть уверены в завтрашнем дне, они должны иметь возможность получить доступное образование для себя и своих детей, иметь соответствующее здравоохранение, которое обеспечивало бы здоровье, причем тоже доступное, гарантированное со стороны государства.
Нынешний российский политический режим часто определяют как синтез милитократии и петрократии, подразумевая, что верхняя часть властной пирамиды занята выходцами из силовых ведомств, и что основное ресурсное обеспечение властной корпорации происходит за счет ренты, получаемой от энергоносителей. Примечательно, что в таком контексте было принято говорить о «порядке» и «стабильности» как высших ценностях государственного развития. Однако оказалось, что подобная «стабильность» – это среда для инерционного существования в течение ограниченного времени. Мировой структурный и финансово-экономический кризис подводит элиты к необходимости инициировать всеобъемлющую инновационную модернизацию. Это, в свою очередь, ведет к коррекции функций эффективного государства – государство-страж, государство-бандит, государство-корпора-ция, государство – ночной сторож должно превратиться в государство нового типа – в социального партнера.
В таком государстве авторитет и легитимность политической элиты определяются прежде всего факторами «мягкой власти» (soft power), а не страхом, не насилием и не «беспределом» бюрократии и силовых органов.
Основным мотором, локомотивом, становым «хребтом» подобных инновационных процессов способен стать именно креативный класс. Такая его роль предполагает существенные коррективы всей российской политической системы, и главное – отказ от модели, в которой властная корпорация является единственным субъектом выработки, принятия и исполнения решений. Это противоречит узкокорпоративным интересам нынешней бюрократии, поскольку умаляет ее монопольный статус в социальной системе, однако открывает широкую перспективу для развития субъектности различных общественных групп.
Фактически речь идет о новой стратегии борьбы за подлинное величие России – как внутри страны, так и в мире. Оно может быть достигнуто и сохранено не на основе жесткого государственного охранительного патернализма или «добровольно-принудительной» мобилизации, а при помощи взаимовыгодного партнерского диалога – путем сотрудничества, солидарности и синергии сохраняющих свою субъектность граждан, общественных организаций, креативного класса, бизнеса и государства. Ведь в начале XXI века невозможно построить будущее на основе принуждения и диктата. Его можно построить только на основе свободной лояльности и солидарности.
Литература
1. Балабанова E.С. Особенности российской экономической ментальности // Мир России. M., 2001. Т. X. C. 67.
2. Бауман 3. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. M.: Логос, 2002. С. 194.
3. Коэн С. Изучение России без России // Свободная мысль. 1998. № 9–12. С. 28.
4. Мангейм К. Очерки социологии знания: Проблема поколений – состязательность –экономические амбиции / Пер. с англ. Е.Я. Додина. M.: ИНИОН РАН, 2000. С. 146.
5. Пайн Э. Выйти из плена Матрицы: есть ли будущее у либеральной модели модернизации?//ссылка скрыта. Код доступа: ссылка скрыта
6. Резник Ю.M., Смирнов E.А. Жизненные стратегии личности (опыт комплексного анализа). M.: Институт человека РАН, Независимый институт гражданского общества, 2002. С. 173.
7. Флорида Ричард Креативный класс: люди, которые меняют будущее, М., «Классика-XXI», 2007.