В. М. Пивоев (отв ред.), А. М. Пашков, М. В. Пулькин
| Вид материала | Документы |
- В. М. Пивоев (отв ред.), М. П. Бархота, А. В. Мазур «Свое», 2224.87kb.
- В. М. Пивоев (отв редактор), М. П. Бархота, Д. Д. Бреннон «Свое», 1818.36kb.
- Выпуск 48 Э. Ф. Шарафутдинова чеченский конфликт: этноконфессиональный аспект отв редактор, 3024.85kb.
- Международной Ассоциации «Диалог культур», 1247.87kb.
- Центр системных региональных исследований и прогнозирования иппк ргу и испи ран, 3282.27kb.
- Введение пятая научная конференция продолжает обсуждение теоретических и практических, 1707.18kb.
- А. В. Карпов (отв ред.), Л. Ю. Субботина (зам отв ред.), А. Л. Журавлев, М. М. Кашапов,, 10249.24kb.
- О. Г. Носкова Раздел работа психолога в системе образования и в социальном обслуживании, 10227.59kb.
- Бахтин и проблемы методологии гуманитарного знания, 5436.4kb.
- Акаев В. Х., Волков Ю. Г., Добаев И. П. зам отв ред, 1632.77kb.
Министерство культуры Республики Карелия
Петрозаводская и Карельская епархия
Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН
Петрозаводский государственный университет
ПРАВОСЛАВИЕ В КАРЕЛИИ
Материалы республиканской научной
конференции (24-25 октября 2000 г.)
Петрозаводск
Издательство Петрозаводского государственного университета
2000
ББК 86
П685
РЕДКОЛЛЕГИЯ:
В. М. Пивоев (отв. ред.), А. М. Пашков, М. В. Пулькин
Православие в Карелии: Материалы республиканской научной конференции (24–25 октября 2000 г). / Отв. ред. В. М. Пивоев. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2000. 215 с.
В сборнике публикуется краткое содержание докладов и выступлений участников республиканской научной конференции, посвященной истории православия в Карелии, а также различным сторонам православной культуры и проблемам возрождения духовных основ современного общества.
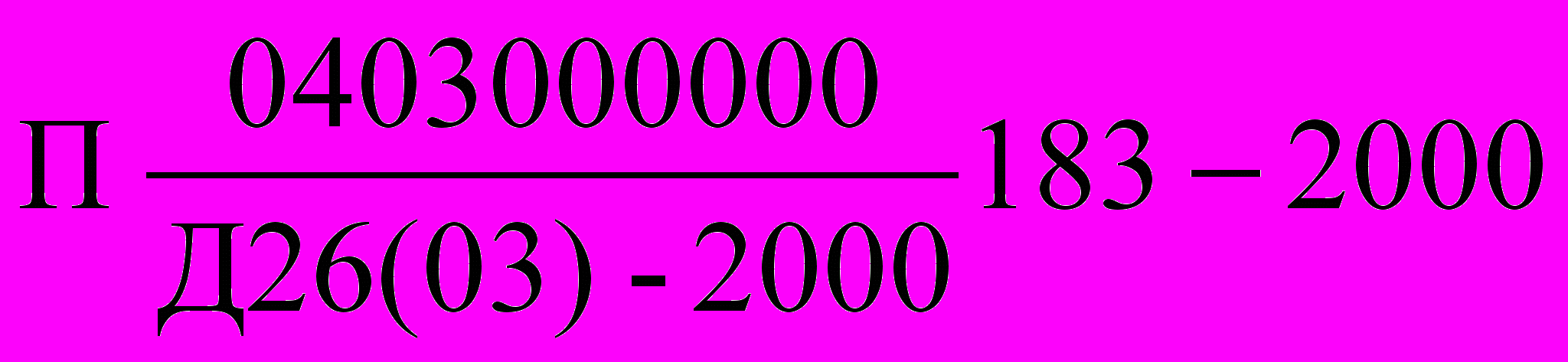 | © Петрозаводский государственный университет, 2000 |
НАУКА И РЕЛИГИЯ В ХХ в.
(вместо предисловия)
Прежде всего хотелось бы отметить, что конфликт религии и науки, раздуваемый в ХХ в., на самом деле не имеет смысла. Религия ведает областью духа, а наука занимается преимущественно предметами материальными. И так как духовный мир являет себя в мире материальном, то у науки и религии появляются области сотрудничества. По серьезности подхода к изучению разного рода вопросов православие и наука близки друг другу, и представляется возможным даже говорить о православном научном мировоззрении, но для этого необходимо осмыслить ту беду, которая произошла с научным мировоззрением в нашем обществе в ХХ в.
На протяжении всей истории человеческой цивилизации общество стремилось осмыслить окружающий мир. Исследования его не закончены и по сей день, все новые и новые открытия приводят к тому, что научные теории, устаревая, рождают новые, и, видимо, этот процесс бесконечен. Объяснение различных процессов и явлений в окружающем нас мире считается объективным, если выдвигаемой научной теории соответствуют все известные на данный исторический момент момент факты. Если открываются новые факты, противоречащие данной теории, то она уже считается устаревшей и необъективной. Однако долгое время в нашем человеческом обществе именно такие устаревшие и необъективные теории постулировались в догматы. Новые факты, противоречащие данным теориям, в угоду политике либо не распространялись, либо игнорировались целыми научными направлениями. Поэтому основная задача современной науки — исключить такой подход к научной истине, во избежание повторения общественной катастрофы, которая произошла в 1917 г. К этому политическому и социальному катаклизму человеческое общество двигалось давно. Философия в отрыве от религии начала объяснять возникновение нашего рационально и логично устроенного мира в отсутствии разумной первопричины. Поскольку считалось, что бытие Бога не доказуемо, то в обществе стали появляться теории, объясняющие происхождение мира без его Творца. Явилась теория эволюции Дарвина и другие атеистические теории, захватившие умы в ХХ в. Произошла нравственная деградация людей. Под научной истиной понимали то, что выгодно, понятие правды стало относительным, объективный подход в науке сменился субъективным. Это иллюстративно просматривается в исторической науке, а именно в вопросе об историчности человеческой личности Господа нашего Иисуса Христа. В советский период общество поставило перед собой задачу изгнать Его из нашей жизни, и для этого все средства были хороши: и ложь, и сокрытие фактов, и их подтасовка. Греховное желание людей жить по своим похотям и страстям вело общество к отказу от веры в Бога, а это раскрепощает не творческую, а греховную природу человека. «Если Бога нет, то все позволено», — писал Достоевский, и воистину убеждаешься в этом, когда смотришь кинохронику уничтожения храма Христа Спасителя.
Да, действительно, с научной точки зрения доказать бытие Бога нельзя, однако нельзя доказать и его отсутствие. Точка в этом вопросе не поставлена, вопрос остается открытым. Поэтому на земном шаре нет людей неверующих, только одни верят в то, что Бог есть и в соответствии с этим стараются строить свою жизнь, а другие верят в то, что Его нет, и живут, как им заблагорассудится. Мы, верующие, их не осуждаем, т. к., по нашему убеждению, Вера — это Дар Божий. Подобно тому, как нельзя увидеть или потрогать ветер, а можно его только ощутить, так и Бога нельзя увидеть, а можно ощутить Его в сердце своем. Атеистам сложно объяснить, каков Бог. Это все равно, что глухому рассказывать, что такое музыка. Он всегда будет убежден, что музыка — это набор крючков и палочек на разлинованном листе бумаги...
Наша республика очень сильно пострадала от воинствующего атеизма: физически уничтожены тысячи людей, десятки красивейших храмов были разрушены. Атеизм, ничего не построив в нашей стране, разрушил то, что формировалось столетиями, и мы сейчас оказались, в нравственном смысле, у разбитого корыта. Поэтому нам необходимо восстанавливать утраченное, а для этого надо хотя бы детально его изучить. Поэтому исследование того, что мы потеряли, нам крайне необходимо.
Священник Константин Савандер
Л. В. Савельева
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКАЯ АЗБУЧНАЯ ТРАДИЦИЯ В КАРЕЛИИ
Создание славянской письменности, как это отражено рядом исторических источников, началось с того, что известный греческий гимнограф, ученый и богослов Константин Философ (позже в монашестве Кирилл), уроженец болгарского города Солуни (Фессалоники), в 863 г., еще до своей поездки в Моравию, составил славянский алфавит и, согласно целям и задачам свой миссии, вместе со своими сподвижниками начал переводить на «словенский» язык главные книги христианского вероучения, начав с пасхальных чтений Евангелия-апракос. Трудами многих исследователей уже доказано, что первичной была глаголическая графика, а что же касается кириллицы, то она представляет собой более позднюю транслитерацию глаголицы на основе греческого унциального письма и была названа именем создателя славянской письменности его учениками и последователями.
Для нас особенно важно, что такой авторитетный источник, как статья «О письменах» черноризца Храбра, свидетельствует о создании Первоучителем славян не просто букв нового алфавита, но именно славянской азбуки. Тем самым здесь утверждается факт отвержения св. Кириллом греческого буквенного именника (альфа, вита...) и устанавливается атрибуция его авторства в отношении нового именослова, начинающегося с аза и букы.
Глубокая приверженность русской православной церкви традиции, идущей от св. Кирилла, позволила пронести сквозь тысячелетие, а точнее, сквозь одиннадцать с лишним веков, азбучный именник Первоучителя славян практически с минимальными потерями, вызванными в первую очередь объективными изменениями звукового строя русского языка. Вплоть до ХХ в. начальное обучение грамоте в России обязательно включало в себя твердое усвоение церковнославянского буквенного именника. От разного времени сохранилось множество списков особо любимой на Руси Азбучной молитвы, использующей буквенный именослов и составленной, как это теперь доказано, учеником Константина-Кирилла Константином Преславским, а также рукописные азбуки, некоторые детские упражнения и так называемые «склады». Сравнительно недавно (1955) за рубежом был обнаружен первопечатный «Букварь» Ивана Федорова, опубликованный во Львове и, по мнению исследователей, представляющий собой повторение московского издания1. Первопечатник адресует открывающийся буквенным именословом «Букварь» «возлюбленному честному христианскому русскому народу» и утверждает, что издание предпринято им «ради скорого младенческого научения». Даже в ходе азбучной реформы Петра I (в 1710 г. при нем был введен так называемый гражданский шрифт для печатания книг светского содержания; при этом из азбуки были выведены буквы отъ (омега), пси, кси, юсы, а оставшиеся графемы приобрели новые округлые формы по образцу латинских букв) идущая от Первоучителя славян традиция азбучных наименований выстояла и не пострадала. Об этом, в частности, свидетельствует адресованный юношеству нравоучительный сборник сочинений разных авторов «Юности честное зерцало», традиционно начинающийся славянской азбукой и напечатенный «повелением царского величества» в 1717 г. в С.-Петербурге.
В плане сохранения азбучного именослова Первоучителя наша Карелия, где, как известно, духовные традиции православия и старообрядчества были особенно устойчивы, не только не представляет исключения, но даже выделяется: следы еще недавнего обучения крестьянских детей по церковнославянской азбуке сохранились в виде бытующих и по настоящее время печатных и даже рукописных азбук, с придуманным набором «двуписьменных» и «трехписьменных» слогов (складов), порою с учительскими пометами. Они до сих пор еще хранятся в некоторых семьях и с большим интересом воспринимаются молодежью.
В живом контексте православной культуры почти каждое из азбучных наименований приобретало глубокий ассоциативный шлейф, превращаясь в культурологический концепт национального мировидения, широко отраженный как в книжных, так и в народно-поэтических речевых формулах2. Это хорошо чувствовал, например, Ф. М. Достоевский, когда говорил о «чем-то живом, осмысленном, что есть в каждом нашем старинном названии» букв и когда горячо протестовал против введения в школах звукового метода обучения чтению, считая, что легкость «новой попугайной методы» (так он высмеивал произношение Б! В-в-в! З-з-з!) кажущаяся, и хотя дети «задолбить, может быть, скорей задолбят, но никакого просвещения от этого не прибавится»3.
Однако, вопреки представлениям православного сознания, легко узнающего традиционные символы христианства как минимум в предметных наименованиях добро, покой, земля, слово, задачи прагматической целесообразности светского обучения, а также согласие с общеевропейской фонетической традицией вели к отказу от старинных буквенных имен в практике начального обучения.
При этом чрезвычайно показательно, что Лев Толстой, составляя свою «Новую азбуку» для крестьянских детей (выдержавшую около двадцати переизданий и распространившуюся по всей России) и даже приняв новый звуковой метод обучения, тем не менее начинает знакомство детей с русской грамотой с перечня наименований славянской азбуки, тем самым признавая за ней непреходящий образовательный и культурно-исторический смысл: азъ (а), буки (б), вЕди4 (в), глаголь (г), добро (д), есть (е), живЕте (ж), земля (з), иже (и), и (i), како (к), люди (л), мыслЕте (м), наш (н), он (о), покой (п), рцы (р), слово (с), твердо (т), у (у), фертЪ (ф), хЕръ (х), цы (ц), червь (ч), ша (ш), ща (щ), еръ (ъ), еры (ы), ерь (ь), ять (Е), э, ю, фита, ижица. По сравнению с азбукой петровской эпохи здесь опущены только зЕло [дз’], икъ [i губное], которые по фонетическим и графическим причинам уже не употреблялись в книжном языке новейшего времени.
Долгое время именник первоэлементов славянской письменности не обсуждался, и в этом нельзя не усматривать трепетного отношения к его сакральному смыслу, подобно тому, как папа Григорий VII аргументировал неясные места св. Писания: «если бы оно было полностью понятно для всех, слишком низко бы его ценили и утратили бы к нему всякое уважение»5.
Если не первым попытку уловить и интерпретировать внутреннюю связь азбучного именослова предпринял современник А. С. Пушкина Н. Ф. Грамматин. Для этого он из 35 буквенных имен выбрал первые 18, произвел 2 словесные замены и 5 раз произвольно изменил грамматическую форму слов-названий, предложив такую реконструкцию: «Я Бога ведаю, глаголю: Добро есть, живет на земле кто, как люди мыслит, наш Он (то есть Бог) покой рцу, Слово твержу и пр. Мысль весьма приличная для того, кто познал истинного Бога и стал мыслить, подобно людям, то есть посредством письма изображать свои мысли. Сей смысл славянской грамоте да, без сомнения, в подражание еврейской, в которой св. Иероним находил таинственный смысл»6. Нет ничего удивительного в том, что, при всей историко-культурной преемственности поиска сакрального азбучного смысла, это невнятное и достаточно неуклюжее толкование Н. Ф. Грамматина, впрочем, во многом отражающее уровень исторической славистики своего времени, спровоцировало А. С. Пуш-кина на категорическое высказывание об отсутствии всякой связи между наименованиями букв славянской азбуки.
Среди единичных последовательных попыток интерпретации славянского именослова долгое время наиболее авторитетными признавались взгляды Н. С. Трубецкого (1954), Э. Георгиева (1956), Ф. Мареша (1964), предполагавших (хотя и с небольшими разночтениями) в пяти изолированных трехсловных синтагмах азбуки разрушенный акростих (то есть начальное красноречие) известной Азбучной молитвы, в то время приписываемой перу славянского Первоучителя.
В июне 1993 г. на первой международной конференции «Евангельский текст в русской литературе», проводимой Петрозаводским государственным университетом под организующим началом проф. В. Н. Захарова, мне впервые довелось выступить с обоснованием дешифровки азбучного именника как первого целостного славянского поэтического текста, написанного в жанре краткой проповеди Первоучителя к новообращенным христианам. При этом было подчеркнуто, что возведение смысловой связи к жанру молитвы неправомерно как по фактологическим данным азбуки (этому резко противоречит обшая побудительная интонация именослова, вытекающая из четырех форм императива: глаголи, живЕте, мыслите, рьци), так и по результатам текстологических исследований К. М. Куева и Э. Г. Зыкова, атрибутировавших текст Азбучной молитвы Константину Преславскому, одному из учеников солунских братьев. Таким образом, болгарский пресвитер писал эту молитву в поэтическом диалоге со своим тезоименитым Учителем, ориентируясь и на внутренний смысл азбучной проповеди, и на некоторые ее поэтические особенности.
Наиболее неопровержимым аргументом предложенного мною толкования выступал факт оптимального словесного решения эмблемы христианского вероучения в первых 27 слогах-наименованиях глаголической азбуки, составляющей глаголическую цифирь до 1000 включительно, притом что каждое из них (кроме загадочной буквы пе) семантизировалось именно в той словоформе, которая зафиксирована традицией и древнейшими источниками. Обращение к историческим и этимологическим словарям позволило документировать не сохранившиеся значения некоторых слов. Сравним современный перевод этой азбучной проповеди, где жирным шрифтом выделен акростих и курсивом — четыре поэтических образа греческой гимнографии:
Я грамоту познаю. Говори: Добро существует!
Живи(те) совершенно, земля! Но как?
Люди, размышляйте! У нас потусторонний покой.
Проповедуй Слово истинное. Учение избирательное;
Херувим, — отрешением земной пе [чали?], — или червь.
С учетом глаголической идеограммы первой буквы, в которой значение аза (личности, человека) передано крестом как символом Богочеловека, а также с учетом старославянского и контекстного значения слова живЕте как «живите нравственно», акростих переводится так: Я (человек) подобен Богу. Живите нравственно, люди! Проповедуй духовное начало!
В 1993–1998 гг. мною было опубликовано около десятка статей в Карелии (журнал «Север»), Москве, Петербурге, в Белоруссии, в Украине, большая статья в ежегоднике Сербской Академии Наук «Jужнословенски филолог» (Београд, 1997), а также брошюра в серии «Научные доклады СПбГУ», где эта принципиально важная для славянской культуры проблематика разрабатывается в разных аспектах (языковом, историко-культурном, структурно-поэтическом, педагогическом) и в разных ракурсах: жанровые традиции греческой гимнографии и гомилетики, стратегия азбучного дискурса, проблема нового комментария к пушкинской заметке о славянской азбуке, истоки восточнославянской стиховой культуры и архетипы важнейших концептов славянской ментальности. Не только несколько докладов на международных конференциях (кроме Петрозаводска, в С.-Петербурге, Минске, Полтаве), весьма положительно воспринятых их участниками, но и публикации в авторитетных изданиях, в том числе получивших благословение наших видных священнослужителей, а также признание коллег, среди которых такие авторитеты, как акад. Д. С. Лихачев, проф. В. В. Колесов, акад. Сербской АН Милка Ивич и др., казалось, позволяли думать, что глубочайший нравственный пафос напутственного слова Первоучителя наконец-то будет услышан потомками. По карельскому радио и телевидению прошли передачи о сакральном смысле славянской азбуки, этому же были посвящены публикации в петрозаводских газетах «Лицей», «Северный курьер», «Karjalan sanomat», в «Независимой газете». Выпускники Карельского педуниверситета, Петрозаводского университета, учителя, прослушавшие отраженный в монографическом издании авторский курс языковой экологии, а также многие известные мне энтузиасты русского языка и подвижники духовного воспитания школьников старались и стараются по мере сил донести до сознания каждого учащегося высокий духовный смысл, изначально заложенный в буквы-атомы нашей культуры, и в этом плане, как мне представляется, Карелия опережает другие регионы православного мира, хотя и не является исключением (судя по моим единомышленникам среди учителей и преподавателей Москвы, С.-Петербурга, Саратова, Архангельска, Вологды и др.).
Однако в 1999 г. в СПбГУ вышли критические заметки по этому вопросу моего единственного оппонента Татьяны Аполлоновны Ива-новой — доцента Петербургского университета и бывшего моего преподавателя старославянского языка, много лет успешно зани-мавшегося кирилло-мефодиевской проблематикой. Оставляя в стороне трудно опровержимые аргументы историко-культурного, структурно-поэтического, собственно грамматического характера, Т. А. Иванова сосредотачивает свою критику на проблеме гапакса (то есть единожды употребленных старославянских лексем) в азбучном именослове, во-первых, оспаривая определение значений иже, фертЪ, цы, отсутству-ющих в этих значениях в старославянских рукописях и, во-вторых, подвергая сомнению состав буквенных наименований ранней глаголицы7. Кроме того, ею предпринята заведомо обреченная на неудачу попытка оспорить стиховое членение текста и опровергнуть его проповеднический характер на зыбком основании совпадения форм повелительного наклонения и настоящего времени в глаголическом наименовании мыслите, хотя о его несомненно побудительном значении свидетельствует церковнославянский вариант мыслЕте, не говоря уже о трех других императивах глагогической азбуки: глаголи, живЕте, рьци.
Что касается тех семи гапаксов (зЕло, иже, твръдо, укъ, фертЪ, пе, цы), которые обнаруживаются нами в ходе лексического анализа буквенного именника и которые вызывают своим количеством недоверие моего оппонента, то их число как раз является достаточно типичным и даже малым для древнего текста8. Т. А. Иванова почему-то выступает против того, что для доказательства древнеславянских значений гапаксов мною привлекаются материалы из переводной восточнославянской письменности церковного содержания X — XI вв., а в некоторых случаях и церковнославянские данные более позднего времени. По этому поводу замечу, что для раскрытия значений гапаксов и «темных мест», например, «Слова о полку Игореве», исследователями совершенно правомерно используются словарные параллели не только различных славянских письменных памятников, но и современных говоров русского языка, современных тюркских языков, а также иранского, латинского, греческого, древнееврейского.
Особое неприятие вызывает у моего оппонента перевод слова иже, поскольку в старославянских текстах оно хорошо известно как местоимение «который». Однако это совсем не значит, что в речевой практике эпохи, в целом отраженной рукописями достаточно ограниченно, у этого слова не могло быть другого значения — того, что зафиксировано в восточнославянском церковно-книжном стиле XI в. (союза иже, подобного производным союзам аже, даже). Т. А. Иванова не может принять мое толкование, ссылаясь на то, что этой буквой начиналось сакральное имя Иисус. Однако прямое обозначение Бога в азбуке было бы крайне нежелательным из-за практического неудобства, а кроме того, нельзя исключать расхождение синтагматического и парадигматического (в контексте культуры) значений буквенного имени. Так что и это, самое спорное, с точки зрения моего оппонента, толкование находит свое объяснение.
Показательно, что в поисках контраргументов Т. А. Иванова прибегает то к очень осторожным (ввиду легкой опровержимости) предположениям отдельных ученых относительно чтения и толкований слов богови, фертЪ, отъ, то к мнимой алогичности наполовину обрезанной моей фразы (по поводу икъ), то к незамеченной ссылке на первоисточники, то к отказу от собственных опубликованных умозаключений (о вторичности числовых функций букв и др.).
В целом же убеждение моего оппонента в том, что азбучный именник не является текстом, а, следовательно, представляет собой несколько случайных и разрозненных изречений непонятного происхождения, придуманных для мнемонических целей, явно не согласуется с целым рядом лежащих на поверхности исторических и лингвистических фактов.
В таких представлениях трудно не чувствовать отзвуки явно антиисторической и излишне рационалистической позиции, совершенно не учитывающей стратегии автора азбуки как христианского миссионера IX в., призванного не только сообщить благую весть (что и было сделано с явной евангельской харизматичностью), но и поставить личность, сотворенную по образу и подобию Божию, в ситуацию выбора единственно правильного пути и притом, что очень важно, очертить уже своим азбучным именником нормы читательского ожидания и восприятия, наметив несколько уровней восхождения к тайному смыслу Божественного Слова.
Азбучный именослов, как и графемы глаголицы, включал в себя часть «неговорящих» элементов и обеспечивал в индивидуальном сознании некий мерцающий огонь сакральной истины, пафос которой пронизывал все напутственное слово Первоучителя.
Все это говорит о том, что в азбучном именнике св. Кирилла осуществлен гениальный замысел ее создателя: он представляет собой не только ментальный текст (лапидарный в силу специфики жанра, он при этом удивительно емко и поэтично очерчивает строение внешнего и внутреннего, душевного космоса), но задает ключевую микромодель христианской культуры во всей ее полноте, в единстве видимого и невидимого, рационального и иррационального, экзотерического и эзотерического.
H. A. Kpиничнaя
