Новый золотой листок, тонкий, вибрирующий, не хотел прилаживаться к стерженьку старого элек-|| троскопа
| Вид материала | Документы |
- Старая сказка о Золотой рыбке на новый лад, 47.62kb.
- Лекция №2 элекТрические сигНАлы инТЕгральных миКРОсхем, 64.56kb.
- Этот старый Новый год!, 113.66kb.
- На маршруте «От Николая до Иордана» новогодний тур для детей и взрослых восточный экспресс, 106.11kb.
- * Законный представитель, 30.63kb.
- Изобретение электрической сварки, 31.46kb.
- Московский новый юридический институт мировая экономика контрольные вопросы по курсу, 55.8kb.
- Листок нетрудоспособности. Заполняем новый бланк проверка заполнения больничного листка, 216.67kb.
- Новый год в индии: золотой треугольник + гоа, 215.15kb.
- Сказки "золотой клетки", 811.87kb.
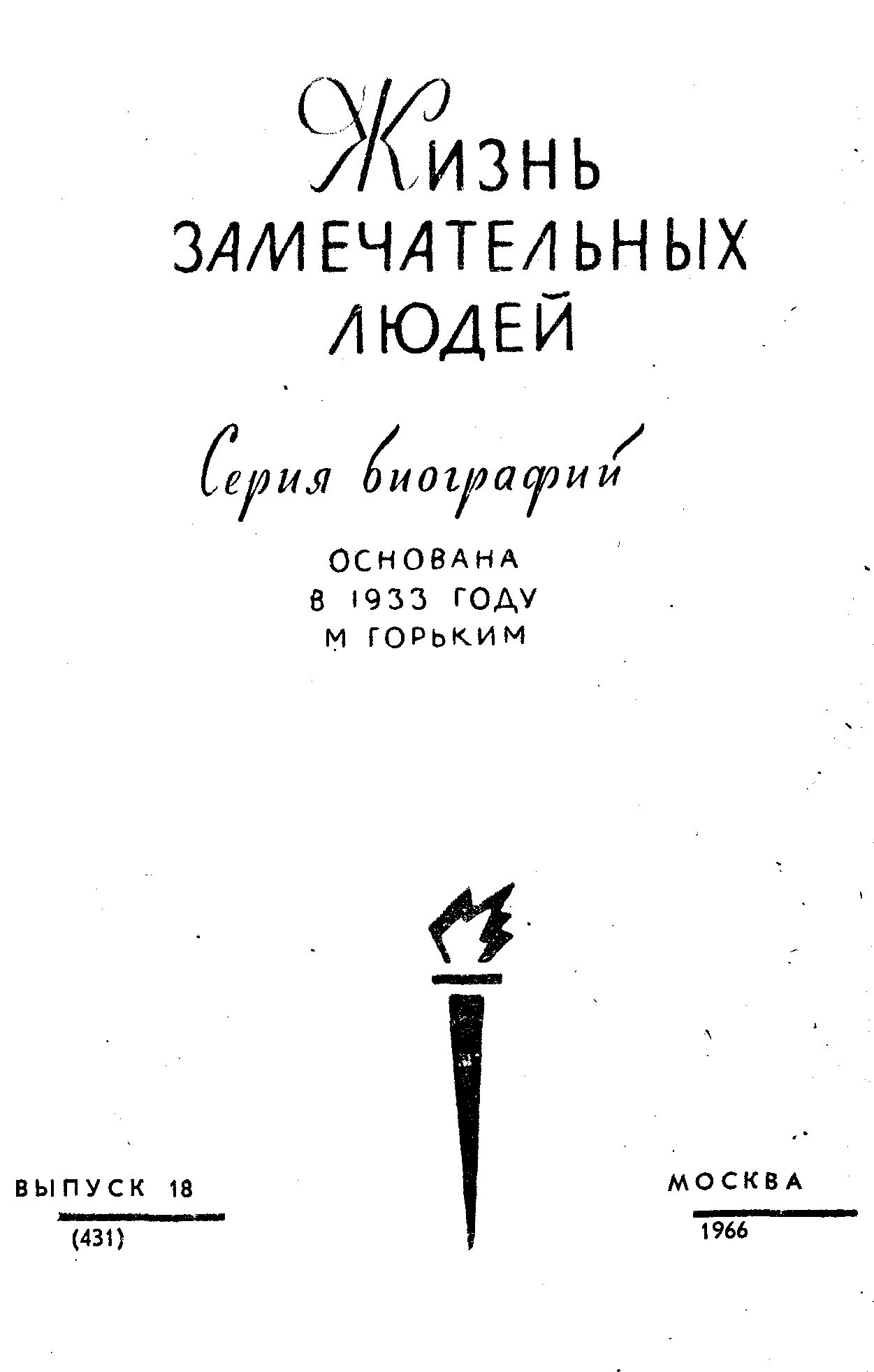
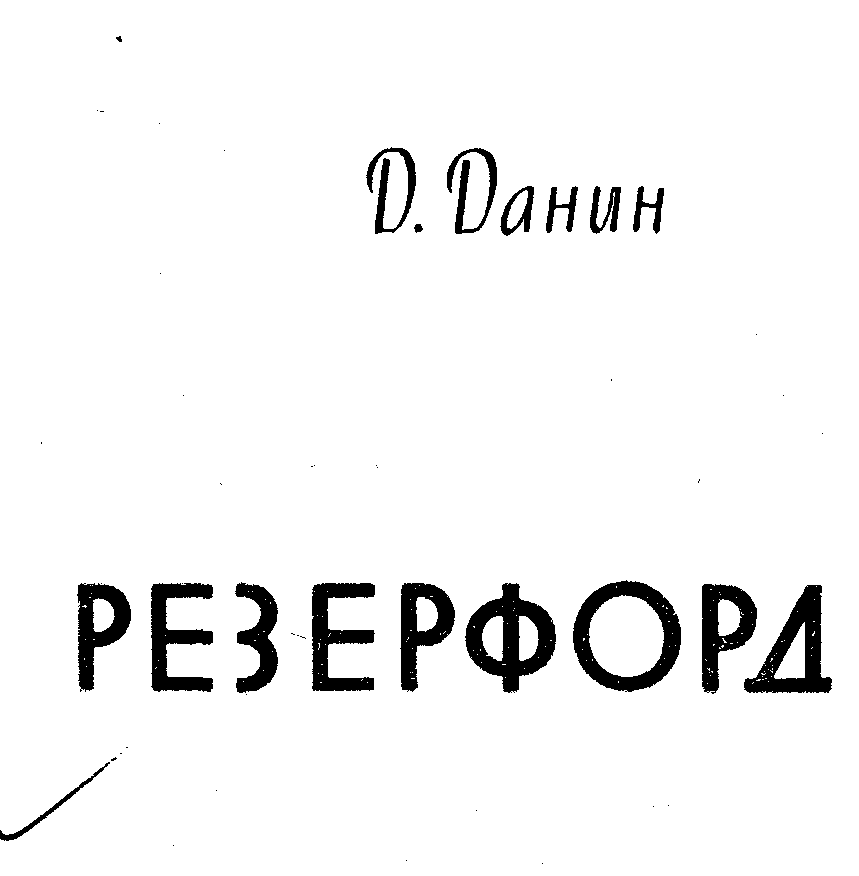
53 (09) Д18
Конец вместо начала
Было так...
У лабораторного стола молча работал человек в домашней куртке. Долготерпение в сутуловатом наклоне спины. Вкрадчивость умелых пальцев. Новый золотой листок, тонкий, вибрирующий, не хотел прилаживаться к стерженьку старого элек-|| троскопа. Десятки раз человек в куртке проделывал эту простенькую операцию и знал: она не всегда удается сразу. Досадовать было решительно не на что: минута, две, и все будет в порядке.
Однако другой человек — в солидном темном костюме, — с привычной зоркостью наблюдавший за работой первого, был на этот раз почему-то иного мнения. Внезапно он швырнул на подоконник тяжелую вересковую трубку и двинулся к столу. Поднял сильные ладони тяжелых рук и понес их перед собой, как хирург. На ходу коротким движеньем выпростал запястья, чтобы съехали назад и не мешали жесткие манжеты. Властный голос его тоже был тяжелым, как руки, внушительным, как вся фигура. Перед этим голосом и этой фигурой, покорствуя, расступалось пространство.
— Кроу, какого дьявола вы там копаетесь! Давайте сюда — я сам...
Человек в куртке разогнул спину. С удивлением посмотрел на шефа. И молча уступил свое место у лабораторного стола. В конце концов у шефа были надежные руки и безусловная власть... Так же молча ассистент направился к подоконнику —
собрать просыпавшийся из трубки табак. Но тот же властный голос ударил его сзади:
— Кроу, какого дьявола! Не трясите стол!
— Что?! — в изумлении обернулся Кроу.
— Не трясите стол!
— Послушайте, сэр... — вспылил было Кроу, но сдержался: он вдруг увидел знаменитые руки. Они дрожали. В пальцах ходуном ходил золотой листок. Вздрагивая, сползали вниз манжеты.
Впервые за восемнадцать лет ассистент увидел, что шеф чего-то не может. А тем временем снова раздалось грозно-беспомощное:
— Какого дьявола вы трясете стол!
За восемнадцать лет ассистент так и не научился распознавать заранее приступы дурного настроения у шефа. Такие приступы бывали не часты и всегда внезапны. Им не находили, разумного объяснения. Но на сей раз причина -была очевидна. На сей раз Кроу просто видел причину. И он не мог оторвать взгляда от этих сползающих манжет. И он постарался незаметно придвинуться к столу. И бесшумно приналег на край. И в самом деле попробовал поколебать ногою громоздкое лабораторное ристалище.
Шеф искоса взглянул на ассистента и выпустил из рук золотой листок.
Потом с шумом распахнулась дверь; Широкая спина на мгновенье заполнила дверной проем. Потом долго затихали в коридоре тяжелые шаги. Потом Кроу стоял у окна, взвешивая на ладони забытую вересковую трубку.
Это маленькое происшествие случилось весной 1937 года в Кавендишевской физической лаборатории — Кембридж. Англия. Случилось и миновалось. Сначала о нем узнали немногие. Впоследствии — все. Но никто не придал ему сколько-нибудь существенного значения. И со временем в воспоминаниях кавендишевцев возникли разноречья.
По одному свидетельству — знаменитые руки не могли приладить к прибору слюдяное окошечко. Золотой листок элек-.троскопа был ни при чем.
По другому свидетельству — шеф без всякого огорчения сказал ассистенту: «Продолжайте, Кроу. У вас это выйдет лучше». Но по третьему — шеф не сдержал раздражения.
«У меня сегодня нервы пошаливают!» — объяснил он свою неловкость. А через несколько дней попытался снова проделать ту же пустяковую операцию, однако она снова ему не удалась, и тогда Кроу не без яда напомнил: «Что, сэр, опять нервы?»
По четвертому свидетельству — вся история с электроскопом и Кроу вообще неправдоподобна, ибо шеф всегда и неизменно бывал спокоен и безукоризненно справедлив.
А кроме того, по пятому свидетельству, он, обремененный высокими обязанностями, уже с начала 30-х годов сам никогда не стоял за лабораторным столом. И потому эта история никак не могла произойти в тридцать седьмом году.
Но и это не все.
По шестому свидетельству — в рассказанном эпизоде табак не мог просыпаться на подоконник, потому что шеф не курил всерьез, а только посасывал пустую трубку. -
Однако, по седьмому свидетельству, был он «heavy smo-кег» — тяжелым курильщиком, и оттого-то на шестьдесят шестом году жизни у него начали дрожать руки. -
Но есть и восьмое свидетельство: руки у шефа дрожали всегда, и потому все рассказанное — зауряднейший факт, едва ли заслуживающий обсуждения.
Что же было на самом деле?
Следователи утверждают: десять очевидцев сообщают десять версий происходившего. И каждый готов присягнуть, что говорит правду, только правду и еще раз правду.
Как же быть автору жизнеописания великого человека? Кому верить? Чьи показания отвергать? Все они принадлежат равно достойным ученикам, друзьям, современникам ушедшего. Взяться со следовательской дотошностью за прояснение всех деталей? Но есть ли надежда на успех? Разве разноречья в рассказах очевидцев возникают от недобросовестности? Разве не играют тут решающей роли опыт и зоркость мемуаристов? И сверх всего — особый -склад их впечатлительности: ироничность одного и скептицизм другого, восторженность третьего и прозаичность четвертого? И главное: разве каждый из них не приводит свои наблюдения.-в живое согласие с цельным образом ушедшего? С тем образом, который некогда сформировался у каждого на свой лад. Этот образ как страж у ворот памяти: он пропускает одни воспоминания, удостоверяя их подлинность, и отгоняет другие, не веря в их правомочность с точки зрения целого.
Но тогда и у автора жизнеописания нет иного выхода, как . присвоить себе те же права: выбирать в разноречьях то, что
работает на его замысел. И полагать правдивыми те свидетельства современников, какие надежно служат его цели. Остальное подвергать сомнению.
Возвращаясь к истории с золотым листком, как же ответить на вопрос: что было на самом деле? Вопреки всем сомнениям все-таки верится, что это происшествие имело место. И случилось оно не раньше весны тридцать седьмого года и не позже осени. Случиться позже оно, к несчастью, уже не могло: той осенью шефа не стало.
Ассистент Кроу нечаянно застиг величие в момент унижения. Он застал могущество в минуту слабости. Но он засвидетельствовал и нечто гораздо большее: он увидел, как сила противилась горчайшей очевидности, потому\что не хотела уходить.
Однако подумалось ли ему в те мгновенья, что веди это, пожалуй, начало конца?
Взвешивая на ладони забытую вересковую трубку, .он смотрел в окно на старые университетские камни. И ждал, когда появится фигура разгневанного шефа. Она появилась, и, как обычно, перед ней расступалось пространство. Но была в ней не размашистая разгневанность, а медлительная удрученность.
Под весенним кембриджским небом медленно шел, удаляясь, четвертый кавендишевский профессор, которого столько лет любили и боялись под этим небом.
Медленно шел, удаляясь, экс-президент Лондонского Королевского общества и экс-президент Британской ассоциации, достославный член Тринити-колледжа и профессор натурально» философии Лондонского королевского института.
По весенней кембриджской улочке шел, удаляясь, доктор наук, удостоенный этой ученой степени в Копенгагене и Париже, Оксфорде и Дублине, Эдинбурге и Глазго, Дюргаме и Бир-мингаме, Бристоле и Ливерпуле, Мельбурне и Торонто, Кейптауне и Монреале, Гиссене и Лидсе, в Пенсильвании и Висконсине и, наконец, в стенах Иеля и Кларка.
По пустынной улочке старинного университетского города медленно уходил почетный член Королевской академии в Амстердаме и Академии наук Ирландии, Польской академии в Кракове и физико-математического союза Чехословакии, Датской академии и Академии Шотландии, Американской академии искусств и наук и Американского физического общества,
Вашингтонской академии и Академии наук в Сан-Луисе, Франн-линова института Пенсильвании и Немецкого общества химиков, Ученого общества Упсалы и Философского общества Глазго, Манчестерского литературно-философского содружества и Королевской медицинской ассоциации Великобритании.
Под весенним летящим небом медленно шагал, удаляясь, иностранный член Академии наук России и Академии Франции, Филадельфийской академии натуральных наук и Академии Бо-лоньи. Академии Норвегии и Академии Швеции, Ученого общества Италии и Академии наук Турина, естественнонаучных обществ Геттингена и Байера, Философского общества Роттердама и Физико-медицинского общества Эрлангена, Мюнхенской академии и римской Академии деи Линчей.
Медленно шел, удаляясь, лауреат почетных медалей Франклина, Фарадея, Румфорда, Бернара, Маттеуччи, Коплея и Альберта, лауреат научной премии Бресса и нобелевский лауреат.
Уходил один из двадцати четырех живущих рыцарей ордена «За заслуги» — лорд без аристократической родословной, барон без родовых поместий, второй из семи сыновей безвестного новозеландского фермера и безвестной новозеландской учительницы.
Распахнув окно, Кроу перегнулся через подоконник:
'— Сэр! Вы забыли трубку.
Шеф приостановился на тротуаре. Поднял голову. Посмотрел непонимающе. Потом жестом' показал: «Кидайте!» Этого Кроу не ожидал. Он в нерешительности примеривал глазом расстояние. А жест повторился — уже нетерпеливый, властный. И Кроукинул трубку. С былой безошибочностью спортсмена шеф поймал ее на лету. Однако не удержал в дрожащих ладонях. Нагнулся поднять. Коснулся пальцами каменной плиты тротуара. И его немного развеселила мысль, что надо бы крикнуть кому-то: «Какого дьявола вы трясете Англию!»
Дабы в окнах лаборатории никто ничего не заметил, он с силой прижал упавшую трубку к камню и только тогда смог сгрести ее ладонью и сунуть в карман. Кивнул на прощание Кроу. Зорко окинул взглядом все три этажа Кавендиша. Нигде не увидел за стеклами любопытствующих лиц. Усмехнулся про себя и двинулся дальше по десятилетиями исхоженной улочке.
По старинной улочке уходил один из величайших создате-
лей физики XX века — человек, проникший в атом и впервые увидевший его строение, человек, открывший атомное ядро и впервые его расщепивший, современник Альберта Эйнштейна, едва ли не равный ему по величию и заслугам перед другими людьми.
Под весенним небом медленно шел, удаляясь, лорд Резер-форд оф Нельсон — покидающий жизнь веселый и серьезный мальчик с неправдоподобно далеких берегов пролива Кука.
Полемическое вступление
Безразлично, с чего начинать рассказ о трудах и днях великого человека. Большая и цельная жизнь как глобус: острова и материки, в каком бы отдаленье ни лежали они друг от друга, все равно омываются водами Мирового океана и существуют совместно. И с чего ни начни, вращение в конце концов приоткрывает лик всей Земли.
Резерфорд впервые ступил на берег Англии в сентябре 1895 года.
В лондонском порту его никто не встречал. " Как он выглядел со стороны в толпе измученных пассажиров, спускавшихся после восьминедельного плаванья с палуб трансокеанского корабля? Не походил ли он на одного из тех предприимчивых юношей с ищущими глазами, что на свой страх и риск приплывали в столицу империи из далекого далека, полные надежд и самоуверенности?
Может быть, со стороны так оно и казалось.
Да и разве не соблазнительно рисовать себе в этом духе его юношеский образ? Судьба такого юнца заведомо драматична. Это повесть о разочарованиях и победах.
Сколько романов написано о незаурядных искателях славы и счастья — романов серьезных и романов ничтожных. Искатели бывали художниками или офицерами, поэтами или дипломатами, аббатами или врачами, изобретателями или учеными. И даже бывали никем и ничем — просто мечтателями.
Так не годился ли в герои одного из подобных романов и молодой новозеландец Эрнст Резерфорд, одиноко шагавший в тот осенний день по набережным Темзы?
Вслушайтесь: «молодой новозеландец, одиноко шагавший в осенний день по набережным-Темзы». Право же, за такою фразой сами собой открываются дали возможного романа. В эти
11
беспокойные дали уводят воображение и все существенные подробности прибытия в Лондон двадцатичетырехлётнего Ре-зерфорда.
...Два океана — Индийский и Атлантический — он переплыл на одолженные деньги. Багаж его был так скромен, точно впереди лежали быстротечные студенческие каникулы, а не годы неизвестности на чужой стороне.
...Ни одного знакомого лица на лондонских улицах. Честная бедность провинциального костюма. В боковом кармане — рекомендательное письмо: непрочный, но единственный якорь спасения на бедственный случай.
...На дне саквояжа — бережно хранимая лампа Аладдина, которая откроет перед искателем любые двери: вещественное доказательство незаурядности претендента на славу — его научное изобретение. Ему есть с чем начать завоевательный поход по жизни!
Разве не просится все это стать безошибочным зачином «романа карьеры»? А тут еще к нашим услугам новая неотразимая подробность: через месяц после прибытия в Англию он начинает письмо к невесте классической строкой:
«Наконец я перешел Рубикон...»
Его Рубиконом был порог Кавендишевской лаборатории в Кембриджском университете. А какой искатель в каком романе хотя бы однажды не вспоминал цезаревский Рубикон и не объявлял, что наконец-то он перейден?!
Но и на этом соблазн не кончается.
Много лет спустя Резерфорд примерно в таких выражениях рассказывал Артуру Стюарту Иву о своих первых неделях в Кембридже:
— ...Может быть, и не стоило бы об этом вспоминать, но они приходили под двери моей лабораторной комнаты и вызывающе посмеивались Я открывал дверь и со всею доступной мне вежливостью просил их войти. И они входили. Я говорил им о моих затруднениях. Уверял, что был бы весьма благодарен за любую помощь. И очень скоро, черт возьми, заставил их понять, что они не имели ни малейшего представления о предмете моих исканий...
Удивительно, что сохранилось это признание. Резерфорд обычно с шутливой снисходительностью говорил о преодолен ных преградах. Вероятно, потому, что преодолевал их 'без по-
12
терь. Да и вообще был он неистощимым оптимистом — в воспоминаниях, как и в надеждах. И, наверное, Иву, его другу и биографу, не без труда удалось вынудить Резерфорда на это не очень-то приятное воспоминание о недоброжелательных кембриджцах.
Вероятно, Ив, расспрашивая его о тех временах, однажды недоверчиво сказал:
— Но, послушайте-ка, что ж это получается: вы словно хотите уверить меня, будто вас, совсем еще зеленого юнца, очутившегося вдруг на чужбине, среди незнакомых людей, ни" что и никогда не удручало! Так ли это?
Прямой вопрос требовал прямого ответа, и Резерфорду не оставалось ничего другого, как на минуту задуматься. И тогда воскресли в памяти недобрые обстоятельства той первой осени в столице.
...Лондонская погода-непогода: внезапные смены не северной жары и северных холодов; промозглые туманы, о которых он прежде столько читал.
...Мучительная невралгия, охватившая шею и парализовавшая левую половину лица; хождения к аптекарю за неисцеляющими лекарствами.
...Дурацкое одиночество в многолюдных ущельях великого города; неустранимая тоска по Мэри Ньютон, отделенной от него двумя океанами; бессмысленная задержка переезда в Кембридж, уже близкий, но все еще недостижимый из-за непредвиденной болезни.
...Потом вспомнилось кембриджское малоденежье. Потом — трудности экспериментов. И наконец — «они», приходившие под двери его рабочей комнаты на третьем этаже Кавендишевской лаборатории. Словно нарочно затем приходившие, чтобы, как во всяком стоящем романе об искателе славы и счастья, напомнить: «Рубикон еще не перейден — не так это просто...»
«Они» — это были молодые люди из тщеславных и недалеких. Ассистенты кавендишевских знаменитостей. Начинающие лабораторные службисты, которым суждено было остаться безымянными. В общем-то вовсе не плохие и, как выяснилось со временем, даже благожелательные люди, они, однако, не только по молодости лет полны были Всяческих самообольщений. Они жили с естественным ощущением, что их возвышает уже сама принадлежность к одному из старейших университетов Англии. Коренные лондонцы или коренные кембриджцы, они обольщались еще и своей столичностью.
А кем он был в их глазах? Провинциал из глухой колонии. Самая жалкая разновидность провинциала. Шесть с лишним
13
футов роста при внешности хоть и цивилизованного, но скотовода Чистосердечность улыбки и неумеренность гнева. Искренность, отдающая нестоличной простоватостью. Громкий голос без гибкости интонаций. И слышный за милю новозеландский акцент... Словом, парень с той стороны планеты — из дикой страны еще не до конца усмиренных маори. В иной роли — скажем, фермера или шкипера — был бы образцово хорош! Но в роли ученого кембриджца? Просто смешно...
Он был для них поначалу не более чем баловнем везения:
неразборчивый случай дал ему сносную стипендию, предоставляемую редким выходцам из колоний. Вот и все. Если же он чем-то и выделялся там, в глуши Антиподов, так велика ли доблесть оказаться первым среди жалких колонистов? Нет, конечно, чужой. Не пара и не чета их патронам и шефам.
Старая спесь метрополии кружила молодые головы этих посредственных детей эпохи британского преуспеяния. Но как раз этого-то мы и ожидали! Разве обычно в романах о викторианской Англии не старая спесь метрополии — первый и хладнокровнейший враг всего незаурядного, особенно пришедшего со стороны?
Воочию видно: соблазн не иссякает. Напротив, он крепнет. Чем дале, тем боле.
Ведь совершенно в духе «романов карьеры» сразу обнаруживается в молодом Резерфорде еще и некая скрытая сила, втайне смущавшая тех исконных британцев. Отчего подчинялись они его смиренному жесту, когда он, умевший в ту, раннюю пору справляться с приступами ярости, не спеша открывал дверь своей рабочей комнаты и с видимым спокойствием приглашал их войти? Что понуждало их без смешков, оставленных в коридоре, послушно внимать его объяснениям?
Сильная личность? Да, сильная личность! Но разве это не то обязательное звено, которого нам еще недоставало? Ведь на страницах «романов карьеры» именно сильная личность обеспечивает себе победу в жизненной борьбе.
Обеспечил ли себе такую победу молодой Резерфорд? Разумеется. Это нам известно заранее. Но, кроме того, сохранилось удостоверяющее свидетельство тех лет — славная фраза одного ученого кембриджца, отнюдь не принадлежавшего к кругу враждебных ассистентов, доктора Эндрью Бальфура:
«МЫ ЗАПОЛУЧИЛИ ДИКОГО КРОЛИКА ИЗ СТРАНЫ АНТИПОДОВ, И ОН РОЕТ ГЛУБОКО».
Это была формула признания.
14
Итак, что же: роман о сильной личности и судьбе одаренного одиночки?
Кажется, надежней всего было бы уклониться от прямого ответа. И да, и нет. К тому же издавна известно, что истина любит лежать посредине. Однако у старых премудростей есть врожденный недостаток: они выравнивают разнообразие жизни по наиболее вероятному образцу. Оттого эти премудрости и не стареют. Но труды и дни замечательного человека под критерий наибольшей вероятности не подходят. Принципиально не подходят!
В случае Резерфорда «и да, и нет» совсем не годится. Он был скроен из целого куска. Тут истина отдала предпочтение крайности. Вот только какой? Сначала кажется: выбор ограничен двумя возможностями — либо трезвый карьерист, либо одержимый романтик. Что же может быть третье? Сплав того и другого невозможен. И все-таки Резерфорд был нечто третье.
Но сперва — кем он не был наверняка.
Ни по натуре своей, ни по жизненным устремлениям он не был ни искателем счастья, ни искателем славы, хотя в избытке нашел и первое и второе. Не был он ни романтическим фантазером, ни самоуверенным карьеристом, хотя шёл всю жизнь дорогами неведомого, а карьеру сделал такую, что ее достало бы на стаю Растиньяков. Глаза его не были беспокойно ищущими. И не туманила их поволока мечтательности. И ни перед кем не опускал он их долу с притворной скромностью. И не поблескивала в них холодная сталь скрытой расчетливости. И даже огонь фанатической одержимости не озарял их. Не был он наивным ребенком до старости. И не был мудрым старцем с юности.
Словом, психологические стандарты тут не годятся. И нелегко было бы актеру «сыграть Резерфорда», потому что труднее всего воплотить в убедительном образе непрерывную естественность. И нелегко было бы романисту справиться с его человеческим портретом, потому что труднее всего изображать «божественную нормальность».
Он был статистической редкостью — чудом неистощимой силы здорового духа. И не оттого ли многие из тех, кто знал его близко, были уверены, что он являл бы собою равно выдающегося деятеля на любом поприще, какое могла подсунуть ему жизнь?
Повезло физике,
15
И в заокеанскую столичную даль его привели из колониальной глуши не завоевательные планы и не слепые надежды, а естественная дорога роста — тропа научных исканий, на которую он однажды ступил.
«Они», недалекие кембриджские ассистенты, не ошибались в одном: ему и вправду благоволил случай. Однако отчего это незрячий случай порою вдруг прозревает и види?: вот кому стоит помочь? О том, что Резерфорд родился с серебряной ложкой во рту, говорили все, кто о нем писал. И нам этого удивления перед его везучестью, конечно, не избежать. Но случай помогал ИДУЩЕМУ — гению, труду, отваге. Вот когда он прозревает!
Дикий кролик из страны Антиподов действительно рыл глубоко. Так глубоко, что в этом-то и было все дело. Его движенье вверх по лестнице жизни просто зеркально отражало его движенье в глубь вещей. Позже, через несколько лет после его прибытия в Англию, это стало для Резерфорда совершенно буквально: ДВИЖЕНЬЕМ В ГЛУБИНЫ ВЕЩЕСТВА — в недра атомов и атомных ядер.
Но начал он не с этого.
С чего же он начал?
Со своей лампы Аладдина, покоившейся на дне его саквояжа?
Но это, конечно, относительное начало. К нему вели годы студенчества в Кентерберийском колледже Новозеландского университета.
А до университета была средняя школа типа английских публичных школ для старших мальчиков — Нельсоновский колледж в маленьком городе на берегу Тасманова залива.
А еще прежде была начальная школа в прибрежном местечке Хэйвлокк у входа в узкий Пелорус Саунд.
А до Хэйвлокка — время первоначального ученичества в селенье Фоксхилл на берегу пролива Кука.
А до Фоксхилла — ранняя пора ребячества в близлежащей деревне Спринг Гроув.
Где же начало? \
И вот возникает естественное искушение сразу обратиться к безусловнейшему из начал и сказать: он начал с того, что родился! И в согласии с такой неоспоримой очевидностью зачин повествования удался бы легко и без раздумий:
16
...В зимний день 30 августа 1871 года на Южном острове Новой Зеландии, в деревушке Спринг Гроув, позже получившей название Брайтуотер, произошло знаменательное событие: в доме местного колесного мастера Джемса Резерфорда раздался крик новорожденного.
— Марта родила мальчика. Еще одного мальчика! Просто везет этим Резерфордам! — передавали из уст в уста спринггроувские старожилы.
Мальчику дали имя Эрнст, точно предчувствуя, какие серьезные дела суждено ему будет совершить в мире.
Затем нужно было бы разъяснить две детали: отчего августовский день назван тут зимним и почему с именем Эрнст могло связаться предчувствие грядущих свершений новорожденного. Но такие пустяковые вещи разъясняются в сносках: когда у нас лето, в южном полушарии зима, а имя Эрнст равнозначно прилагательному «серьезный».
Так, может быть, и в самом деле этот зачин содержит лучший ответ на вопрос: с чего он начал? Но беда как раз в бесспорности такого ответа. Он не только не лучший, а даже и вовсе не ответ.
Так начинали и начинают все. Тут нет ничего резерфордов-ского, не правда ли? Вот когда бы мы сохранили веру наших предков в гороскопы, тогда другое дело. Но как быть нам, иро-' ническим антифаталйстам XX века? Точные даты рождения за-' мечательных людей ничего нам не говорят. В тот давний августовский день на берегу пролива Кука родился просто мальчик — образцовый крепыш с неприуготовленной заранее судьбою великого исследователя глубин материи.
Кстати сказать, у колесного мастера Джемса и учительницы Марты семья росла год от году, и было у них, кроме Эрнста, еще шесть сыновей и пять дочерей. Перси, Герберт, Чарльз, Джордж, Джеме, Артур, Нэлли, Алиса, Флоренс, Этель и Ева. И все они, родившись в свой срок, начинали, подобно Эрнсту, жить в окружении полудикой и впечатляющей новозеландской природы. И все, за вычетом рано погибших Перси, Герберта, Чарльза, начинали в свой срок самостоятельную жизнь. И, однако, ни о ком из них не имело бы смысла спрашивать, с чего они начали. Ибо лишен исторически содержательного смысла вопрос: что именно начали? Их жизни не оставили существенного следа в жизни человечества.
А брат их Эрнст оставил след такой глубокий и таких неповторимых очертаний, что его уже никогда не затопчут шаги последующих поколений. Так только этот след и должен вести нас по дороге трудов и дней Эрнста „Рйзерфорде»-*-!
Все остальниь вши ЙизняГ-рвраве притягув@ъ |с себе наше
17
любопытство и обнаруживать свою содержательность лишь в точках пересечения с этим следом. И потому не хочется поддаваться искушению — начинать с безусловнейшего из начал:
с появления на свет младенца, названного Серьезным. Избежим этой иллюзии начала.
Но с чего же все-таки начать нашу ветвистую историю о том, как возникал, прочерчивался и углублялся нестираемый след, оставленный мальчиком с берегов пролива Кука в жизни всего человечества?
Да ведь она уже началась, эта история!
Мы уже застигли двадцатичетырехлетнего новозеландского бакалавра наук на осенней набережной Темзы с дорожным саквояжем в руках.
