Новый золотой листок, тонкий, вибрирующий, не хотел прилаживаться к стерженьку старого элек-|| троскопа
| Вид материала | Документы |
- Старая сказка о Золотой рыбке на новый лад, 47.62kb.
- Лекция №2 элекТрические сигНАлы инТЕгральных миКРОсхем, 64.56kb.
- Этот старый Новый год!, 113.66kb.
- На маршруте «От Николая до Иордана» новогодний тур для детей и взрослых восточный экспресс, 106.11kb.
- * Законный представитель, 30.63kb.
- Изобретение электрической сварки, 31.46kb.
- Московский новый юридический институт мировая экономика контрольные вопросы по курсу, 55.8kb.
- Листок нетрудоспособности. Заполняем новый бланк проверка заполнения больничного листка, 216.67kb.
- Новый год в индии: золотой треугольник + гоа, 215.15kb.
- Сказки "золотой клетки", 811.87kb.
мов нитрата разделили на две равные порции, и оба независимых измерения провели в одинаковых условиях.
Предвиденное сбылось: через 3 часа — '/зо, через 24 — '/б...
Вот тогда-то и наступил день, когда с мачты раздался срывающийся голос матроса — «Земля!», а сам адмирал не очень этому удивился.
Я почувствовал, как колотится мое сердце, и, словно уносимый некоей силой, действующей извне, услышал со стороны, как произношу невероятные слова: «Резерфорд, это превращение элементов!»
Так через пятьдесят с лишним лет старый профессор в отставке Фредерик Содди рассказывал о том историческом событии своему биографу. Он возвращался к этому воспоминанию не раз. В старости оно с прежней силой будоражило его некогда потрясенное сознание. Есть вариант его рассказа:
...Я был Переполнен чем-то большим, нежели радость, — не могу выразить это достаточно хорошо, — но то был своего рода восторг, смешанный с несомненным чувством гордости, что из всех химиков всех времен именно я был избран для того, чтобы открыть естественное превращение элементов.
Мне припоминается довольно отчетливо, как стоя, словно прикованный к месту и ошеломленный важностью случившегося, я выпалил:
«Резерфорд, это трансмутация...»
Вещая фраза молодого Содди была длинней, и в ответ он услышал великолепную реплику Резерфорда. Но об этом чуть ниже. А пока надо заметить, что невозможно с точностью установить дату крушения старой атомистики. Одно бесспорно:
так же как и День птиц, был в этом эпохальном исследовании Резерфорда и Содди свой День Земли. И вероятней всего, случился он в феврале 1902 года — через пять-шесть недель после памятных рождественских каникул. Будь период полураспада тория-Х в два раза короче. День Земли наступил бы для наших Колумбов раньше — в январе.
Но почему же только День Земли? Разве их плаванье не подошло к концу и они еще не высадились на берег?
14
Многое оставалось неясным. И прежде всего, как это ни смешно, вовсе еще не было доказано, что в препаратах тория действительно имеет место превращение элементов. Может
223
быть, все-таки прав Беккерель и рождение тория-Х, как и рождение урана-Х, только своеобразный молекулярно-химический процесс? Даже и не очень-то своеобразный; течение многих химических реакций тоже подчиняется закону экспоненты!
Уже твердо зная, что по энергетическим соображениям нельзя химически объяснить радиоактивность, Резерфорд и Содди решили экспериментально поставить все точки над «и».
Скорость одной и той же химической реакции заметно меняется с изменением физических условий ее протекания. И это понятно: химическая реакция — результат взаимодействия атомов и молекул, а такие взаимодействия могут происходить чаще или реже — в зависимости от обстоятельств. Нагревание ускоряет процесс. Охлаждение — замедляет.
Содди заставил ториевы препараты пройти сквозь огонь и воду и медные трубы. (Почти буквально!) Может показаться, что это было топтаньем на месте. Давно уже стало известно:
никакими внешними воздействиями нельзя ни усилить, ни ослабить поток радиоактивного излучения. Здесь, в Монреале, два года назад в этом убедился на примере эманации Резерфорд. Однако теперь речь шла о другом.
Теперь исследовался процесс появления на свет не излучения, а излучателя — самого радиоактивного вещества. И никто еще не знал, что новый излучатель рождается именно в акте излучения! Думалось: это два разных процесса• — связанных между собой, но разных. Резерфорду и Содди только еще предстояло поставить тут великий знак равенства. Это произошло позже — летом 1902 года. Вот тогда-то они и высадились на берег, действительно закончив историческое плаванье.
А пока Содди растворял, высушивал, нагревал, замораживал, кристаллизовал, прокаливал ториевы препараты, чтобы доказать: скорость процессов рождения и умирания тория-Х ни, от чего не зависит. Эта скорость и вправду оставалась неизменной. И стало ясно, что тут никакой роли не играет частота столкновений — взаимодействий — атомов и молекул. События разыгрываются где-то во внутреннем мире каждого атома. Обстановка за его пределами не существенна.
Итак, можно было надежно утверждать: торий-Х — плод внутриатомных превращений. Это новый элемент, возникающий всюду, где присутствует торий.
Работая над второй статьей для «Трудов Химического общества» Англии, Резерфорд и Содди по-новому — прозревшими глазами — взглянули на весь пройденный путь.
С чего он начался и когда? С эманации — в 1899 году. Такие же экспоненты, как для тория и тория-Х, Резерфорд ло-
224
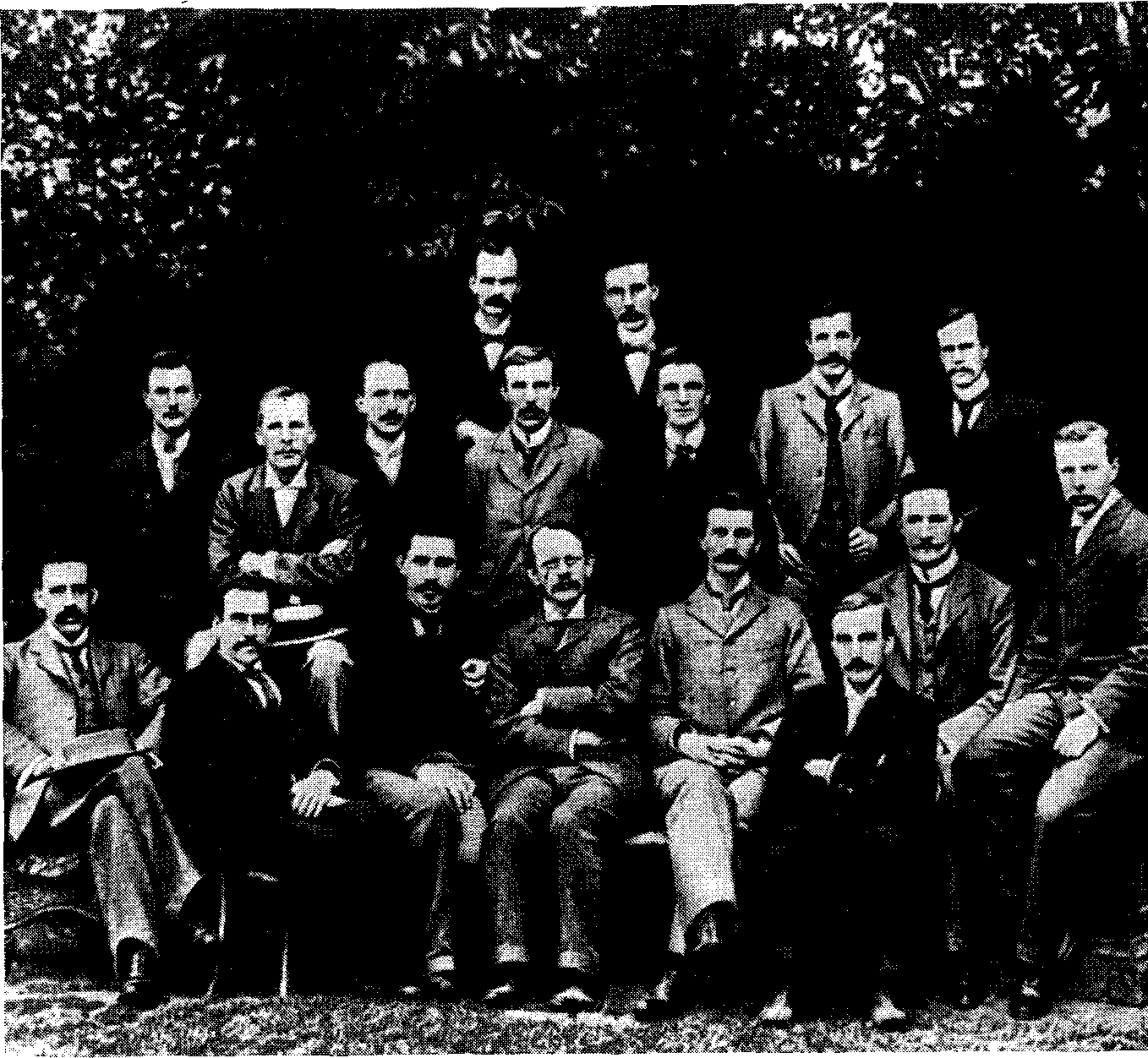
9. Группа первых докторантов [resaarch-studentse] Дж. Дж. Томсона в Кавендишевской лаборатории. Кембридж. 1898. Сидят (слева направо): Мак-Клелланд, Чайлд, Поль Ланжевен, Дж. Дж. Томсон, Дж. Зелени, Уилловс, Г. Вильсон, Дж. С. Таунсенд.
Стоят: Уэйд, Шекспир, Ч. Т. Р. Вильсон, О. Ричардсон, Эрнст Резерфорд, Генри Крэйг, Гендерсон, Винцент, Брайян.
34. Пародийный щит президента Британской Ассоциации. 1923. •;
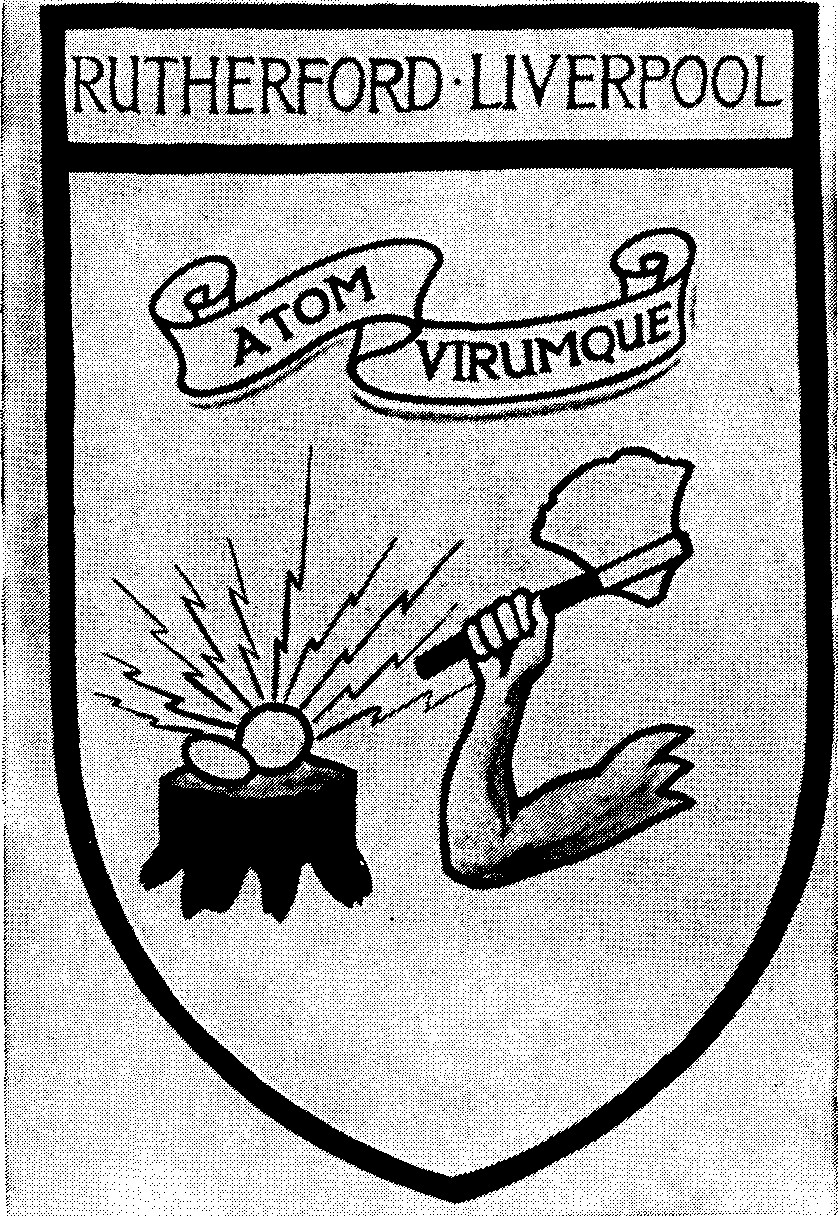
35. Герб лорда Резер-форда оф Нельсон. 1931. (Крест на щите образован экспонентами радиоактивного распада.]
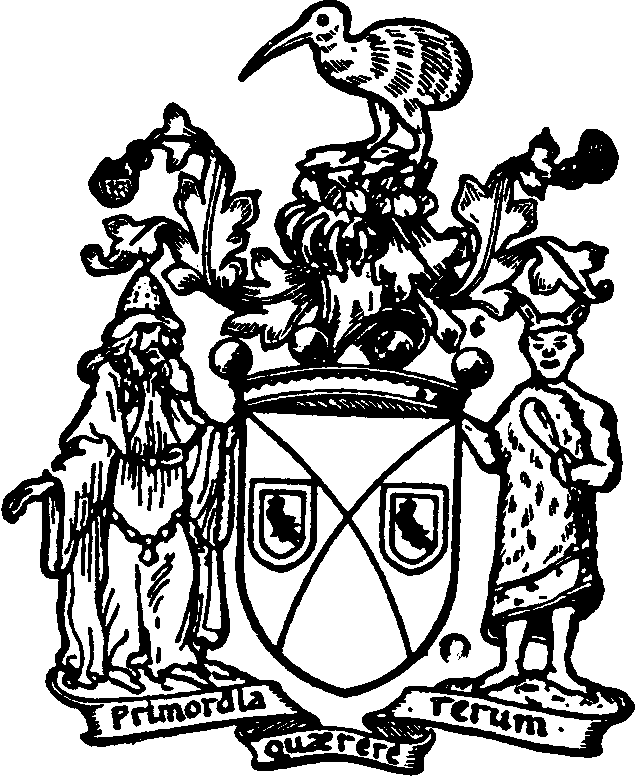
лучил тогда впервые для эманации и возбужденной радиоактивности. Равновесие устанавливалось и между этими радиоактивными веществами. Их неуловимость помешала обследовать замечательное явление с достаточной полнотой. Но теперь-то все прояснилось.
Вытянулась целая цепь атомных превращений.
Каждому сопутствовало испускание энергии. Рождались не обычные, а излучающие атомы.
Обычными казались в этой цепи атомы лишь тория, с которых все начиналось. Они казались обычными потому, что монреальцы, сумев отделить торий-Х, приписали ему всю радиоактивность ториевых соединений. А на самом деле он уносил с собою только большую часть активности тория, но отнюдь не всю. Резерфорд и Содди это видели. Больше того — это их смущало. Но они полагали, что объяснение для такой неотделяемой радиоактивности позже найдется. Они даже построили две малоправдоподобные гипотезы (но не настаивали на них).
Между тем именно этот пункт ввел их в заблуждение. Пристать к уже открывшемуся берегу оказалось не так легко, как это позже думалось Расселу.
Если торий совсем лишен активности, естественно было предположить: излучению должно предшествовать превращение .элементов. Атомы тория перестраиваются в атомы •гория-X и отдают им весь громадный запас своей избыточной энергии. Атомы тория-Х часть ее излучают. Потом они перестраиваются в атомы эманации, завещая им еще не .растраченную часть энергии тория. Атомы эманации излучают долю этой части. А потом дают жизнь атомам «Е. R.». Эти последние тоже'не обездолены энергией — им достается в наследство от эманации все, что она не сумела излучить. Потому-то и эти атомы радиоактивны. Возможно, цепь превращений тут не обрывается и возникает еще один излучатель, пока, правда, не обнаруженный. Каждый излучатель в этой цепи теряет предназначенную ему долю энергии тория со своей скоростью. Так, атому эманации нужна всего одна минута, чтобы излучить половину того, что он вообще способен излучить, а атому тория-Х на это требуется четыре дня.
Словом, радиоактивность представилась Резерфорду и Содди в виде некоего процесса постепенного истечения избыточной энергии из каждого атома, пережившего по неизвестной причине внутреннюю перестройку.
Совершенно уверенные в своей правоте и равно взволнованные решением проблемы, еще никому не давшейся в руки,
16 Д. Данин
225
они быстро закончили вторую статью под тем же скромным заглавием, что и первая, — «Радиоактивность соединений тория». Но в подзаголовке они уже позволили себе громкую ноту, «Причина и природа радиоактивности», — начертали они.
И снова зимняя почта унесла из Монреаля в Англию важные научные новости. И снова вместе с рукописью статьи ушло в Лондон письмо Резерфорда Круксу. Он просил у сэра Вильяма помощи, как сообщник: надо заставить редакцию «Трудов Химического общества» опубликовать эту работу тотчас,
Она действительно появилась в печати уже в апреле. И наверняка произвела бы неотразимое впечатление на физиков всего мира, если бы физики всего мира хоть изредка заглядывали в журналы химиков. (В апреле следующего года — 1903-го — Резерфорду пришлось обратиться в редакцию «Philosophical magazine» с полемическим письмом по поводу ряда неосновательных утверждений Беккереля и Пьера Кюри. Это издание физики всегда читали. В споре с Кюри речь шла о вещественной природе эманации радия и тория. И кроме всего прочего, Резерфорд вынужден был упрекнуть Пьера Кюри за то, что тот, «очевидно, не заметил недавнего сообщения» Резерфорда и Содди о сжижении эманации. А сообщение это было опубликовано в одном известном химическом журнале!)
Но и -впрямь — нет худа без добра. Хотя до физиков Европы историческое исследование монреальцев дошло на полгода позже, зато оно досталось им в гораздо более совершенном виде, чем химикам. За это время Резерфорд и Содди успели радикально улучшить свои теоретические представления. Связь между радиоактивностью и трансмутацией предстала в новом свете. И коллеги Резерфорда не подозревали, какое глубокое заблуждение пришлось преодолеть ему вместе с Содди, прежде чем окончательно оформилась теория радиоактивного распада.
Произошло это летом 1902 года.
Они занимались, казалось, чисто литературным трудом: сочиняли для «Philosophical magazine» новый вариант уже опубликованных статей. Теперь подзаголовок второй стал общим громким заглавием обеих: «Причина и природа радиоактивности». Литературная работа не выглядела обременительной, и едва ли оба автора ожидали, что в один прекрасный день на них снизойдет внезапное озарение.
«Был сезон затишья, — пишет Альфред Ромер, — занятия окончились, большинство старых экспериментов было сделано, а новые еще не начаты. Ученые хорошо поработали и теперь
226
отдыхали». Конечно, это было отдыхом: прохлада домашнего кабинета на улице Овятого семейства, лениво вытянутые ноги, чистые листы бумаги на столе, макдональдовский табак и трубка Содди (под защитой оправдания — «Но, Мэри, это Фредерик курит!» — можно было и самому тайком потягивать трубку), довольно мирное обсуждение однажды уже написанных фраз, включение в текст новых деталей, никаких споров и — никакой спешки... Откуда снизойти озарению? А оно снизошло. И разумеется, внезапно. Да нет, подозрительна эта вечная внезапность: у нее всегда есть история — она только обнажает скрытую работу мысли, безучастной к каникулам и не дремлющей даже в часы праздности.
Им самим сначала показалось не слишком значительным то, к чему они вдруг пришли. «Взгляд, слегка отличный от прежней точки зрения... в некоторых отношениях предпочтителен», — так написали они в последней главке второй статьи. Но это «слегка» вело к глубоким последствиям.
Он решили: а что, если отбросить предположение, будто новый атом сперва рождается в недрах старого и лишь потом начинает постепенно излучать энергию? Есть иная возможность:
излучение сопутствует трансмутацйи! Испускание луча — сигнал о совершившемся акте превращения атома. Это одновременные события. И потому-то радиоактивное излучение состоит из всплесков радиации. Каждый всплеск — знак того, что один из атомов претерпел превращение.
Многое, казавшееся дотоле непонятным или случайным, получило закономерное объяснение. И прежде всего экспонента затухания радиоактивности.
Вот образец, скажем, тория-Х. Это скопление одинаковых атомов. Внутри каждого действуют одни и те же причины, вызывающие в конце концов его превращение в атом эманации. И каждый атом переживает свою судьбу совершенно независимо от других, иначе температура, давление и прочие внешние условия влияли бы на интенсивность излучения. Но если каждый атом претерпевает превращение сам по себе, то для этого процесса решительно неважно, сколько всего атомов участвует в игре. Важна только вероятность превращения. Опыт показывает: за четыре дня радиация тория-Х убывает наполовину. Что это значит? Только одно: свойства атомов тория-Х таковы, что на протяжении этого времени у каждого второго из них появляется шанс пережить перестройку — «дозреть до трансмутации». Было, допустим, 200 миллиардов атомов. За четыре дня 100 миллиардов претерпят превращение. За следующие четыре дня каждый второй из оставшейся половины, в свой че-
15* 227
ред, переживет трансмутацию: излучение затухнет еще наполовину... Словом, убывающая геометрическая прогрессия—200. 100, 50, 25 миллиардов — тут возникает естественно. Каков бы ни был еще неизвестный механизм превращения атомов, статистический закон экспоненты появляется тут по необходимости, сам собой. А почему торию-Х требуется четыре дня нь то, на что эманации достаточно одной минуты, это уже другой вопрос. Когда-нибудь физика на него ответит. Но не раньше, чем проникнет в самые глубины атомов...
Научные сочинения, как и литературные, обладают порой подтекстом. И когда это случается, из-за глухой стены безлич-jho объективных выкладок и выводов неожиданно доносится человеческий голос самого исследователя. И становится «слышно» его умонастроение. Вот как заканчивалась еще в первом варианте историческая работа Резерфорда и Содди:
...Кажется, нет ничего безрассудного в надежде, что радиоактивность доставит средства получения информации о процессах, совершающихся внутри химического атома.
Эту фразу, со всей ее не до конца подавленной эмоциональностью, они сохранили и в рукописи для «Philosophical magazine». Материал новых умозаключений стократно .усилил ее звучание: теперь можно было выкинуть «кажется», настолько очевидно стало, что нет ничего безрассудного в высказанной .надежде.
15
Так произошло открытие естественного превращения элементов.
Так возникла теория радиоактивного распада. Так пришел конец старой атомистике.
Подходит к концу и рассказ о великолепном сотрудничестве Резерфорда и Содди. Но окончание этого рассказа будет, к сожалению, не таким вдохновляющим, как начало. (Впрочем, разве не было и вначале малоприметных, но явственно темных черточек, предвещавших впоследствии дурную погоду?)
Для хроникальной полноты картины осталось досказать немногое.
Совместное научное наследие Резерфорда и Содди не исчерпывается двумя вариантами двух статей о радиоактивных каверзах тория и той маленькой заметкой, что ускользнула от
228
внимания Пьера Кюри. За их двойною подписью появились еще четыре работы. Они не содержали новых великих открытий. Но довольно и того, что в них на расширенном материале подтверждалась «теория дезинтеграции материи». Все тот же «Philosophical magazine» без промедлений опубликовал и эти четыре работы. Две — в апреле, две — в мае 1903 года.
А Резерфорда и Содди в это время уже разделял океан.
В феврале оксфордец навсегда простился с Монреалем. Он отправился в Штаты, и оттуда — в Англию. Он увозил' с собою лучшие воспоминания о Мак-Гилле. Ему шел двадцать шестой год, и окружающие уже не принимали его за юнца. К полученной в Канаде научной степени магистра искусств он зачем-то по-прежнему прибавлял свое гордое — «Оксоун». И хотя не сбылась его честолюбивая мечта о профессуре, жаловаться ему было не на что. Свершилось нечто несравненно большее: он возвратился в Англию знаменитостью.
В превращении элементов еще сомневались научные авторитеты. Но не знали сомнений журналисты. С обычным своим энтузиазмом — восторженным, а потому иногда опрометчивым — они успели разнести по свету молву о беспримерном открытии двух канадцев. Трансмутация атомов сделалась добычей ежедневной прессы. И даже юмористических журналов! Это было равносильно диплому на всеобщее признание. Едва узнав, что Резерфорд собирается провести летние вакации в Европе, секретарь Королевского общества, старый кембриджец Джозеф Лармор написал в Монреаль: «Вы будете львом сезона для газет, которые стали радиоактивными». Он не упомянул Содди. Может быть, потому, что письмо было частным. Но. наверное, не только поэтому.
В научных сферах от Резерфорда уже привыкли ждать пионерских работ. Имя Содди всплывало впервые. Все выглядело более чем обычно: учитель и ученик. Распределение ролей казалось очевидным: физик-вдохновитель и химик-исполнитель.
Но и вообще — в науке, как в жизни, — популярность редко делится поровну между равноправными участниками большого свершения. Молва легко находит повод отдать предпочтение одному из соавторов. Выдающийся профессор с новозеландской родословной... — это звучало свежо. Отличный Демонстратор оксфордского изготовления... — это звучало традиционно. Молва предназначила Содди роль не льва, а львенка. Младшего — рядом со старшим. Второго — рядом с первым. Ошеломляющее открытие самопроизвольного превращения атомов тотчас сделало всесветно известными имена обоих, но ела'. ва их была не одного и того же качества.
229
Чувствовал ли это Содди? Наверняка. Придавал ли он этому какое-нибудь значение? Сначала никакого, потом чрезвычайное. Или, быть может, сначала он просто умел справляться С собой и бдительная острота его ума была сильнее искушающих притязаний тщеславия? Это выглядит правдоподобно. Во всяком случае, делает менее неожиданным то, что произошло со временем, когда Резерфорда давно уже не было в живых.
...Они проработали вместе ровно два года. Потом, после Монреаля, вскоре встретились в Лондоне. И это был заключительный эпизод в истории их содружества.
-Ту деловую встречу не подстраивал случай — она не могла не произойти.
...М-р Содди вернулся в Англию по моему совету, для того чтобы работать в Университетском колледже, в Лондоне, над чисто химическими вопросами, связанными с радиоактивностью..
Так писал Резерфорд в рекомендательном письме, которое позже, в 1904 году, понадобилось Содди для новой попытки обрести долгожданную профессуру. И еще раз, через двадцать лет:
...Содди оставил Монреаль ради работы с сэром Вильямом Рамзаем над химическими проблемами. Чтобы избежать ненужного дублирования, я набросал перед отъездом Содди разграничительную схему будущих исследований.
Расставаясь в феврале 1903 года, они знали, что увидятся В начале лета: Резерфорд уже планировал каникулярное путешествие за океан вместе с Мэри и маленькой Эйлин.
Он посетил лабораторию на Говер-стрит в очень удачное время. Незадолго до этого, праздно бродя по весеннему Лондону, Фредерик увидел в витрине магазина Изенталя фантастическое объявление: «Здесь продаются чистые соединения радия». Еще фантастичней была цена — всего 8 шиллингов за миллиграмм бромида! Рамзай приобрел 20 миллиграммов. Это было первое, что услышал Резерфорд, переступив порог лаборатории. Прочие новости Содди должен был выкладывать ему уже на улице, показывая кратчайшую дорогу к заветному магазину. Полвека спустя Содди сочувственно вспоминал, в каком замешательстве стоял Резерфорд у прилавка, всем своим видом выдавая безудержное волнение. Еще бы: они достаточно настрадались в Монреале без добротных источников радиации! И особенно Резерфорд. И особенно минувшей осенью и зимой 1902 года, когда после завершения главной работы по
230
трансмутации его вниманием завладели альфа-лучи. Ему пришлось просить содействия Кюри, чтобы раздобыть сносный радиевый препарат (1 часть радия на 99 частей бария).
Резерфорд приобрел 30 миллиграммов драгоценного бромида, и с той же поспешностью они вдвоем вернулись на Говер-стрит. Тотчас закрылись в темной комнате, где находился флюоресцирующий экран, и распаковали изенталевский препарат. «Эффект был потрясающим, — вспоминал Содди. — Это было так, как если бы слепорожденный вдруг прозрел... Столько изучавший беккерелевы лучи, Резерфорд впервые их увидел. Ведь все свои работы он провел ионизационным методом с радиоактивными веществами слишком слабыми, чтобы вызывать свечение экрана».
Но Резерфорд увидел в тот день и еще одно долгожданное зрелище.
Было давно замечено: в радиоактивных минералах почти всегда присутствует гелий. Так не рождается ли он при трансмутации атомов радия? В Монреале Резерфорд и Содди доказать это не успели. А места более подходящего для спектроскопического решения такого вопроса, чем лаборатория сэра Вильяма Рамзая, нельзя было бы и придумать. Фредерик уже пытался добиться успеха. Но не все шло благополучно: желтая линия гелия была видна, остальные — нет. И вот — в тот именно день опыт вполне удался. «После полудня, — рассказывал двадцать лет спустя Резерфорд, — присутствие гелия было установлено...» Они увидели сияние всех шести главных линий гелиевого спектра ..
Покидая лабораторию на Говер-стрит, Резерфорд до осени оставил Рамзаю и Содди свои 30 миллиграммов бромида. Не для хранения — для работы. «Я одолжил им мой радий для подтверждения важного открытия».
Но, собственно, что еще нужно было подтверждать? Да самое главное: то, что гелий не просто сопутствует радию, а рождается в нем. Если рождается, количество его в препарате должно расти. В руках двух замечательных химиков те 30 миллиграммов прошли через все испытания без потерь и сослужили свою первую службу. Где-то на континенте — не то в Париже, не то в Швейцарии — путешествующего Резерфорда настигла в июле победная телеграмма из Лондона. Количество гелия росло! А затем пришло письмо от Содди: «...Это был подлинный триумф, и мы Вам очень благодарны за то, что вы сделали его возможным».
Так завершилось их сотрудничество. Финал был отмечен искренностью, великодушием, взаимным доверием.
