Денисов Ордена Ленина типографии газеты «Правда» имени И. В. Сталина, Москва, ул. «Правды», 24 предисловие вэтой книге собраны очерки и рассказ
| Вид материала | Рассказ |
СодержаниеСо всего плеча Б. полевой А. земцов П. кузнецов |
- Писателя Рувима Исаевича Фраермана читатели знают благодаря его книге "Дикая собака, 70.52kb.
- Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук, 251.13kb.
- Имени Н. И. Лобачевского, 608.68kb.
- Высшее военно-морское инженерное ордена ленина училище имени, 2642.89kb.
- И. А. Муромов введение вэтой книге рассказ, 11923.67kb.
- Правда Ярославичей". Хранители правды, 144.68kb.
- Разработка комплексной асу технологическим процессом производства изделий электронной, 36.71kb.
- Время собирать камни. Аксаковские места Публикуется по: В. Солоухин "Время собирать, 765.53kb.
- Из зачетной ведомости, 78.76kb.
- Леонид Борисович Вишняцкий Человек в лабиринте эволюции «Человек в лабиринте эволюции»:, 1510.87kb.
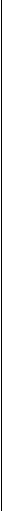 в станицу. Нынче условились старики собраться в колхозе по-глядеть: чем весну встречать, чем пахать, чем сеять.
в станицу. Нынче условились старики собраться в колхозе по-глядеть: чем весну встречать, чем пахать, чем сеять.А над станицей, над степью, над казаками, окутанными снежной пылью, все выше и выше поднималось солнце, кроваво-алое, веселое, молодое солнце сорок третьего года.
Л. ОГНЕВ
СО ВСЕГО ПЛЕЧА
- Ну, как? — спросил генерал.
- Ничего не видно,— ответил летчик.
- Прекрасно,— облегченно вздохнул генерал и приказал сегодня же перебросить на правый берег еще несколько десятков орудий. Если свой летчик с бреющего полета в названных заранее местах не заметил замаскированных пушек, то их не обнаружит и авиация противника.
Уже несколько дней артиллеристы готовили удар по гитлеровским позициям, расположенным на западном берегу Днепра. Тысячетонным молотом огня и металла они должны были смять укрепления противника и проложить дорогу нашей пехоте и танкам.
Жар сражения не угасал здесь ни днем, ни ночью. Зацепившись за правый берег, наши части шаг за шагом расширяли захваченный участок. Гитлеровцы огрызались с яростью обреченных. Ожесточенность их сопротивления объяснялась при первом же взгляде на карту. Днепр здесь тупым клином врезается далеко на северо-восток, и этот небольшой клочок земли, с выжженной солнцем и снарядами травой, логикой войны превратился в очень важный плацдарм для развития дальнейшего наступления. Владение им позволяло успешно продвигаться в глубь правобережья, не опасаясь за фланги. Противник же, заполучив эту излучину в свои руки, все время держал бы занесенный нож над наступающими советскими частями.
Вот почему вражеское командование бросило сюда, на этот сравнительно небольшой участок фронта, восемь пехотных и танковых дивизий, в том числе многократно битые, а затем вновь и вновь пополняемые эсэсовские дивизии «Райх» и «Викинг». Они образовали сплошную стену, которая должна была наглухо закрыть все пути на запад. Не довольствуясь, однако, этим, фашисты вывели в первую линию обороны пять дивизионов артиллерийского усиления, в»вели в боевые порядки полков самоходную артиллерию и шестиствольные минометы. Эту стену и должны были прол Один только час бушевал над позициями противника артиллерийский ураган. Но какай работа,— адского напряжения и исполинского размаха,— ему предшествовала! Попробуем сухо, почти протокольно обрисовать титанические усилия наших артиллеристов, усилия, которые в течение двух недель невидимо конденсировались в зарослях и оврагах, в планах и таблицах, а затем чудовищным обвалом смерти смяли врага.
Глубина плацдарма, завоеванного нашими войсками на западном берегу днепровской излучины, не превышала пяти — шести километров. На этот «пятачок» надо было перевезти многие сотни орудий прорыва. Часть пушек переправилась на этот берег еще в первые дни форсирования Днепра одновременно с пехотинцами. Теперь требовалось во много раз увеличить их число.
И пушки пошли через Днепр. Легко сказать, пошли! Даже в мирные годы переправа тяжелых орудий через любую реку была занятием очень сложным и весьма хлопотливым, хотя совершалась она на добротных паромах или баржах, и никто не бомбил пристани, и ровная гладь реки не вздымалась к небу фонтанами разрывов мин и снарядов. Ныне нужно было перевезти быстро, и скрытно, на доморощенных средствах через широчайший Днепр сотни пушек, уберечь их от воздушного и наземного врага, искусно разместить на плацдарме, и не просто установить где попало, а выбрать наиболее выгодные позиции.
Их перевозили днем и ночью, пользуясь каждой минутой, свободной от бомбежки, под градом снарядов, на самодельных паромах, на помостах, составленных из рыбачьих лодок, на плотах, сооруженных из пустых бочек, плетней и ворот. Болотистые подходы Днепра размокли от дождей, тягачи безнадежно застревали в грязи, и люди долгими километрами тащили на руках и пушки, и снаряды, и сами тягачи. На руках они спускали орудия с глинистого берега на воду, на руках втаскивали их на кручи Правобережья. Великий труд взяли в эти дни на свои плечи наши артиллеристы.
Ритмично и напряженно действовали все звенья сложного войскового механизма. Разведчики брали на строгий учет каждый орудийный выстрел противника, по точным математическим формулам определяя его истоки. Над расположением врага непрерывно летали самолеты, выискивая в лесных зарослях и оврагах тщательно упрятанные огневые позиции, наблюдая скопления танков и пехоты. Дешифровщики, вооружившись лупами, рассматривали часами немые донесения аэрофотоаппаратов, обнаруживая в бесчисленном сплетении кривых линии траншей, окопов и инженерных сооружений. И все это потом сравнивалось, сопоставлялось, дополнялось показаниями пленных, личной командирской разведкой на местности.
В эти дни я зашел к одному работнику штаба — веселому и приветливому человеку, всегда радушно встречающему фрон

 товых журналистов. Он сидел перед картой, и по его воспаленным и красным глазам я понял, что подполковник уже много ночей не смыкал век.
товых журналистов. Он сидел перед картой, и по его воспаленным и красным глазам я понял, что подполковник уже много ночей не смыкал век.- Я очень занят,— сказал он мне.— Зайдите попозже.
- Когда?
- Дней через пять.
Штабы работали без сна и отдыха. Им предстояло свести воедино усилия огромного изобилия огневых средств, начиная от жерластых могучих гаубиц и кончая полковыми минометами, организовать умный и всесокрушающий вал огня, точно нацелить его по времени и местности, обеспечить бесперебойное снабжение боеприпасами, установить надежную и безотказную связь, наладить непрерывное наблюдение, предусмотреть и исключить все случайности. Из многих тысяч опознанных целей были выбраны лишь сотни наиболее важных и достоверных. Они были сообщены батареям, и те исподволь, незаметно, как бы случайно, чтобы не спугнуть противника, пристреляли их и умолкли.
Так шли дни. Вернее, они шли совсем не так. Ибо все это проводилось не в тиши кабинетов, не «в торжественной неприкосновенности полигонов, а на поле боя, под огнем врага. Гитлеровцы непрерывно предпринимали контратаки, стремясь сбросить наши войска с захваченного «пятачка» и утопить их в Днепре. То один, то другой участок становился ареной жестоких схваток. Фашисты бросали вперед сразу по нескольку десятков танков, и в отражении их первую скрипку, как всегда, играли наши пушкари.
На позиции, занятые стрелковым батальоном, шло восемнадцать фашистских танков и свыше двух рот пехоты. Удар приняли на себя артиллеристы. В коротком бою расчет 76-миллиметровой пушки под командой младшего сержанта Белозерова подбил четыре танка и заставил остальные ретироваться. Н-ская гвардейская бригада только за два дня подбила и сожгла двадцать пять вражеских танков. Одна лишь батарея гвардии старшего лейтенанта Мельникова уничтожила семь фашистских машин.
Так, сражаясь и круша противника, в огне и грохоте непрестанного боя артиллеристы готовили свой решающий удар. И вот наконец все готово. В балочках, оврагах, лесных рощах, в укрытиях притаились сотни и тысячи разноствольных пушек и минометов. Сотни и тысячи других орудий разместились на левом берегу Днепра по дуге извилины, чтобы огнем с флангов усилить фронтальный ливень. Чтобы составить ясное представление о мощи подготовленного урагана, можно сказать, что на каждый километр фронта прорыва было сосредоточено двести сорок стволов.
— Я бы пропагандировал эту цифру где только можно,—
сказал мне через пять обещанных дней подполковник.— Если мы на третьем году войны можем собрать на небольшом участке фронта такую громаду пушек, то какова же наша промышленная и военная мощь в целом? Недавно мне пришлось разговаривать с пленным унтер-офицером Бортшеллером из дивизии «Великая Германия». Больше всего его удивляет обилие у нас боевой техники. Гитлеровские солдаты говорят, что у русских пушки растут, как из-под земли.
...Рассвет застал всех на ногах. Утро занималось ясное, почти безоблачное. Над горизонтом вставало красное солнце, и Днепр лежал сверкающий, багряный. Дул резкий, пронзительный ветер. Вражеские мины с визгом рвались вокруг, поднимая вверх комья липкой земли. Но артиллеристам было не до погоды и не до мин. Они молча стояли на своих постах, ожидая сигнала. На переднем крае замерла, приготовясь к атаке, пехота. На исходных позициях стояли наготове танковые полки.
7 часов 40 минут утра. Шквал чудовищной, невероятной силы обрушился на врага. Какой-то космический обвал звуков и огня! Это рявкнули одновременно тысячи орудий, прижимая противника к земле, парализуя его волю к борьбе, заставляя все живое впиваться в землю, прятаться, не дышать.
Огненная буря бушевала над позициями противника, от переднего края до глубины его обороны, нарушая связь, ломая управление боем, сокрушая всякую возможность сплотить и организовать силы к отпору. Взятый в плен командир взвода управления пятой батареи 172-го артполка 72-й пехотной дивизии лейтенант Артур Эльгорт рассказал, что в первые же минуты радиостанция батареи была разбита, проволочная связь с соседними частями прервана и батарея фактически выключилась из стройной системы обороны. Офицеры были дезориентированы, а солдаты попрятались кто куда мог.
Но это были лишь цветики. Ягодки, многопудовые ягодки, начиненные смертью и разрушением, были впереди. Не снижая темпа и ярости огня, орудия начали огромной силы обстрел по заданным целям. Тысячи снарядов ложились в расположении гитлеровских танков, накрывали огневые позиции неприятеля, истребляли его пехоту, поднимали на воздух блиндажи, дзоты и доты, корежили проволочные заграждения.
— Огонь! Огонь! Огонь! — раздавались команды на батареях, в дивизионах, в полках.
Орудийный шквал сметал все на своем пути. Тщательно подготовленные инженерные укрепления гитлеровцев были разрушены буквально в течение нескольких минут. Большинство вражеских батарей, заблаговременно разгаданных и пристрелянных, умолкло навеки, так и не успев подать голоса. Несколько десятков орудий пыталось было противодействовать, но их мгновенно засекли и подавили. Господство нашей артиллерии было полное!
Полчаса длился этот смерч. Казалось, что напряжение боя уже достигло своего апогея. Но это еще не было венцом артиллерийского наступления. Вот в бой вступили гвардейские минометы. Огненные трассы прорезали потемневшее от дыма небо. Волны пламени захлестнули неприятельские позиции. Залп следовал за залпом. Фашистские солдаты и офицеры в ужасе покидали свои убежища, но их всюду настигало это неумолимое море огня и стали.
Над полем сражения появилась советская авиация. Волна за волной шли бомбардировщики, штурмовики, истребители. Группы по восемнадцати, по тридцати, по шестидесяти самолетов. Эскадрильи, полки, дивизии. К ливню снарядов прибавился град бомб, и жесткий говор авиационных пушек и пулеметов прорезал гремящий воздух.
И тогда поднялась наша пехота и ринулись наши танки. С криками «ура» бойцы единым броском преодолели расстояние до вражеских окопов и ворвались в траншеи противника. Артиллерия перенесла огонь вперед, и наши подразделения стремительно продвигались по исковерканной и вздыбленной земле, почти вплотную прижимаясь к всесокрушающему огневому валу.
Сопротивление противника было раздавлено. Окопы и траншеи были забиты трупами гитлеровцев. Уцелевшие солдаты и офицеры поспешно, почти панически отступали на вторую линию обороны. Те, кто не успел убежать, покорно поднимали вверх руки.
— Вскочив во вражескую траншею, я внезапно оказался в окружении пяти гитлеровцев,— рассказывает красноармеец Бронников.— Следом за мной спрыгнул боец Патрубцев. Двое против пяти! Но гитлеровцы были перепуганы до смерти. Лишь один из них, спустя минуту, потянулся к оружию. Мы его пристрелили. Остальные сдались в плен.
Страшная картина разрушения предстала перед наступающими. Укрепления противника превратились в невообразимое месиво земли и дерева. Дзоты и блиндажи зияли развороченным нутром. Повсюду валялись обломки орудий, куски повозок, дымились полусгоревшие танки и автомашины. Тысячи трупов гитлеровцев устилали поле битвы.
Особенно разительны были залпы гвардейских минометов. Точными официальными данными засвидетельствовано, что только на участке, подвергнутом обстрелу 19-й гвардейской минометной батареи, уничтожено две батареи 75-миллиметровых орудий, две батареи противотанковых пушек, разрушено восемнадцать блиндажей, выведено из строя три радиостанции, убито сто пятьдесят фашистов. И это результат действия одной только батареи!
Гитлеровцы были физически сломлены и морально сплющены этим ударом потрясающей силы. Вот красноречивое призна ние сдавшегося в плен солдата 266-го полка 72-й пехотной дивизии Вильгельма Келерсуфена:
— В продолжение часа мы находились в аду. Я готов был грызть землю от животного страха. Время тянулось так бесконечно, что можно было сойти с ума. От стрельбы и грохота дрожала вся земля. Как только перестали падать снаряды и бомбы, наши офицеры бежали. Они убежали бы раньше, но нельзя было поднять головы. Те солдаты, кому посчастливилось уцелеть в этом аду, сдались в плен!
К исходу дня наши войска продвинулись вперед на десять' километров, заняв несколько селений — важных опорных пунктов противника. Захвачены большие трофеи.
Так расширяется плацдарм на правом берегу Днепра.
Б. ПОЛЕВОЙ
РОЖДЕНИЕ ЭПОСА
В заметенном снегом прифронтовом овражке, огражденном от ветров и взоров неприятельских наблюдателей порослью невысокого лохматого соснячка, где наступавший батальон делал короткий привал, я стал свидетелем такой любопытной сцены. Три бойца-казаха, коренастых, широколицых парня в мешковато сидевших на них шинелях, примостившись поодаль от других у разлапистого корневища вывороченного снарядом дерева, варили на костре пшенную кашу. Один следил за кипевшим котелком, помешивая кашу можжевеловым прутом, другой подкидывал в костер сухой валежник, а третий, уже немолодой, морщинистый, смуглый, сидел на корневище, положив винтовку на колени, и задумчиво смотрел в огонь, с сипеньем, треском и воем пожиравший сухие ветки.
И вдруг смуглый солдат начал тихонько покачиваться и завел резким фальцетом степную протяжную песню, звеневшую однообразно, как ветер в верхушках сосен. Он пел все громче и громче, мерно раскачиваясь, пристукивая в такт ногтями по прикладу винтовки, закрывая глаза на высоких нотах.
— Знаете, о ком он поет? О майоре Малике Габдуллине. Вы о нем слышали? Герой Советского Союза. Он на днях побывал тут у нас в батальоне,— пояснил лейтенант Климов, сухощавый жилистый человек с обветренным, огрубевшим от зимнего загара, но все еще юношеским, живым лицом.
 Наклонив набок голову, он прислушался к песне и постепенно начал переводить:
Наклонив набок голову, он прислушался к песне и постепенно начал переводить:— Он поет, что Малик-батыр силен, смел, хитер, как степной лис, что у него ухо джейрана и он слышит врага за много верст. Что у него глаз беркута и он видит врага, как бы тот ни прятался, что его рука не устает убивать фашистских шакалов, и такая это рука, что чем крепче она их бьет, тем больше наливается богатырской силой. Он поет, что от одного вида Малик-батыра гитлеровцы обращаются в бегство...
Песня журчала, звенела, как лесной ключ,— тихая, чистая и неиссякаемая. Как магнит, влекла она к себе бойцов и командиров. У костра уже стояла внимательная, задумчивая толпа, но солдат-джерши так увлекся своей песней, что никого не замечал. Круглое морщинистое лицо покрылось нервным румян-Нем. Порой он весь вытягивался, точно слушая что-то, что звучало в воздухе для него одного, и пересказывая это для всех. Песня увлекла даже нас, не понимавших слов, а казахи слушали с таким вниманием и были так ею поглощены, что не замечали, как уходит из котелка закипевшая каша, как шипит она на углях затухающего костра, распространяя кругом сытный запах 'пригоревшего пшена.
— Он поет о том, как любят Малика казахские степи, как все отцы завидуют его отцу, как все матери чтят мать, родив-шую такого сына, как девушки видят его во сне и поют о нем. Он поет, что Малику из Москвы прислали Золотую Звезду, что Малик ходит сейчас по окопам и говорит с солдатами и что (речь его понимают бойцы всех народов, потому что она проникает им в душу. Он поет, что сам он видел Малика и слышал Малика и что Малик сказал ему: если ты будешь хорошо воевать, то в родных степях о тебе будут петь вечные песни, как поют сейчас о богатырях прошлого — Кобланды, Ер Таргыне, Утегене и Махамбете...
Песня оборвалась вдруг на высокой ноте. Певец смолк, усталый и немного смущенный. Но не сразу его товарищи, опомнившись, схватились за котелок спасать остатки выкипевшей каши, не скоро еще разошлась солдатская толпа. , — Вы знаете, нам повезло. Мы видели рождение нового эпоса,— взволнованно сказал лейтенант Климов и признался, что песня эта вернула его в мирные дни, в те дни, когда он преподавал литературу в одной из алма-атинских средних школ и во время каникул разъезжал по степям собирать вот такие песни.
— Вот так и рождается эпос Отечественной войны,— добавил он, задумчиво поглядывая на серый пепел потухшего костра, под которым то тут, то там поблескивали жаркие угли.
А я думал о герое этой на наших глазах сложившейся песни. Во время фронтовых разъездов мне не раз доводилось на ночлегах встречаться с гвардии майором Маликом Габдуллиным. От него самого и его друзей я знал не содержащую, впрочем, ничего сказочного', но действительно красочную и яркую его биографию.
Это был деловой, общительный, очень скромный офицер-казах. Конечно, ни отец Малика, старый неграмотный колхозный скотовод Габдулла Элемесов, ни сам он, советский юноша, пастух в недавнем прошлом, а затем доцент, известный на своей родине как собиратель и исследователь фольклора, никогда и не думали, что он, Малик Габдуллин, еще при жизни станет героем казахской былины.
В момент объявления войны Малик был поглощен работой над кандидатской диссертацией. Она была уже готова. Его друзья по институту, литераторы и языковеды, одобряли ее. Оставалось только стилистически отшлифовать. Но в это время в Алма-Ате начала формироваться коммунистическая дивизия. Лучшие люди города шли <в нее добровольцами. Малик отложил -любимую работу, над которой он трудился более двух лет, явился в райком партии, попросил снять с него «броню» и послать на фронт рядовым бойцом. Время было трудное, с ним не стали спорить. Молодой ученый получил форму, котелок, вещевой мешок и полуавтоматическую винтовку. Учили военному делу ускоренно: фронт требовал новых и новых резервов. В разгар вражеского наступления на Москву Малик в составе своей дивизии прямо с колес попал в бой, и глинистый мерзлый окоп, неумело и наспех отрытый на крутом берегу речки Рузы, стал для него первым курсом военной суровой школы. Рота, в которой Малик был политруком, растянулась повзводно по восточному берегу реки. Взводу, в котором он заменил убитого командира, пришлось оборонять левый фланг. Приказ был получен категорический — не пускать гитлеровцев за речку, держаться любой ценой. Позади была Москва.
Первый бой был очень напряженным. Он завязался с рассветом и продолжался весь день почти без перерыва. Рота фашистов старалась перейти речку вброд на участке взвода Малика. Ее подпускали, давали солдатам стянуться в воду, потом поливали сверху пулеметным огнем, и черная, холодная, курившаяся парком осенняя вода тихо уносила вместе с шелестящим «салом» тела врагов.
Так повторялось несколько раз. С каждой новой атакой молодой ученый, до тех пор знавший войну только по книгам да кинофильмам, все уверенней чувствовал себя в необычной для него роли командира. Приказы его становились яснее, решительнее, его тихий голос звучал требовательнее и жестче.
Вечером, уже в сумерках, отбив последние атаки и заставив остатки фашистской роты убраться с гребня противоположного берега, он послал связного доложить командиру роты, что задание выполнено и он ждет приказа. Нервный подъем боевого дня схлынул. Малик чувствовал большую (усталость, насторо-женно и опасливо вглядывался в тьму. Не без удивления слышал он то, что днем в сумятице не привлекало его внимания. Перестрелка, гулко раздававшаяся в промозглой тишине, шла почему-то у него за спиной. Он был еще неопытен и так и не понял, что это значит. Связной же до рассвета не вернулся. Тогда Малик вызвал сержанта Коваленко, человека огромного роста, недавнего председателя передового в Казахстане колхоза. С ним Малик подружился еще в эшелоне и полюбил его за спокойный, рассудительный нрав.
- Максим Данилович,— сказал он, обращаясь к нему еще по-штатски,— сходи, друг, на ка-пэ. Что они там спят? Ни связи, ни приказа. И узнай еще, что это там за стрельба такая у нас за спиной.
- Схожу, товарищ Габдуллин,— так же по-штатски ответил сержант.— Только сдается мне того — неважнецкие у нас дела. Стрельба-то эта очень мне не нравится.
Часа через два Коваленко вернулся бледный, в изорванной шинели, с головы до ног перепачканный в глине и молча протянул Малику окровавленный партийный билет. Тот с трудом раскрыл слипшиеся корки — это был билет командира роты. Гитлеровцы прорвались за реку и потеснили правофланговый взвод. Командир роты погиб, захваченный врасплох вражескими автоматчиками. Труп связного Коваленко видел на дороге. Чтобы вернуться на позиции, сержант с километр полз в тумане, по мерзлой пашне, пробираясь межой уже мимо гитлеровцев.
— Как быть, командир? — спросил он, грея над костром
свои большие посиневшие и исцарапанные руки.
Вчерашний ученый еще не потерял привычки все в жизни тщательно взвешивать. «Чем я располагаю сейчас?» — спросил он себя. Во взводе осталось сорок три бойца. Продукты, выданные на сутки, на исходе. Люди докуривают последние крошки табаку, вытряхивая их из уголков карманов. Гитлеровцы зашли с тыла. Кто знает, далеко ли им удалось уже прорваться за речкой? Отходить? Но вчерашний бой против целой роты противника, бой в котором только что брошенный в войну взвод вышел победителем! Минувший день уже сделал Малика военным человеком. Последний приказ, полученный им тридцать шесть часов назад, требовал держаться до последнего. Приказ есть приказ.
— Строить круговую оборону, товарищ старший сер
жант! — ответил Малик другу тоном приказания.
И застучали ломы, заскрежетали лопатки о мерзлую глинистую землю.
Весь следующий день взвод сражался. Гитлеровцы подвели к самому берегу три машины с пехотой. Сидевший на сосне наблюдатель своевременно доложил об этом. Зенитный расчет — крепкие ребята из алма-атинских слесарей,— пробравшись к самой воде, сумел зажечь эти машины на ходу, прежде чем те успели даже остановиться. Пулеметчики ударили по пехотинцам, прыгавшим из-под пылающих брезентов. Это сошло гладко. Случай щадил пока этот необстрелянный взвод. Но скоро ему пришлось туго. Решив, очевидно, что они имеют дело не с горсткой людей, а с крупным подразделением, осевшим на приречных рубежах, гитлеровцы изменили тактику. Они оставили взвод в покое, сковав его редким огнем. В то время как остатки фашистской роты перестреливались с людьми Малика, не давая им подняться из окопов, прижимая их к земле, гитлеровцы перешли речку выше по течению.
Обнаружилось это внезапно. Откуда-то сзади послышался лязг гусениц, гудение моторов. Танк, незнакомых еще очертаний, с белым крестом, грузно колыхаясь, поплевывал на ходу снарядами, шел через поле, проламываясь сквозь кусты ольшаника и явно стремясь зайти в тыл позиций взвода. Его стальной тушей прикрывались автоматчики.
— Танк справа, приготовить гранаты! По пехоте частый отсечный огонь!—едва успел скомандовать Малик, мучительно старавшийся вспомнить, что в таких случаях полагалось делать по боевому уставу пехоты.
Он взял винтовку из рук убитого красноармейца и сам по ходу сообщения, пригибаясь к земле, побежал туда, куда шел танк.
Но прежде чем слова команды были переданы по цепи, бойцы на правом фланге уже сами завязали перестрелку. Танк дошел до передового окопа, остановился и неуклюже завертелся над ним, стараясь, очевидно, раздавить людей, сидевших в узкой земляной щели. Это был тяжелый танк.
Зенитчики ударили по нему бронебойными, но снаряды их с острым, пронзительным визгом отскакивали от стального панциря, высекая снопы искр. Гитлеровские автоматчики явно стремились просочиться в глубь позиций.
На мгновение Малику показалось, что дело безнадежно, что стальная махина неуязвима и ничто уже не может спасти положение. Он даже расстегнул кобуру пистолета. Что же, он готов с честью умереть, сражаясь, как надлежит советскому человеку! Но в следующую минуту он навсегда убедился, что на войне не бывает безвыходных положений.
Из головного окопа, того самого, на котором, скрежеща гусеницами и чадя синим дымом, вертелся танк, на миг высунулся по пояс парторг роты Василий Кондратьевич Шашко.
Это было только мгновение. Но Малик видел, как он, крича что-то, взмахнул рукой. Раздался взрыв. Тяжелая машина вскинулась в столбе огня и земли, остановилась, потом, поврежденная, но еще страшная своим огнем, дернулась вперед. Тогда из раздавленного окопа еще раз поднялась, уже окровавленная, голова Шашко. Он снова взмахнул рукой. Откуда-то из-за тан-
 ка рванулся в небо черный столб. Взрыв встряхнул землю, и вдруг стальная махина вспыхнула, вспыхнула буйно, клочковатым, чадным пламенем, точно отлита она была из целлулоида, а не из стали.
ка рванулся в небо черный столб. Взрыв встряхнул землю, и вдруг стальная махина вспыхнула, вспыхнула буйно, клочковатым, чадным пламенем, точно отлита она была из целлулоида, а не из стали.— За товарища нашего, за парторга нашего, за Василия
Шашко! По пехоте огонь! — крикнул Малик, снова и снова на
жимая спусковой крючок своей винтовки.
Он стрелял, меняя обоймы и обливаясь потом, до тех пор, пока вражеские автоматчики, зацепившиеся было за передние окопы, не побежали прочь. Тогда Малик, позабыв об опасности, выскочил из окопа. Он не видел разрывов, не слышал злого чириканья пуль, ничего не слышал. Он поднял над головой винтовку и, потрясая ею, вдохновенно кричал:
— По отступающим огонь! За Шашко! За Василия Конд-
ратьевича! Огонь! Огонь! Огонь!
Его вдохновение передалось бойцам, они забыли усталость, страх и открыли такой огонь, как будто это были не остатки измученного, поредевшего взвода, а. целая свежая рота.
Еще сутки продержался взвод Малика в окружении. Гитлеровцы, развивая успех, уходили от речки все дальше и дальше, выставив против горстки упорствующих людей небольшие заслоны. Солдаты доели сухари, курили древесный мох, достреливали последние обоймы. Во взводе осталось всего двадцать два бойца, а линия фронта отодвинулась на восток уже настолько, что звуки артиллерийской канонады едва доносились оттуда, как шум далеко идущего поезда. Держать позицию становилось бесцельным. Малик решил порвать кольцо заслона и пробиваться к своей дивизии.
Ночью похоронили убитых, забрали их оружие и партийные билеты. Когда под |утро морозный туман затянул неубранные, помятые войной поля, солдаты по одному, ползком выскользнули из вражеского кольца, точно растаяв в промозглом воздухе.
Вошли в лес, выстроились, сделали перекличку. Малик объявил, что будет пробиваться к своей дивизии, скомандовал: «Вперед!» — и люди пошли на звук далекой канонады.
Три дня лесами, болотами, без дорог, ориентируясь по компасу и грому далеких пушек, вел Малик свой взвод. Голодные люди, у которых четвертые сутки не было во рту ни крошки, двигались, выбросив вперед разведку, выставив на фланги дозоры. Несли и катили пулеметы. На плащ-палатках, прикрепленных к палкам, по очереди несли раненых. И к этому маленькому отряду, в котором командир твердой рукой сохранял дисциплину, как железные опилки к куску намагниченной стали, стягивались и приставали бойцы и командиры отступивших частей, в одиночку выходившие из окружения.
На третий день пути в отряде Малика было уже 187 бойцов при 12 станковых и 20 ручных пулеметах, с достаточным количеством боеприпасов, но без куска хлеба и без крошки табаку.
Теперь главным врагом становился голод. Идти с каждым маршем было все труднее. Людей шатало, они еле плелись, и колонна растягивалась по лесу длинным, жидким хвостом. На привалах бойцы бросались на мерзлую землю, и стоило трудов поднять их потом. Все громче и чаще стали раздаваться голоса, что всем вместе, такой массой не выбраться, что лучше рассыпаться и выбираться поодиночке, на свой страх и риск, что надо оставить раненых где-нибудь в деревне и избавиться хотя бы от пулеметов, предварительно их испортив. Кое-кто, обессилев, стал потихоньку бросать оружие.
Малик скомандовал большой привал. В овраге созвал он коммунистов и комсомольцев. Он сообщил им свое решение: любыми средствами, не останавливаясь ни перед чем, сохранить отряд, непрерывно идти вперед. Сильные по очереди должны вести ослабевших, нести их оружие, раненых тащить на руках. Коммунисты и комсомольцы обязаны подавать в этом пример. Паникеров и дезорганизаторов обещал расстреливать на месте.* Штатский человек был еще силен в нем. Свое решение он поставил на голосование. Все руки поднялись «за». Тогда Малик приказал коммунистам и комсомольцам к утру накипятить в котелках воды, умыться, побриться, привести в порядок одежду, оружие.
На рассвете на лесной поляне, у стены сизых елей, был выстроен весь отряд. Малик скомандовал: «Смирно!» Солдаты вытянулись и застыли. Но что это были за солдаты! В шинелях и пилотках, разорванных и прожженных в дни лесных скитаний, с заросшими, законченными у костров лицами, на которых из потемневших впадин лихорадочно сверкали глубоко запавшие глаза, они еле стояли на ногах. У некоторых заметно подгибались колени, и они пошатывались, опираясь локтем на соседей. В этих измученных, усталых шеренгах своей заправкой, своим подтянутым видом, умытыми, бритыми лицами выделялись сегодня коммунисты и комсомольцы, и среди них — гигант Коваленко, ухитрившийся даже где-то разжиться ваксой и почистить сапоги. Взгляд Малика на мгновение задержался на его больших, обутых в матово сверкающие сапоги ногах, твердо стоявших на снегу, и ему стало вдруг весело.
— Мне сказали, что некоторые из вас думают, что надо отряд распустить и выбираться поодиночке. Может быть, верно, разойдемся? — сказал Малик, обводя усталые лица бойцов
взглядом своих черных узких красивых глаз.
Солдаты смотрели на него удивленно, недоуменно, настороженно. Но на некоторых лицах он увидел сочувствие, кое-кто подтверждающее кивнул головой, а один из вновь приставших к отряду бойцов, маленький, совершенно заросший, в крестьянском треухе вместо пилотки, что-то радостно зашептал соседям.
— Говорите громче, ну? — приказал Малик.
 — Я, товарищ политрук, говорю: верно, лучше бы рассыпаться. Разве такой оравой фронт незаметно перейдешь?.. А поодиночке, говорю, легче. Одна голова не бедна, а бедна, так одна...
— Я, товарищ политрук, говорю: верно, лучше бы рассыпаться. Разве такой оравой фронт незаметно перейдешь?.. А поодиночке, говорю, легче. Одна голова не бедна, а бедна, так одна...По рядам прошел шумок. Малик понял, что этот маленький солдат, потерявший военный облик за долгие дни скитаний по лесам, сказал то, что думали некоторые из тех, которые недавно пристали к отряду. Солдат зябко поеживался и тихонько притопывал сапогами, на которых рыжела еще давняя грязь. Взгляд Малика снова притянули к себе матово сверкавшие сапоги сержанта Коваленко, его большие ноги, покойно и прочно стоявшие на снегу. Он заметил метлу, валявшуюся возле. Должно быть, бойцы вчера разметали ею снег вокруг костра.
И тут, думая о том, как ответить этому маленькому, измотанному днями скитаний, дрожащему от холода бойцу, недавний фольклорист вспомнил старую сказку, существующую у всех народов. Он поднял эту метлу, вырвал из нее прут и, протянув его маленькому бойцу, приказал переломить. Тот удивленно глянул на командира: дескать, не рехнулся ли человек от голода, однако подчинился и легко сломал прут. Малик дал ему метлу:
— Ломай!
Метла гнулась, но не поддавалась.
- Ну, ну, еще! — командовал Малик; хриплый смех измученных людей слышался со всех сторон.— Нажимай, нажимай, не жалей сил!
- Нажми! Наддай! Что, не важит? — кричали бойцы и поглядывали на командира, начиная понимать, к чему он клонит.
- Так вот и мы: пока вместе, пока у нас дисциплина, никакой враг нас не сломает,— пояснил Малик и сурово добавил: — Первого же отбившегося от отряда расстреляю собственной рукой. Понятно? Стро-о-ойсь!
Вечером высланная разведка донесла, что на пути справа целая, не сожженная, но занятая гитлеровцами деревня. Посланный в разведку сержант Коваленко пропадал до темноты и, вернувшись, доложил, что в деревне, по всей видимости, расположился какой-то тыловой интендантский пункт: крупные склады, на улице много проводов; что хотя укрепления и не отрыты, деревня сильно охраняется, караулы выставлены на всех направлениях, однако они довольно беспечны и больше греются у костров — пробраться мимо них можно. В заключение рапорта сержант вынул из кармана бутылку молока, краюху хлеба и протянул командиру:
- Откушайте, вам достал. Здешние колхозницы снабдили. Ох, и ждут же нас!
- Отдай раненым,— сказал Малик, склоняясь над картой и делая вид, что пища его мало интересует, хотя от кислого
хлебного духа у него потянулась во рту слюна и закружилась голова.
Он решил рискнуть атаковать деревню и с боем добыть у врага продовольствие.
В плане штурма, который он придумал за ночь, внезапность и хитрость должны были восполнить недостаток сил. Под утро, когда в лесу еще было темно и деревья едва начинали выступать из сурового, холодного мрака, в час, когда человеческий сон особенно крепок, отряд, тихо обложивший деревню, обрушил на нее сразу огонь всех своих пулеметов. Потом, едва отгремело в лесу эхо выстрелов, бойцы с четырех направлений с криками «ура» рванулись вперед, смяли заслоны и уже на улице в короткой штыковой схватке решили исход боя. Гитлеровцы бежали, оставив с полсотни убитых, бросив свое добро, и немалое — продовольственные и оружейные склады; 27 фашистов сдались в плен.
Малик приказал бойцам набить вещевые сумки продуктами и табаком, запас продовольствия погрузить на санки-лодочки, найденные на одном из складов, на санки же поставить и пулеметы, уложить раненых, а в санки впрячь пленных. Остальное облить бензином и поджечь.
Долго еще, пробираясь лесами, отряд видел позади дымные клубы, поднимавшиеся к облакам. На седьмой день похода, под вечер, сытые и приободрившиеся бойцы из леса, с тыла, атаковали гитлеровскую передовую, точно клином пронзили фронт и почти без потерь прорвались как раз в расположение своей дивизии. Отряд привез с собой на саночках-лодках 12 станковых и 20 ручных пулеметов. Многие из бойцов, помимо своей винтовки, были вооружены трофейными автоматами. Было вынесено 16 раненых и сдано коменданту 27 пленных.
Сам командир генерал Панфилов пожелал видеть Малика. В дни формирования дивизии, еще в Алма-Ате, он с сомнением опытного воина осматривал пришедшего к нему с путевкой райкома робкого, щеголевато одетого ученого. Теперь хотелось старому воину взглянуть, что из него получилось на войне. Хмурый генерал долго смотрел из-под сердитых бровей на тонкую фигуру Малика, на котором еще не улеглась как следует военная форма. Потом неулыбчивое его лицо оживилось и подобрело.
— Ай да собиратель сказок! Вот тебе и ученый! Молодец! Хорошим солдатом будешь! — сказал он своим глухим, точно из бочки гудевшим голосом, привлекая к себе Малика и троекратно, по-русски, целуя его.
Те, кто в эту минуту был подле них, рассказывали потом, что углядели они выражение настоящей отеческой радости на суровом лице легендарного теперь генерала.
Из этого, как в шутку называли его потом в дивизии, «голодного похода» Малик вынес непоколебимую веру в себя, в своих солдат и в старую солдатскую истину, гласившую, что для от-
важного, умелого воина нет безвыходных положений, что и отступая можно побеждать.
Этот вывод он проверил в следующем своем крупном испытании, когда уже в период наступления командир полка направил его с тринадцатью автоматчиками в засаду — охранять самое острие клина, глубоко врезавшееся во вражеские расположения. Здесь ожидали контратаки, а так как полк, потерявший немало людей в последних боях, как говорится, приводил себя в порядок, засада эта должна была прикрыть его от случайностей.
Ночью Малик повел свой крохотный отряд. Для засады он выбрал удобный рубеж в кустах, на берегу замерзшего ручейка, напоминавший ему позиции у Рузы, где он принял первый бой... Послав в дозор солдата Абдуллу Керимова, он приказал оставшимся бойцам всю ночь без отдыха рыть по ручью стрелковые ячейки. Солдаты ворчали на неугомонного командира. Но на рассвете, когда, маскируя уже отрытые ячейки, они присыпали брустверы снегом, прибежал Керимов и, с трудом переводя дыхание, сообщил, что пять танков и до роты пехоты скрытно движутся по лощине, приближаясь к месту, где засели люди Малика.
Пять танков и сотни людей против тринадцати автоматчи-коз! Такое соотношение могло смутить и бывалого командира. Но Малик уже знал, что на войне решают успех не арифметические соотношения. Спокойным, даже обыденным тоном он приказал готовиться к бою и объяснил задачу: огнем автоматов отсечь пехоту от танков, без команды не стрелять, передним приготовить противотанковые гранаты.
Танки остановились на опушке и пропустили пехоту. Не ожидая засады и полагая, вероятно, что они идут по ничейной, земле, солдаты двигались толпой и лениво пригибались, больше для порядка. Малик приник подбородком к стылой земле бруствера и затаил дыхание. Гитлеровцы шли, оглядываясь, но смотрели в противоположную сторону. Значит, они не видят засады, даже не думают о ней. Значит, надо подпустить их как можно ближе. Чем громче грянут залпы, тем больше паники. Тем безопаснее, черт возьми!
Малик убеждал себя, но вопреки этим доводам ему хотелось дать команду стрелять немедленно, стрелять как можно скорее. «Выдержка, выдержка!» — убеждал он себя. Уже слышно, как скрипит под подошвами гитлеровцев талый снег. «Выдержка, спокойствие!»
— Давай огонь! Пожалуйста, давай огонь! — горячо дыша, шепчет в ухо командиру лежащий рядом с ним связной Керимов, томясь от нетерпения.
Еще немного. Еще чуть-чуть. Дать им всем выйти из леска на поляну. Ударить по ним по всем сразу! Передние уже в нескольких шагах. Вот так!
— Огонь!
Кто-то из гитлеровцев дико вскрикнул. Они остановились. Залегли. На снежной поляне их видно, как грачей на дороге.
— Огонь!
Автоматы стреляют все энергичнее. Цель хорошо видна. «Не удержатся, не удержатся!» — говорит себе Малик, страстно желая, чтобы скорее настал миг, когда они побегут. Число не пугает его. Солдат в окопе стоит десятка на открытой местности. И вот гитлеровцы не выдержали. На четвереньках они ползут назад, «Еще, еще!» Автоматчики нажимают. Рокот очередей сливается в сплошной треск. Белые снежные фонтанчики прыгают по поляне. Точно над белым озером идет крупный дождь. «Ага, бежите, сволочи!» — Ура-а!
Гитлеровский офицер в шинели с меховым воротником там, у сосны, размахивает пистолетом. Должно быть, пытается их остановить. Малик прижимается щекой к холодному прикладу винтовки, затаив дыхание. Черная точка мушки блуждает около офицера. Так. Промазал. Но ничего, черт с ним! Они бегут мимо офицера, они что-то кричат, показывая назад, на кусты. Что это? В лесу строчат пулеметы. Чьи? Неужели наши? Ага, это фашистские заградители. Вот оно что! Малик уже слышал, что у неприятеля появились части, которые стреляют по своим, когда те бегут. «Ничего, ничего, спокойствие!»
Очутившись между двумя огнями, гитлеровцы повернули и снова наступают. У них нет выхода. Напористо идут, передвигаются короткими перебежками.
«Только бы мои не дрогнули! Только бы не вышли из окопов! — думает Малик.— Только бы не дать понять, сколько нас тут!» Пули чирикают, как птицы, сбивая ветки, стряхивая иней. И почему-то бросается в глаза, что остроносые желтогрудые синички, бесстрашно цвикая, суетятся в кустах.
Уже выбыл из строя зубоскал Гайсин, всегда имевший в запасе для друзей добрую шутку. Уже не стало хладнокровного добряка Куцевого, которого Малик помнил еще по эшелону. Упал на бок, как подстреленный джейран, связной Керимов, упал, но тотчас же грудью лег на бруствер и опять взялся за автомат. Девять оставшихся держатся. Автоматы засады рокочут в кустах упрямо и деловито, и трудно гитлеровцам понять, сколько их: десять, пятнадцать, сто...
Малик с винтовкой, гибкий, быстрый, раскрасневшийся, сверкая черными узкими глазами, горящими от возбуждения, ползет от одного солдата к другому:
— Держись! Еще немножко держись! Сейчас побегут!
Каждый из его людей все время чувствует его с собой рядом, слышит, как упруго бьет винтовка командира.
— Сейчас, сейчас побегут!
И действительно неприятель побежал. На этот раз молчали и пулеметы заградителей. Должно быть, и там, в чужом штабе, сочли атаку отбитой. Но зеленая ракета распорола белесый воздух. Что бы это значило? Ага, совсем рядом послышались хлопки. Минометная батарея! Мины с предостерегающим мяуканьем стали падать в кустах. Но не зря всю ночь трудились бойцы, долбя замерзший грунт. Они лежат теперь в узких щелях. Визжащие осколки косят над их головами кустарник, осыпают их прутьями, хвоей, мерзлой землей. Но они-то целы! Целы, черт возьми!
Минометы смолкли. Но нет тишины, слышится урчание моторов. Танки! Должно быть, те самые, о которых докладывал Керимов. Ну да, вот они высунулись из леса. Неужели их повернули назад, на помощь своим? Машины, тяжело воя, переваливают через край лощины.
Отступать? Бежать? Нет, от танка не убежишь. Бежать — умереть. Сражаться! Отбить танки! В этом шанс выжить, победить. Все это мгновенно пронеслось в мозгу Малика в то время, как он, волоча за собой сумку с гранатами и зажигательными бутылками, полз по снегу наперерез танкам.
Машины шли излюбленным гитлеровцами строем — углом вперед, и головная неслась как раз туда, где за пеньком, в углублении, лежал Малик. На ходу танки вели частый огонь из пушек. Снаряды летели куда-то далеко через головы. «К чему это? Там же никого нет. Шумовые эффекты?» — подумал Малик в мгновение, когда вырывал гранату из сумки. И еще мелькнула мысль: «Они сами боятся».
Машина неслась прямо на него. Он уже различал каждую царапину на броне. Отчетливо мелькнул в его сознании парторг Шашко, величественный и прекрасный в своем самоотверженном боевом вдохновении. В это мгновение машина с громом, грохотом пронеслась мимо так близко, что отполированный трак чуть не отдавил ему руку. Малик отскочил. Разогнувшись, как пружина, он метнулся вверх. Граната угодила в радиатор машины.
Взрывная волна толкнула Малика в грудь, отбросила в сторону. Это спасло его от гусениц второй машины, повернувшей прямо на него. Он не потерял сознания, но бросать гранату было уже поздно. Чуть выждав, Малик сунул гранату под гусеницу и, отпрянув, прильнул к земле. Взрыв был так силен, что танк почти перевернуло на бок. Плюхнувшись назад, он остановился. За гранатой полетели бутылки, и сразу же желтое, липкое, невысокое пламя, точно овчиной, покрыло его.
Оглушенный Малик, чувствуя, что все тело его покалывает, словно электрическим током, снова схватился за сумку. Но что это? Три машины затормозили и стали разворачиваться, торопливо, толчками. Против кого? Против своих? Да нет же,
они идут обратно. Они отступают! И когда это дошло до сознания, Малик без сил упал на землю. Прикосновение к снегу привело его в себя. Двое бойцов, пластаясь по земле, волокли
его в кусты.
— А мы думали, вас в лепешку! — говорил тот, на чьих
плечах лежал Малик..
— Давай, давай, неси! Вон они опять рылом к нам разворачиваются,— торопил другой, помогая ему.
Очутившись в кустах, в окопчике, Малик сел на землю. Все тело ныло, дрожало мелкой дрожью, острое покалывание становилось мучительным. Мокрое белье липло к лопаткам, связывало движения. Малик осмотрел, ощупал себя. Нет, не ранен, цел. Жадно проглотил комок снега.
Но, несмотря на боль контузии, все в нем ликовало, пело. Это он, он, человек, победил танки! Такую силищу! И опять перед его глазами остро, отчетливо, точно живая, мелькнула фигура парторга Шашко.
— Товарищ командир, седайте в окопчик, опять палить начали,— предупредили его.
Танки, отойдя на приличную дистанцию, открыли огонь. Из леска снова принялась бить минометная батарея. В дисках у автоматчиков оставалось по пять — десять патронов. Ясно было: нужно отходить. Но путь к своим преграждали эти танки, стоявшие на опушке. Малик посмотрел на карту. Потом, для себя, решительно прочертил ногтем линию в сторону, противоположную от своих позиций, прямо в лес, на вражеских минометчиков. Он рассчитал, что будет правильнее лесом сделать круг и в обход вернуться к своим. Он знал, что солдаты беззаветно верят теперь ему, знал, что они выполнят любой его приказ.
На четвереньках проползли они по руслу замерзшего ручья до лесной опушки, до того самого места, где в кустах на удобных обжитых позициях, обливаясь потом, трудились неприятельские расчеты, посылая мину за миной в кусты, где теперь никого уже не было. По молчаливому сигналу Малика, под шум выстрелов, бойцы бросились на минометчиков, последними патронами расправились с ними, взяли их личное оружие, даже их документы и, испортив минометы, скрылись в лесу.
Лесом они сделали большой крюк по самой чаще и в расположение полка пришли уже спустя много времени. Малик без доклада приподнял полог командирской землянки. Командир полка подполковник Капров и его комиссар Мухомедьяров, сидевшие за столом, оглянулись и вдруг вскочили с табуреток. Они уставились на Малика, стоявшего в проходе в изорванном, окровавленном маскхалате. На лицах их застыло какое-то странное удивление.
— Габдуллин? — тихо спросил наконец командир.
- Малик, родной! — бросился к нему комиссар, старый его алма-атинский товарищ.
- Я... Что вы удивляетесь, что с вами? Да скажите, что случилось? — спросил, в свою очередь, Малик.
Командир взял со стола бумажку, которую они, видимо, только что читали, и протянул ему: «В бою под деревней Ширяево геройски погибли 13 бойцов-автоматчиков нашего полка, находившиеся в засаде во главе с политруком Габдуллиным Маликом. Как донес разведчик, они сражались до последнего дыхания. В неравном бою они уничтожили два вражеских танка и 150 гитлеровцев». Бумажка была подписана командиром пятой роты Аникиным и отсекром комсомольского бюро полка Джеджибаевым.
- Ну, что это значит?—спросил командир.
- Мы тут сидим и горюем...— добавил комиссар.
- Тут все правильно, кроме того, что мы погибли,— устало улыбнулся Малик, которого клонило ко сну так, что он с трудом поднимал отяжелевшие веки.
- Побольше бы таких покойников! — не очень ловко сострил комиссар полка.
Он полез под топчан, порылся в чемодане и, достав со дна бутылку коньяку, бережно завернутую в новые портянки, поставил на стол.
— Как уезжали из Алма-Аты, жена дала на дорогу,— пояснил он.— Слово себе дал бутылку эту распить в день победы. Вот и таскал с тех пор. Выпьем, что ли, по такому случаю? За твое здоровье, Малик!
Сбывались слова генерала Панфилова, старого воина, знавшего толк в боевом искусстве. Ученый-фольклорист, кабинетный человек на глазах вырастал в искусного командира. И хотя внешне он оставался прежним худощавым, юношески гибким городским парнем с красивым смугловатым и тонким, точно выточенным из старой слоновой кости лицом, с узкими и длинными пальцами интеллигента, он стал выносливым и неприхотливым солдатом, суровым к себе, требовательным к подчиненным.
Он командовал уже ротой разведчиков. Когда роту эту после боевых дел отводили на отдых, он и тут не давал покоя своим людям. Ежедневно с утра до ночи он учил бойцов-казахов ходить на лыжах, сам вместе с ними овладевал этим чужим для его народа и потому особенно трудно дававшимся ему искусством. Никудышний стрелок в начале войны, он в редкие, дорогие минуты боевого отдыха, когда его товарищи-командиры, попарившись в бане, отсыпались, уходил в лес и один часами учился целиться и стрелять, пока не научился первой пулей сбивать с ели шишку. Он был награжден уже орденом Красной Звезды и орденом Красного Знамени. Его разведчики славились на всю армию. Их известность росла по мере
наступления. Раненые, уезжавшие на отдых, везли с собой письма бойцов Панфиловской дивизии, посылаемые на родину, несли его славу из холодных калининских лесов в далекий Казахстан. О нем говорили уже в колхозах. Старики сравнивали его с легендарными героями прежних дней. О нем сочиняли стихи. Сам того не подозревая, становился он «героем степных народных песен, какие он когда-то собирал с такой любовью и старанием.
Зимой 1942 года дивизия наступала в авангарде армии. Авангардом дивизии шел полк Капрова, а в передовом боевом охранении двигались на лыжах разведчики Малика. Дивизия, прорвав вражеский фланг и огибая его, зашла во вражеский тыл. Ей предстояло замкнуть кольцо окружения за спиной одного из крупных гитлеровских соединений, упорно оборонявшегося в лесах. Острия клещей почти сошлись. Осталась узкая горловина. В центре ее была сильно укрепленная деревня, в которой находился вражеский штаб. Нужно было взять эту деревню и зажать горловину.
На эту операцию решено было бросить первый батальон и роту разведчиков Габдуллина. Они должны были, сделав широкий обход по лесам и болотам, внезапно ударить на деревню, захватить ее и держать до прихода дивизии. Люди Малика, закаленные долгими и утомительными тренировками, легко проделали трудный лесной переход и подошли к рубежу атаки. Малик дал отдохнуть отряду, потом созвал бойцов и приказал им сбросить вещевые мешки, освободиться от всего лишнего.
— Позавтракаем там трофейными закусками,— сказал он.
К двенадцати вся рота сосредоточилась на опушке леса вблизи деревни. Малик посмотрел на часы. Атака была назначена на двенадцать пятнадцать. Но батальона, с которым он должен был взаимодействовать, еще не было.
Уж давно был послан лучший лыжник для связи. Тянулись томительные минуты. Наконец лыжник вернулся и доложил, что батальон идет без лыж целиной, движется медленно, с трудом протаптывая путь в глубоком снегу, и будет, по-видимому, не раньше чем часа через три.
Все было рассчитано на внезапность. Деревня была крепким орехом, приспособленным к крупной обороне, окружена дзотами, закопанными в землю танками. В случае, если' бы гитлеровцы узнали о том, что им грозило, и привели в действие всю мощь своей огневой системы, их трудно было бы опрокинуть даже силами дивизии.
Опыт учил Малика ценить в такой обстановке каждую минуту. И он решил атаковать деревню своими силами. Людей он разбив на четыре неравные группы. В одну собрал всех физически слабых и неопытных. Им были выданы все имевшиеся в роте диски, заряженные патронами с трассирующими пуля-
ми. Они должны были подобраться к деревне по лесу с направления, откуда гитлеровцы могли предполагать атаку. Им было приказано ровно в час, устроившись поудобнее, открыть по деревне частый огонь и вести его, постоянно меняя позиции. Тем временем две группы лыжников под командой старшего сержанта Тимонина и сержанта Монахова должны были, по возможности без выстрелов, подобраться к деревне с флангов и, прорвавшись во вражеские траншеи, захватить дзоты с тыла. Сам же Малик с основной атакующей группой решил ворваться в деревню и тут добивать гитлеровцев в домах и на улицах.
Эта атака сильного фашистского гарнизона, да еще сидящего за мощными укреплениями, силами одной роты кажется чем-то совершенно невероятным. Но мало ли невероятного делали советские воины! План, выработанный командирам, крепко верящим в себя и в своих людей, был разыгран, как по но-там. И когда наконец часа через два к месту схватки подоспел подтянувшийся батальон, автоматчики Малика уже заканчивали бой, выковыривая фашистов из последних дзотов и вылавливая их на чердаках и в подвалах.
Малик сидел в разбитом гранатами доме вражеского штаба, читал захваченные документы, а один из его бойцов, бывший слесарь Ленинградского механического завода Мартынов, возился у двух несгораемых шкафов и, обливаясь потом, ругал упрямую технику. Впрочем, он все-таки вскрыл эти шкафы. В одном оказались дислокационная карта района, важные штабные бумаги и много фальшивых денег. Другой был полон коробочками с железными крестами, предназначенными к отправке в части.
От боя к бою росла известность разведчиков Малика Габ-дуллина. И когда слава его прошла по всему фронту, его, боевого командира, чуткого политработника, хорошего лингвиста, свободно владеющего русским, казахским, киргизским, узбекским, каракалпакским, татарским и немецким языками, назначили агитатором для работы с бойцами нерусской национальности. И он стал ездить по частям, неся бойцам слово Коммунистической партии.
Должно быть, об одном из его недавних выступлений здесь, в батальоне, в редкую минуту боевого затишья, и спел только что солдат-джерши.
Мы молча сидели у потухшего костра. Последние угли погасли под пеплом. Стемнело. Холодные, острые звезды зажглись в темном бархате неба, кое-где тронутом багрянцем пожарищ. И песня все еще звучала, и не хотелось шевелиться, чтобы не спугнуть обаяние раздольной степной мелодии.
— Вот так и рождаются легенды,— тихо произнес лейтенант Климов, отвечая на какие-то свои мысли.
А. ЗЕМЦОВ
У СМОЛЕНСКИХ ПАРТИЗАН
Отец и сын
Колхоз назывался «Новая жизнь». Название вполне отвечало существу: упорным трудом колхозники действительно создали новую жизнь. Шесть лет бессменно он был председателем этого колхоза. Деревня, в которой до Великого Октября жили в нужде и умерли в нужде его родители, его деды и прадеды, где и сам он в молодости сполна хлебнул батрацкой доли,— его родная деревня преобразилась. И во всем этом: в золотой стене буйных хлебов, в розовом ковре клеверного поля, в новеньких бревенчатых хатах, окруженных палисадниками и огородами,— были его труд, его бессонные ночи, часть его жизни.
Крестьяне любили своего вожака за то, что был он заботливый, рачительный хозяин, что берег и умножал артельное добро. Любили его за тихий характер, за трезвость, за то, что был вежлив, со всяким мог обойтись без окриков, без ругани.
В заботах, в хозяйственной сутолоке текли дни, проходили месяцы, годы. Не заметил, как вырос сын.
Потом представился счастливый случай съездить вместе с сыном в Москву. Было это в июле 1940 года. С тех пор многое изменилось в судьбе отца и сына, но дни, проведенные в столице, навсегда остались в памяти.
Взявшись за руки, чтобы случайно не потеряться в праздничной толпе, они ходили по территории Всесоюзной сельско-хозйстеенной выставки. Отец и сын знали, что страна их велика и богата, что тянется она от берегов Тихого океана до снеговых вершин Кавказа, но знания эти были книжные, вычитанные из учебников и журналов. Никогда раньше не приходилось заглядывать им дальше границ Смоленской области. А здесь? Здесь вся страна пред их глазами. Здесь человек собрал на одной площадке всю свою Родину, все богатства ее недр, щедроты ее земли, труды золотых своих рук.
Пять дней они провели на выставке. Федор Федотович все что-то записывал, по нескольку раз возвращался к одним и тем же экспонатам, подолгу беседовал с экскурсоводами и работниками павильонов. Он делился с сыном своими мыслями, посвящал его в планы, рассказывал, как будущим летом по-новому организует льноводные звенья, как жидкими удобрениями станет подкармливать хлеба, как произведет летнюю посадку картофеля по методу Лысенко. А сын между тем грезил иным. Шестнадцатилетний белокурый юноша с мягкими, ласковыми чертами лица, он был захвачен всей этой красотой и мощью.
— Знаешь, папа, я не буду жить на Смоленщине. Вот выучусь и поеду на Кавказ, в горы, к морю...
...17 июля 1941 года на утренней заре колхозники услышали лай пулеметов, частую дробь автоматов. В деревню, затертую лесами, стоящую далеко от линии фронта, ворвались гитлеровцы. Еще не улеглась на улице пыль, поднятая коваными сапогами чужеземцев, они уже хозяйничали по хатам, пинками и прикладами выталкивали из них хозяев, производили повальные обыски, охотились за курами и гусями.
Пришли непрошеные гости и объявили себя хозяевами всего, что было на земле и под землей, что было завоевано кровью, добыто тяжелым трудом.
- Что же нам теперь делать, отец?—спросил сын.
- Об этом я и думаю, сынок...
Однажды в глухую осеннюю ночь 1941 года все мужское население и многие девушки покинули родную деревню. Их увел председатель колхоза, увел на трудный и опасный путь — мстить фашистским захватчикам.
Так родился партизанский отряд, командиром которого стал председатель колхоза. Вместе жили, трудились, строили, вместе пошли отстаивать свою землю.
...Вот они стоят рядом, отец и сын. На груди у одного орден Красного Знамени, у другого—медаль «Партизану Отечественной войны». Оба такие похожие и такие разные. Много морщин появилось на лице отца, седина посеребрила его голову. Очень изменился партизанский вожак. Изменился внешне и еще больше внутренне. Тогда, в мирное время, он был беспартийным, но в лесу, в обстановке смертельной опасности, Федор Федотович пришел к парторгу, своему же земляку, и сказал: «Хочу быть коммунистом». Не узнать и Васю. С обветренного лица смотрят серьезные, строгие глаза борца. От мягкого, мальчишеского не осталось и следа. В партизанах он вступил в комсомол, здесь его избрали секретарем комсомольского бюро.
Нет, фашистам не удалось уничтожить колхоз «Новая жизнь». Колхоз живет, действует, борется. Правда, называется он теперь по-другому: «Партизанский отряд имени Николая Щорса». Но славы у этого колхоза не меньше, чем в мирные дни. Славы, завоеванной борьбой, кровью. Более семисот гитлеровцев истребили партизаны отряда, девять эшелонов с живой силой, техникой и боеприпасами пустили под откос, десятки мостов взорвали, многие километры провода вырезали.
Богат событиями боевой путь отряда. Немало в нем волнующих, полных героизма эпизодов. Не раз приходилось сталкиваться с врагом с глазу на глаз. Не раз врага было в несколько раз больше, чем партизан. Но отряд выходил из этих схваток неизменно победителем. Сильные своей ненавистью, верой в правоту своего дела, партизаны мстили за свое разоренное счастье, за разграбленный колхоз, за спаленную деревню, за сотни убитых, повешенных, растерзанных земляков.
Отряд стоял в деревне. Большая часть партизан ушла на операцию. И вдруг примчались каратели: двести пятьдесят эсэсовцев на восьми грузовиках с двумя легкими танками. А партизан было всего двадцать пять человек. Четыре часа длился неравный бой. Федор Федотович залег у пулемета, и рядом с ним сын. Колхозный тракторист Алексей выпустил из миномета полтораста мин, пулеметчики Иван и Егор подпускали гитлеровских солдат на пятьдесят — шестьдесят метров и косили их. Потеряв только убитыми шестьдесят человек, гитлеровцы в беспорядке отошли, так и не овладев деревней.
Во всех боевых делах отец и сын оказались достойными друг друга. Вася вместе со своими товарищами пустил под откос два воинских эшелона. В засадах на большаках, в налетах на вражеские штабы и гарнизоны он всегда рядом с отцом, там, где больше опасности, где решается судьба операции.
— Хороший сын растет у командира, весь в отца,— говорят про Васю партизаны.
От этих слов тепло становится на душе у Федора Федотовича.
Не покорить!
Фашисты поймали партизана Василия Кутузова. Его привезли в комендатуру в город Белый. Во время допроса от партизана потребовали назвать фамилии всех его товарищей. Василий плюнул в глаза допросчику. Ему жгли пятки раскаленным железом, отрезали уши, но он молчал. Его посадили в бочку, внутри которой были набиты длинные гвозди, и бочку катали по двору комендатуры. Вася Кутузов умер, но не выдал врагам своих товарищей. Он не покорился.
7 ноября партизанские отряды имени Александра Невского и Дмитрия Фурманова стояли в деревне Коровякино. Вместе с колхозниками они отмечали годовщину Октябрьской революции. Вскоре после открытия митинга прибежала колхозница из соседней деревни и сообщила, что на Коровякино идет крупный карательный отряд.
Был солнечный день. Гитлеровцы устроили привал, расположившись кружком вокруг своих офицеров. Они «заправлялись». Перед каждым стояла фляга с водкой, лежали кусочки хлеба, намазанные мармеладом. Разгоряченные винными парами, фашисты были уверены, что нападут на партизан внезапно и ликвидируют отряды, так много насолившие им за полтора года.
И вдруг совсем рядом, в пятидесяти метрах от них, раздает-ся громкое партизанское «ура!». Каратели не успели взяться за оружие.
Семьдесят эсэсовцев нашли себе «жизненное пространство» на берегах безвестной речушки близ смоленской деревни Коровякино.
Через несколько дней пришли в Коровякино другие каратели. О том, какая страшная трагедия произошла здесь, рассказывает колхозница Анастасия Петровна Федорова:
— Ворвавшись в деревню, они спустили собак. Собаки кидались на игравших на улице ребятишек и грызли их. Собрали нас, жителей деревень Коровякино, Горки, Отсеки, в одно место. А жили тут только одни женщины да малые дети. Был среди нас всего один мужчина —семидесятилетний старик Филипа Павлович Мищенков. Пьяные гитлеровцы окружили толпу беззащитных и начали избивать. Всех нас разули, оставили в одном исподнем белье и, избитых, загнали в холодный сарай.
Два дня продержали так, взаперти, без пищи и воды. На руках у меня замерз грудной ребенок. 19 ноября ночью приказали выходить. Стоял мороз. А мы все голые, разутые. Погнали по промерзшей дороге.
Не доходя до села Девятое, около больших курганов, про которые говорили в народе, что они насыпаны еще во времена татарского ига, офицер скомандовал: «Хальт!» Потом стали стрелять пулеметы. В толпе раздались вопли, крик детей. Помню только слова старика Мищенкова: «Всех не перебьете, окаянные, придет и вам наказание за нашу кровь!». Сраженный пулеметной очередью, старик упал на груду трупов.
Так у седых девятовских курганов хищники растерзали сто сорок шесть женщин и детей, растерзали потому, что они русские, советские люди, что они не покорились захватчикам.
Но зверства гитлеровцев толкают все новых и новых людей на активную борьбу. Даже те, кто вчера не был партизаном и держался за свой дом, сегодня идут в лес, идут охотиться на фашистского зверя. И самый смирный становится воинственным. И нежная девушка превращается в грозного бойца. И дряхлый старик находит в себе силу для мести.
К глубокому старику Лютову из деревни Чеславка ночью пришли три гитлеровца. Они потребовали сала, яиц, курятины. Они сели за стол, как хозяева, и раскупорили бутылку со шнапсом. Один из опьяневших ударил чем-то не угодившего ему деда в лицо. Дожил до седых волос Л ютов, но никто его пальцем не трогал, а теперь вместе с кровью он выплюнул три выбитых зуба. Гордый старик принял решение. Когда гитлеровцы окончательно перепились и свалились, он незаметно собрал их оружие, вышел из хаты, закрыл ее на замок и собственными руками поджег. Поджег с четырех углов свою хату, ту хату, в которой прошла вся его жизнь, где он воспитывал и ставил на ноги своих детей, с которой связано столько близких сердцу семейных
преданий. Он смотрел, как языки пламени лизали сухое дерево, как погибали в огне его враги, и в глазах его светились торжество и ненависть. Старик пришел к партизанам.
Колхозницы из деревни Холопово Маруся Горчакова и Аня Чувашова — скромные и тихие девушки. Они плакали, когда из села уходила Красная Армия. Им дорога Родина, всей силой души они ненавидят гитлеровцев, но они не брались за оружие. Они полагали, что война — это не их девичье дело. Осенью прошлого года у Маруси фашисты убили старика-отца, у Ани—-близкого родственника. Девушки пришли к командиру партизанского отряда Владимиру.
— Давай, командир, оружие, будем воевать! — сказали они.
Мастерство
В просторной штабной землянке вокруг длинного стола, сбитого из необструганных досок, на лавках вдоль стен сидят вооруженные командиры, комиссары, начальники штабов партизанских отрядов. Стены увешаны автоматами, ручными пулеметами, патронами, дисками: отечественные вперемешку с трофейными. Густо накурено, пахнет ружейным маслом, смолой и вареной капустой. Трепетно мечется неяркое пламя коптилки, стараясь побороть полумрак. В печке трещат сосновые чурки.
За окном гудит ветер. Могучие деревья стонут, скрипят, мерно покачиваются из стороны в сторону, будто озябшие часовые переминаются с ноги на ноту. Где-то ухает пушка, где-то глухо стучит крупнокалиберный пулемет. Время от времени «с улицы» раздается голос патруля:
— Стой, кто идет?
Знакомая, привычная, родная обстановка!
Вот они, партизанские вожаки, народные мстители, люди, о каждом из которых можно рассказывать долго и увлекательно. В центре, за столом сидит партизанский комбриг Николай Афанасьевич. Молодой, подвижной, с узкими глазами, крутым подбородком, с лицом, осыпанным веснушками, он, этот уже бывалый воин, носит в себе что-то мальчишески-озорное. Полтора года назад с группой друзей, вооружившихся берданками и одной гранатой, он вышел на первую «охоту». Впоследствии отряд имени Котовского, которым он командовал, покрыл себя славой многих боевых дел. Вот, углубившись в карту, примостился у стола командир отряда «Смерть фашизму», инженер-горняк из Кузбасса Василий Викентьевич. Его стройную фигуру облегает диагоналевый френч. Высокий лоб прорезали морщины, черные выразительные глаза запали. Вот наш знакомый Федор Федотович. Он вполголоса разговаривает о чем-то с Владимиром Ивановичем — командиром отряда имени Александра Невского,, совсем еще юным пареньком, худым, тонким, с коп-
ной непослушных русых волос. Часовой ввел пленного с эсэсовскими знаками в петлицах, толстого, большеголового и лысого.
— Такому бы пивом торговать, а он воевать полез,— бро
сил кто-то.
В результате допроса пленного установили, что советские танки в районе южнее города Б. прорвали линию вражеской обороны, что вслед за танками в прорыв двинулась наша пехота, а гитлеровцы отступают, и часть их теперь концентрируется в селах М., С. и Т.
— Итак, наша задача состоит в том, чтобы немедленно на
валиться на врага с тыла, ударить по гарнизонам, где он сей
час сосредоточивается, поставить засады на дорогах, по кото
рым он подбрасывает резервы, и тем самым оказать помощь
Красной Армии,— заключил свое выступление Николай Афа
насьевич.
Командование бригады приняло решение: произвести налет на село Т., где, по данным разведки, сосредоточилось большое количество автомашин с горючим, боеприпасами, продовольствием и расположился штаб вражеской части.
Операцию готовили со всей тщательностью. Были назначен ны место и время сосредоточения отрядов. Каждый отряд получил задачу.
...Узкими лесными тропами идут цепи партизан. На жирных, крутобоких бельгийских тяжеловозах, отбитых у врага, везут пушки, минометы, тяжелые пулеметы. Чуть позади тянется обоз.
— Ольга, Ольга, проверь, не забыли ли захватить глице
ринового масла...
— Товарищ командир, посмотрите вправо, кто-то по лесу
наперерез нам бежит.
Но в рядах уже узнали:
— Да это наш дед Семен!
И точно, это был дедушка Семен, партизан отряда имени Буденного. Дело в том, что старик ввиду его преклонного возраста, был «отставлен» от войны и «приставлен» к коровам. А это его не устраивало и до крайности обижало.
— Вот что, командир, не хочу больше навоз чистить!— вся
кий раз возмущался дед Семен, когда не брали его на опера
цию.— Заладили свое: старик да старик. А какой я старик: мне
всего шестьдесят седьмой пошел!
Деда Семена партизаны любили за прямоту и честность, за горячий характер, острый язык и веселый нрав. Молодежь подтрунивала над ним, но он не обижался и сам был большой охотник «поразмять» язык.
— Ты нас рыжей бородой своей демаскируешь, за пять верст
ее гитлеровцы увидят,— шутили ребята.
Но от старика не так-то просто было отбиться. Партизанская жизнь нелегка и для молодого, а старику здесь тем более не сладко. И холодно и голодно бывает иногда, и ноги пухнут от многодневного пребывания в болотах, и все тело обложит чирьями от простуды. Но дед Семен знает, за что и с кем воюет. А сколько таких замечательных стариков в партизанских рядах! Священная, народная война призвала к оружию людей всех возрастов.
К указанному времени и в определенных местах сосредоточились отряды. Обозы оставили в укрытиях. Разведчики непрерывно вели наблюдение. Артиллеристы и минометчики оборудовали позиции. Командиры собрались в крайней хате деревни и еще раз во всех подробностях обсудили план операции.
Выдалась светлая и тихая лунная ночь. Было далеко видно кругом.
— Черт возьми, когда же она перестанет таращить глаза?— раздавались неласковые слова в адрес луны.
Только в третьем часу с севера потянуло ветром, небо заволокло тучами. И тогда командиры повели свои отряды на штурм вражеского гарнизона. Храбрецы бесшумно подобрались к сторожевым постам и сняли их. Связные донесли комбригу о том, что все готово. В небо врезался хвост красной ракеты: сигнал открытия огня.
...Горели вражеские склады с продовольствием, бензобаки, автомашины с грузами. В свете пожара мелькали ошалелые гитлеровцы, выскочившие на улицу в нижнем белье. Их скашивали автоматными очередями, били прикладами.
Удар был настолько неожиданным и таким стремительным, что фашисты не сумели организовать отпора. Пятьдесят семь машин с грузами, три склада с продовольствием и горючим уничтожили в эту ночь партизаны. Трупы нескольких сотен гитлеровцев остались на улицах и окраинах деревни. Партизаны потерь почти не имели. Они нагрузили шестьдесят подвод продовольствием, захватили знамя гитлеровской части, ценные штабные документы.
Это была отлично проведенная операция. В ней отряды показали высокое воинское мастерство, умение действовать четко и согласованно, в полном соответствии с партизанской тактикой: напал неожиданно, обрушился со всей силой и быстро ушел.
П. КУЗНЕЦОВ
ЛЮДИ ВЕЛИКОГО ПОДВИГА
Линия фронта причудливыми изгибами прошла на многие десятки километров, образуя клинья и пилы, мешки и горловины, перешейки и полукольца. Бои становятся с каждым днем ожесточеннее. Они разгораются на большаках, по обочинам автомагистралей, в лесах и поймах озер.
Завывает резкий, пронизывающий северяк. Крепкие морозы сменяются внезапными ростепелями, стылая пурга—дождем. Капризы погоды вмешиваются в расчеты боевых командиров. Но и снег, и мороз, и дождь — все здесь используется, подчиняется воинскому плану.
Узкая лесная дорога завалена трупами вражеских солдат, Они застыли, как неуклюжие, суковатые они, на пути идущих вперед батальонов. Тяжелые орудия с грохотом проносятся через них. Это дорога возмездия. Впереди, за лесом, кипит бой. Ветер доносит удушливый запах гари: пылают подожженные врагом белорусские деревни.
Двое гвардейцев взбираются на высокое ветвистое дерево. Шапки пушистого белого снега осыпаются с ветвей.
— Злизай, злизай, суччя порода! Будэ тоби туточки заседаты! — доносится сверху сочный украинский бас, и вслед за тем слышатся крепкие удары тесака о дерево. С шумом валится вниз закоченевший гитлеровский снайпер. Он весь обморожен. За голенищем дырявого сапога у него спрятана записная книжка. Неутешительными были последние записи в книжке этого гитлеровца: «...фюрер приезжал в город. Он сказал, что потеря Витебска станет потерей половины Ленинградского плацдарма... Нашей роте приказано «куковать». Мы должны сидеть на дереве, пока оно не упадет. Это очень скучно. В детстве я хорошо лазил по деревьям, чтобы пощупать птичьи гнезда, но тогда я не думал, что в сорок восемь лет мне придется повторить детские забавы на русских гнездах. В этом много риска, но так требует фюрер. Ему сейчас очень трудно...»
Последняя исповедь гитлеровца содержала много правды. Не от сладкой жизни фюрер заставил сорокавосьмилетнего баденского портного забраться на белорусскую елку. Фюрер позаботился даже о том, чтобы он не вздумал от скуки слезть "с куста: предупредительное начальство прикрутило его ремнями к толстым ветвям дерева и снабдило двухтысячным запасом патронов.
Так в новинках фронтового сезона появилась «тотальная кукушка».
Глубокий, длинный ход сообщения ведет к траншее переднего края. Истошно воют и лопаются вокруг «солдатские сватьи» — средние воющие мины. Из траншеи открывается панорама развернувшегося боя. От порохового дыма и взрывных волн, как от внезапно наступившей оттепели, почернел снег, горят развалины фортификаций противника, подожженных снарядами.
Наши артиллеристы не дают гитлеровцам поднять головы, поддерживая огнем цепи пехоты, атакующей врага. Сейчас орудия бьют особенно яростно, и фланговые пехотинцы, с благодарностью поглядывая в их сторону, пользуются временем для короткой передышки.
К пулеметному гнезду гвардейцев принесли горячий борщ. Пулеметчики расположились на соломе в подземном углублении траншеи. Чарку водки, положенную к обеду, подняли за командира — старшего сержанта Антона Константиновича Шахвороетова. Сегодня у него день рождения. По русскому обычаю солдаты одарили именинника зажигалкой, сделанной из винтовочной гильзы, и двумя чистыми конвертами для писем, чему он был бесконечно рад.
Торжество длилось вместе с обедом не больше десяти минут. Управившись с котелком, усатый именинник, как будто что-то вспомнив, быстро поднялся с места и строго скомандовал чествовавшим его друзьям:
— Вста-а-ать! К бо-о-ю!
Солдаты бросились к оружию, и резкие очереди снова раздались из огневого гнезда, поливая противника раскаленным свинцом.
...Шумят под декабрьскими вьюгами могучие, вековые леса непокоренной, сражающейся Советской Белоруссии. Замороженные стужей озера и реки, бесконечно милые сердцу уголки родной земли встают перед наступающими солдатами во всей своей первородной красе.
Но каинов след фашистских варваров коснулся и здесь каждого места. Гитлеровские орды прошли по лесам и просторам этой, недавно еще богатой, обильной урожаями и щедрой плодами, цветущей земли, прошли, как страшная, все опустошающая чума.
Лесные исполины обезглавлены разрывами тяжелых снарядов. Стонут пораненные сосны и березы, безмолвные свидетели разыгравшейся боевой бури.
У разоренной фашистами избушки лесника лежит приколотая штыками корова. Гитлеровцы не успели попользоваться мясом и залили тушу карболкой, чтобы не досталась никому. В избушке с обгорелым потолком труп женщины. Голова размозжена топором. В уголке детские игрушки. Большая кукла в забрызганной кровью кофточке. Здесь жила русская девочка. Об этом говорит кукла с большими, испуганными стеклянными глазами. Девочку схватили и увели с собой убийцы ее матери. Белый снежок слегка запорошил следы недавней драмы.
Над крутым, обрывистым яром лесного водоема — перекресток трех дорог. Все дороги идут к большаку. Непрерыв-ными потоками проходили мимо озера обозы, тысячи празднично одетых крестьян окрестных деревень ехали, шли к богатым колхозным ярмаркам Витебщины. Высокий яр и лес у озера были любимым местом отдыха советских людей. В тени берез стояли чайная, обильные товарами лавки «Бакалеи», Дом колхозника, читальня, клуб. Перекрестком счастливых дорог называли это место белорусы. Так было до войны.
Два с половиной года перекресток был у гитлеровцев. В последнем жестоком бою гвардейцы отбили его у врага. На яру, над самым озером, зловеще высятся перекладины смоленой виселицы. Еще болтается обрывок почерневшей от крови веревки.
Фашисты переименовали перекресток. Они назвали тихое белорусское озеро «зеркалом смерти». От Полоцка и Городка, от Витебска и Невеля черные машины гестапо привозили сюда советских людей, обреченных на пытки и чудовищную смерть.
Их вешали над озером под барабанную дробь лесного гарнизона гестаповских висельников. Страшные отражения ложились на чистое зеркало озерных вод. И со всех трех дорог, сходившихся у самого яра, видна была высокая виселица.
Выезжавших на большак людей встречали искаженные смертельной пыткой багрово-синие лица повешенных. Люди сворачивали в стороны, чтобы миновать страшное место. Тогда на обочинах дорог появились стрелки с надписью: «Мины».
Шестидесятилетнего полоцкого партизана Остапа Вишняка гитлеровцы схватили по доносу предателя в то время, когда Вишняк под видом слепого цимбалиста ходил на разведку в самое логово врага.
Вишняк отбивался до последних сил. Тяжелая рана, полученная в схватке, помешала ему избежать плена. Народный герой ни слова не вымолвил на пытках. Фашисты отвезли его к перекрестку трех дорог и повесили за ноги, а к голове привязали цимбалу, наполненную песком. Над виселицей после казни прибили надпись: «Русский партизан». Раненый Вишняк умирал медленной, мучительной смертью. Озеро, глубокое и чистое, как небо родной Белоруссии, приняло святую кровь героя и последний взгляд его гневных, налитых лютой ненавистью к врагу глаз.
Две недели висел труп Остапа Вишняка на крутом яру перекрестка. К исходу второй недели глухими лесными тропами к озеру подошли партизаны. Они напали неожиданно и дерзко на вражеский гарнизон, обезоружили гитлеровцев, бережно сняли останки героя, а на виселицу вздернули начальника гарнизона — палача обер-лейтенанта Штрауха. Окруженные партизанами, гестаповские барабанщики усердно колотили в барабаны, провожая на тот свет своего начальника.
Надпись над виселицей сменилась: «Фашистский кровосос. Удавлен в расчет за деда Остапа».
Взбешенные гитлеровцы усилили охрану перекрестка. На другой день на перекладине виселицы появилась еще одна петля. На этот раз палачи повесили священника Добрышева, а рядом с ним двенадцатилетнюю Надежду Верескову. Надписи над виселицей теперь гласили: «Поп-большевик» и «Поджигательница».
Надю Верескову фашистские мерзавцы изнасиловали, а Добрышева привезли на оргию служить шутовскую панихиду по мертвецки пьяным офицерам. Чтобы замести следы преступного разгула, гестаповские бандиты обвинили девочку в поджоге казармы, а вместе с ней отправили «посмотреться в зеркало» и Добрышева — свидетеля гнусного насилия.
Сменялись жертвы в петлях на перекрестке дорог у большого белорусского тракта. Тысячи подневольных, истерзанных муками фашистского рабства людей проходили мимо страшного места. И по всем дорогам шла вместе с ними, переполняя чашу терпения, испепеляющая ненависть к заклятому врагу, полонившему и поругавшему родную землю. И час расплаты настал. На большак вышли советские танки. Перекресток трех дорог был навсегда очищен от фашистов.
