Денисов Ордена Ленина типографии газеты «Правда» имени И. В. Сталина, Москва, ул. «Правды», 24 предисловие вэтой книге собраны очерки и рассказ
| Вид материала | Рассказ |
СодержаниеЛ. первомайский В. вишневский |
- Писателя Рувима Исаевича Фраермана читатели знают благодаря его книге "Дикая собака, 70.52kb.
- Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук, 251.13kb.
- Имени Н. И. Лобачевского, 608.68kb.
- Высшее военно-морское инженерное ордена ленина училище имени, 2642.89kb.
- И. А. Муромов введение вэтой книге рассказ, 11923.67kb.
- Правда Ярославичей". Хранители правды, 144.68kb.
- Разработка комплексной асу технологическим процессом производства изделий электронной, 36.71kb.
- Время собирать камни. Аксаковские места Публикуется по: В. Солоухин "Время собирать, 765.53kb.
- Из зачетной ведомости, 78.76kb.
- Леонид Борисович Вишняцкий Человек в лабиринте эволюции «Человек в лабиринте эволюции»:, 1510.87kb.
Замышляя беспримерное злодеяние, гитлеровская Германия не задумывалась, хватит ли слез у нее смыть пролитую кровь. Пусть попробует на деле, это надежно излечивает от безумия. В самом деле, готовить ярмо смельчакам, совершившим прыжок через смертельную пропасть, — России, вырвавшейся из рабства на простор вольного существования!..
Кто ты, Гитлер, чтобы размахивать над нами бичом господина? Это вас, современники мои, он собирался тащить в петле порабощения на плаху бесславной гражданской смерти, — вас, орлы Сталинграда и Киева, родные братья светоносных Зои Космодемьянской и Александра Матросова,— вас, конструкторы небывалых машин, строители Днепрогэса и Магнитогорска, осушители болот, озеленители пустынь размером в пол-Европы, суровое племя мечтателей и воинов, творцы, в жилах которых льется пламя Ленина, Толстого, Горького...
Воистину, только в иссушенном мозгу политического ублюдка, изучившего в жизни пару жалких книжонок — наставление по окраске квартир да руководство к разведению племенных свиней, откуда и пошла идея, о расе господ,— мог зародиться этот низменный бред. И напрасно ты, Гитлер, кричишь со своих радиостанций о древней германской культуре, видимо, требуя от своих жертв, чтобы до последнего вздоха сохраняли благоговейное почтение перед блистательной аппаратурой палача. Ты достаточно потрудился, австрийский маляр и мастер мокрого дела, удобряя кровью поля России и Европы; и ты добился наконец, что слово «гитлеровец» в настоящее время приобрело значение угнетателя на всех наречиях земли. Пора уходить, полно тебе торчать на сцене, презренный, освистанный балаганщик! Миллиард честнейших людей нетерпеливо ждет, когда ты уляжешься наконец в яму с хлорной известью, Гитлер!
Пусть улыбнутся вдовы, перестанут плакать ребятки, распустятся все цветы на планете. Трауром отметит Германия день твоего восшествия на канцлерское кресло; мир сделает праздничной дату твоей гибели. Гляди, уже бегут с Украины твои гаулейтеры и человекоеды, домушники и маровихеры, зажав под мышкой фомки, этот инструмент фашистской славы. Тешься, грабь, нагуливайся напоследок, гитлеровская душа! Закладывай замедленные и с химическим взрывателем бомбы в фундамент детских домов, хватай подвернувшееся барахлишко для своих марух, своему щенку чулочки с девчоночки, зазевавшейся на улице, отбирай у нищей старухи ее последнее достояние. курочку-рябу, — из ее яичек еще выведутся тебе красные петушки!
Торопись, близится жаркий день расплаты; придется платить за все садистические упражнения и долгий кровавый дебош. Трясись, гитлеровская орава! Придется иному повисеть, иному побыть падалью, иному слезливо взглянуть в глаза нашему русскому парню, размахнувшемуся смертной плюхой.
Скучно ныне в фашистском Берлине,' но еще скучнее в столицах помельче, что лежат на столбовой дороге наступающей Красной Армии. Хозяева этих державок, у которых ума и совести на грош, а фанаберии на весь полтинник, также рассчитывали на поживу при дележке неумерщвленного медведя. Понят-но, на пирушке у атамана хищников всегда что-нибудь достается и шакалам и воронью.
С молчаливой усмешкой народы моей страны слышали их чудовищные и оскорбительные притязания, вдохновленные историческим невежеством и умеряемые лишь скудостью географических познаний. Фашизм всегда начинается с заносчивых бредней и кончается авантюрой. У всех на памяти военные декларации маннергеймов и антонесок: если Финляндия — так уж до Урала, Румыния — так уж по Владикавказ!.. Нам не помнится в точности, на какие именно океаны зарился адмирал несуществующего флота в Будапеште. То была убогая заносчивость блохи, что, затаясь на шерстистом хребте главного волка, возомнила себя наибольшим зверем, индрик-зверем, страшилищем всего живого на свете. Они забыли, что в войне с Россией основная стратегическая задача всегда делилась на две части: как найти проход в ее необъятных границах, и еще, самое существенное, как в наиболее целом виде и, хотя бы с головой под мышкой, удалиться из нее восвояси. Первая половина Гитлеру как будто удалась, вторая, в отношении головы, этому тулову не удастся. Мы, русские, своими победами не обольщаемся и так полагаем, что и Сталинград и Орел — только присказки, а самая сказка будет потом, ибо русские привыкли непрошеных гостей провожать обратно до самого их дома.
Мы знаем, чем грозило нам поражение; народ мой хочет изготовить эту победу с наибольшим запасом прочности. Такого лютого врага хорошо видеть либо мертвым, либо на коленях. И вот стремительное наступление наше превращается в соревнование танкистов и летчиков, артиллеристов и пехоты. С закушенными губами они рвутся вперед, не чуя боли в ранах, ломая сталь обороны. Новые, вчера еще безвестные имена героев миллионами уст любовно повторяет Родина, новые орлята крепнут на подвигах и расправляют молодые крылья. А уже Днепр! И далеко позади — Полтава, но никто еще не знает, который из городов наших станет последней «Полтавой» гитлеровской армии. Так кто же из вас, богатыри, первым окончательно перебьет уже надломленную хребтину зверю?..
Итак, ты снова наш, Киев, и быть тебе нашим, доколе катится Днепр и радуются добрые люди его седой красе. Ты, как часовой, века стоял на рубежах наших земель, вглядываясь в смутные горизонты востока, кишевшие крымчаками да половцами, тугорканами да боняками, и запада, откуда извечно, не мигая, глазели на твою красу завистливые очи другого Идолища Поганого; там, где-то на древних славянских рубежах, лежал в дозоре малый твой сынок, город Киевец на Дунае... Священное и нерушимое братство народов — русского и украинского — начертано в книгах твоих исторических судеб, милый Киев; нет ближе родства у нас, чем это крестовое брат- ство. От тебя, плодовитый старый диду, пошли русские города, по слову летописца. Ты, как семена, разбросал их по Руси, но первым поднял твою славу русский новгородский хозяин Владимир... С лишком пять веков звенит на твоих холмах цветастая украинская речь, как звенит она и нынче, но по-русски перекликались грозные ватажки былинных удальцов, погуливая по твоим раздольям, а среди них Микула да Вольга, Колыван да Дунай Ивановичи. Где-то здесь, на дремучей возвышенности, возлежал ужасный исполин Святогор и стоял перед ним оберегатель русской земли Илья Муромец, готовясь на новые, сверхгеракловы подвиги. Ты есть родина знаменитых сказов о нечеловеческом мужестве и молодечестве славянском, Киез; ты есть живая летопись прошлых деяний наших.
Каждый камень твой дорог сердцу нашему, как замшелый кирпич московского Кремля. Много тянулось к тебе жадных рук, много их потлело, отрубленных, под ковылями твоих привольных степей.
И вот снова, простреленный, порубанный, горишь ты, как свеча, знаменуя пору скорби и величайшее наше испытание. Ветер несет до Москвы твой священный и горький пепел; он ест глаза, и слезы выступают у патриотов.
Но не горюй, добрый диду! Оглянись на бессчетные молодые рати, гневно проходящие среди твоих пепелищ. Скоро-скоро они залечат твои раны, снова окружат тебя хороводами веселых садов, и прежняя, воскресшая слава зеленого изумруда Советской Украины вернется к тебе.
Ты еще увидишь, как праправнуки старого казака Ильи Муромца одолят и повалят наземь фашистское чугунное Идолище Поганое. И когда рухнет оно на колени, рассыпаясь на куски, пусть баяны наши прибавят к киевскому циклу былин новые, про советских богатырей, что прорубили дорогу нашей славе на Запад, головой касаясь серого, предзимнего неба...
Л. ПЕРВОМАЙСКИЙ
ПЫЛАЮЩАЯ ДУША
Есть в нашем народе могучая сила, которая пробуждается каждый раз, когда опасность угрожает его существованию. Эту силу, таящуюся в груди миллионов, можно назвать героизмом, хотя это не только героизм. Можно назвать ее любовью к источнику человеческой радости — к родной земле. Но это не только любовь. Все лучшее, что родилось и созрело в человеческой душе в течение столетий труда и борьбы народа, живо в этой силе, имя которой — величие народного духа. Это — свойство всего народа. Но есть люди, в которых дух народного героизма воплощается наиболее ярко. В дни испытаний такие люди выходят из безвестности, чтобы совершить свой подвиг и умножить славу Родины.
Я говорю об одном таком человеке, садоводе по призванию, который в годину войны стал танкистом, вошел в мир скрежещущего, воющего и орущего металла, как в дикий, незнакомый сад, в котором нужно было все познать, изведать и подчинить своей воле, потому что таково веление времени: судьбы садов зависят теперь от мужества солдат.
Капитан Сергей Илларионович Величко вернулся в свою бригаду в полдень 4 июля. Около года он пробыл в тыловом госпитале, и мало кто из друзей надеялся с ним когда-нибудь свидеться. Величко был отправлен в госпиталь в состоянии, оставлявшем мало надежды на выздоровление. Ожидали, что в лучшем случае он останется инвалидом, однако в бригаду вернулся вполне здоровый, даже несколько располневший человек. Величко был назначен командиром батальона тяжелых танков и сразу же принял свой батальон.
На фронте царило затишье, но танки, как полагается, стояли в укрытиях в полной боевой готовности, а их экипажи в ожидании своего часа усердно проходили ежедневные учения.
День ушел на знакомство с людьми и осмотр материальной части, а вечером в блиндаже капитана собрались старые друзья. Начальник штаба бригады, пожилой майор Иванов, принес фляжку трофейного рому. Седой юноша, командир мотострелковой роты, старший лейтенант Вася Гришаев пришел со своей гитарой. Капитан Петрунин, лихой разведчик, своими усами и бородкой похожий на Николая Щорса, выложил на стол пучок молодого лука... Когда выпили по первой — вкруговую из одной жестяной кружки, — Вася Гришаев тряхнул своим седым чубом, тронул струны гитары, и танкисты, презрев различие возраста и званий, спели любимую песню бригады, ту, что пел капитан Величко на Дону в осажденном гитлеровцами танке;
Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка темная была.
Одна возлюбленная пара
Всю ночь гуляла до утра...
О многом говорили в блиндаже, много воспоминаний разбудила встреча. Выцеживая последнюю каплю из фляжки, пожилой начальник штаба сказал раздумчиво, как бы прислушиваясь к своим словам:
— О тебе, Сергей Илларионович, мы столько тут нарассказывали за этот год и своим людям, и гостям, и газетчикам, что стал ты в некотором смысле личностью легендарной...
Капитан помрачнел и сказал неохотно:
— Зря, я ведь и повоевать не успел... и героем не был. Попал бы ты в мою шкуру, о тебе то же самое говорили бы.
Гости разошлись. Капитану Величко плохо спалось на новом месте. Он несколько раз выходил из блиндажа покурить, а когда уснул наконец, то, как ему показалось, сразу же проснулся... Еще не открывая глаз, он понял, что произошло. Блиндаж трясся, и сухая кора падала с бревен перекрытия на постель. Он натянул на ноги сапоги, накинул шинель на плечи и вышел.
Ночное небо на юго-западе освещалось вспышками, догонявшими одна другую и сливавшимися в одно сплошное жуткое мерцание. Земля содрогалась, глухо стонала и вздыхала, как будто она была большим живым существом, мучительно переживавшим боль сыпавшихся на нее ударов.
- Видать, началось, товарищ капитан? — сказал автоматчик, стоявший у блиндажа; его молодое лицо в темноте казалось старым и серым, а голос прозвучал неуверенно и робко.
- Не трусь, — ответил Величко. — Давай-ка воды, будем умываться...
Автоматчик нырнул куда-то в темноту и вернулся с ведром воды. Величко фыркал и ухал, вода была холодная, ключевая, а молодой боец, глядя на его тело, светящееся в темноте молочной белизной, говорил, будто сам с собою:
- Слыхать, Гитлер на нас «тигров» пустит?
- Лей сюда! — прикрикнул Величко, отводя руку за спину и хлопая себя тыльной стороной ладони по хребту. —А мы сами чем не медведи? Вода еще есть? Нету — и шут с ней!..
Он долго растирал тело шерстяной рукавицей, бормотал что-то, подшивая свежий воротничок к гимнастерке, насвистывал любимую песню и, когда его вызвали к командиру бригады, был уже одет и гладко выбрит.
Полчаса спустя капитан Величко садился в свой командирский танк. Он был уже полон того напряжения, какое обычно появляется у людей перед боем, хотя знал, что должно пройти еще много времени, прежде чем его батальон встретится с врагом.
Танки шли по дороге, растянувшись колонной. Он стоял, высунувшись по грудь из башни, и наблюдал за дорогой, за движением, за воздухом... Кусты, поля, деревни в предрассветной дымке кружились и летели вспять по сторонам дороги. Жизнь мчалась, как стремительная река, и жаркий поток ее нес его с собой.
...Выло на Днепровском правобережье местечко Млиев, известное садоводам всего мира. Величко вспоминал о Млиеве в прошедшем времени, потому что сам был свидетелем его разрушения и гибели. До войны он работал в садах Млиевской опытной станции. Знойная тишина украинской осени приносила плоды, которые были настолько же делом природы, насколько творением молодого садовода. У Величко были жена, ее звали Лизой, и шестилетний сын Сережа.
Летом первого года войны танковая часть, в которой Сер
 гей Величко служил командиром взвода, отходила на восток. Кривая сабля Днепра должна была преградить дорогу врагу. На подступах к реке шли ожесточенные сражения, и судьбе было угодно, чтобы Сергей Величко, садовод, вел бой с гитлеровскими танками у развалин горящего Млиева, среди отягощенных обильным урожаем своих садов.
гей Величко служил командиром взвода, отходила на восток. Кривая сабля Днепра должна была преградить дорогу врагу. На подступах к реке шли ожесточенные сражения, и судьбе было угодно, чтобы Сергей Величко, садовод, вел бой с гитлеровскими танками у развалин горящего Млиева, среди отягощенных обильным урожаем своих садов.Пламя ночного пожара освещало танки, стоявшие под деревьями. Танкисты, не выходя из машин, срывали ранние яблоки, но, кажется, никто не знал, что среди них находится человек, трудившийся в этих садах, творец этих крупных, сочных плодов, свежестью своей пробуждающих воспоминания о детстве.
Сергей Величко сидел на броне своего танка. Обстановка не позволяла ему отлучиться, хотя в двух — трех километрах находился его дом. Тяжелые мысли одолевали танкиста в ту ночь. За ним были его сады, жена, чье ласковое имя будило в нем печаль и тревогу, сын, вихрастый шалун и непоседа. Впереди, освещенные отблесками пожара, лежали большие участки саженцев выращенных им сортов яблонь. Перенесенные в колхозные усадьбы, через несколько лет они стали бы плодоносить. Сергей Величко в ту ночь понял, что фашистское нашествие не только уничтожает уже совершенный труд народа, но угрожает уничтожением всему, что народ и каждый человек могут совершить в будущем.
На рассвете вражеские танки возобновили атаку. Они выползли из-за холмов на участки саженцев. Тоненькие, молодые деревца гибли под гусеницами, оставались лежать в колее, напоминавшей бесконечный складень, вдавленные в землю, как будто препарированные для гербария.
Величко ничего не видел перед собой. Он стал протирать триплекс рукавом гимнастерки, но лучше ему было бы вытереть слезы, застилавшие глаза. Танкисты встретили вражеские машины огнем. Грохот боя разбудил охваченного смертной тоской вчерашнего садовода. Он взял себя в руки вовремя: снарядом заклинило башню его танка, пушка вышла из строя, а гитлеровцы были уже совсем близко от их засады. Сергей Величко приказал механику-водителю пускать мотор. Он еще не знал, что пойдет на таран, за него действовали сложные человеческие чувств, из которых он громче других слушал одно... Ему на мгновение показалось, что ослепительно отполированная гусеница гитлеровского танка, который двигался навстречу ему через саженцы, подминает под себя не молоденькое, едва развившееся деревцо, а что это хрупкое тельце его Сережи хрустнуло в страшной тишине, внезапно наступившей в мире.
.— Газу!—закричал он механику-водителю. — Давай газу, сержант!
Сергей Величко, раздавивший корпусом своей машины вражеский танк вместе с экипажем, с этого времени и стал настоящим солдатом. Отходя на новый рубеж, он остановил свой танк у полуразрушенного дома. Стекла были выбиты, потолок упал. Кусок еще горячего железа лежал в кроватке сына. Он снял со стены карточку, на которой Сережа был снят вместе с Лизой, и прикрепил ее перед собой в танке.
О чем было толковать? Теперь он жил только войной. Он жил в ней спокойно и уверенно, слеза — даже слеза ярости не застилала больше его глаз. Иногда только, на привале в придорожной деревеньке, он подолгу мог стоять у какой-нибудь захудалой яблоньки, трогать ее ветки почти неслышными прикосновениями пальцев, снимать с листьев каких-то жучков и долго рассматривать их, держа на ладони.
Он был уже лучшим командиром роты в бригаде, когда в жестоком бою на Дону летом незабываемого сорок второго года гитлеровцы подбили его танк. Ночь спустилась мгновенно и укутала мягкой мглой холмы. Величко рассчитывал в темноте исправить гусеницу и пробиться с машиной к своим. Танк стоял на высотке, тут же, где его настиг снаряд. Фашисты ползли на высотку, осыпая танкистов горячим ливнем свинца и забрасывая гранатами. Величко со своим экипажем закрылся в танке. К рассвету все боеприпасы были израсходованы. Гитлеровцы стучали прикладами в броню и кричали: «Сдавайся, рус!». Сергей Величко радировал: «Всем, всем! Танк окружен. Отбиваться нечем. Умираем, но не сдаемся!» — затем он перечислил имена танкистов, бывших с ним в машине, и затянул свою любимую песню.
Гитлеровцы втолкнули в ствол пушки гранату, она разорвалась в казенной части орудия. Когда утром наши войска отбили гряду придонских холмов, из танка вытащили мертвых бойцов и чудом уцелевшего Сергея Величко. В госпитале танкиста, как говорят на войне, заново сшили из лоскутков. Врачи бились над ним около года. Когда Величко выписался из госпиталя, он был совершенно здоров, только шрамы от многочисленных ранений свидетельствовали о том, что перенес этот могучий человек. Что сыграло решающую роль в победе над смертью — искусство врачей или воля к жизни, не побежденная страданием, — сказать трудно. Еще в госпитале, задолго до полного выздоровления, Величко начал заново учиться. Война требовала знаний, и, хотя это были не совсем привычные для бывшего садовода знания, он овладевал ими с помощью книг и опытных командиров, которые находились вместе с ним на излечении.
...Дорога окончилась. Танки остановились в небольшой рощице. Воспоминания улетели, улеглись на дне души, как улеглась пыль, поднятая на дороге танками. Жизнь была неотложным делом. У капитана Величко на руках было много машин и живых людей.
Дыхание боя чувствовалось здесь уже совсем близко. Над горизонтом вздымались черные фонтаны земли, смешанной с клубами дыма разных оттенков, от темно-лилового до светло-серого и даже розового и голубого. Над рощей все время кружились самолеты. С одной стороны, у горизонта, наши самолеты штурмовали колонны наступающих вражеских танков; с другой — гитлеровские бомбардировщики пытались смять наш передний край; в центре небосвода, оглушительно воя на крутых виражах, наши истребители вели бой с «мессершмиттами»; фашистские летчики опускались на парашютах, их игрушечные фигурки нелепо болтали ногами и были похожи на картонных паяцев, двигающихся на нитке; сторонкой, ныряя в ослепительно белых кучевых облаках, пробирались через линию фронта в ту и другую сторону звенья тяжелогруженых бомбардировщиков, непрерывно били зенитки, трещали счетверенные пулеметы, раздавалось звонкое тявканье нацеленных по самолетам противотанковых ружей... Мимо рощи, по дороге в тыл, шли легкораненые, этот вернейший барометр боя. Они отмахивались от расспросов о ранениях, зато охотно рассказывали о том, что происходит на переднем крае. Они совсем не были похожи на тревожных раненых первого года войны. Танков они не боялись, об окружении говорили презрительно: они сами этой зимой окружали гитлеровцев. Новый вражеский танк, именуемый «тигром», они называли «лампой на колесах», потому что он горел не хуже других гитлеровских танков.
- Вы не сомневайтесь, товарищ капитан, — весело улыбаясь, рассказывал пожилой усатый гвардеец, раненный в правую руку выше локтя, — горят, как проклятые!.. И от бронебойки горят, и от снаряда горят, а бутылкою подпалишь, тоже горят... Аж чад стоит!
- Только много еще у Гитлера танков и авиация дуже бомбит,— прощаясь, сказали раненые, но капитан Величко и сам отлично знал об этом.
Его не смущало большое количество вражеских танков и то, что авиация «дуже бомбит», потому что из слов раненых и по самому виду их он почувствовал, что перед ним только что прошли бойцы новой, родившейся в жесточайших испытаниях армии, люди нового закала, веселые, задорные, презирающие смерть и уверенные в победе солдаты.
Весь день и часть следующей ночи батальон стоял в роще. Боевой приказ был получен за полночь. Предстояло контратаковать гитлеровцев и выбить их из деревеньки, рассыпавшейся по косогору в нескольких километрах от шоссе.
Сама по себе деревенька эта не имела никакого значения. Было в ней не больше двадцати дворов, и жители ушли из нее, как только поблизости начались бои. Но то, что она была ближе к шоссе, чем все другие деревеньки, захваченные врагом, делало ее сейчас особо важной. Во всех вышестоящих штабах
она была отмечена на картах особыми значками. К ней подтягивались войска, на карте они выглядели цветными полукружиями, квадратами и стрелами, а в действительности это были живые люди, располагавшиеся со своим оружием в рощицах, оврагах и чистом поле; это было великое множество людей, направляемых единой разумной волей, и среди этого множества пехотинцев, артиллеристов, минеров в одной из многочисленных рощиц, отмеченных на карте зеленой краской, находился капитан Величко со своими танкистами. И хотя он не мог охватить всей широты событий, происходивших на фронте, так как взгляд его был прикован к одному только участку и к одной только задаче, однако он понимал, чувствовал эту свою задачу как самую главную. Действительно, на его долю, точно так же, как и на долю всех остальных войсковых начальников и рядовых бойцов, большим полукружием стоявших вокруг деревеньки, выпала в этот день главная задача, состоявшая в том, чтоб вышибить гитлеровцев из деревеньки, не допустить до шоссе и отбросить как можно дальше от цели, которую они себе поставили.
Разумная воля, собравшая сюда столько людей и столько разного оружия, делала это все не ради какой-то деревеньки, которую ничего не стоило разрушить и снова выстроить, не ради шестиметровой полосы земли, засыпанной щебнем и называемой шоссе, а ради других, высших целей, которые так же хорошо были известны капитану Величко, как и многим тысячам других командиров и солдат. Капитан Величко чувствовал себя частью этих грозных сил, чувствовал на себе разумную руководящую волю, и ему было легко и радостно выполнять свою задачу именно потому, что она была огромной и трудной...
Чем ближе подходил час, назначенный командованием для штурма вражеских позиций у деревеньки, тем спокойнее становился капитан. Он присматривался к лицам своих танкистов, прислушивался к их разговорам, и постепенно им овладевало убеждение, что эти люди, которых он знал всего лишь один день, мыслят и чувствуют точно так же, как он, что каждый из них — командиры рот и взводов, водители и башенные стрелки и все другие — понимает свою задачу как самую главную, как бы узка и маловажна на первый взгляд она ни была.
В назначенное время, когда танки пошли в атаку, капитан Величко не сомневался в победе, как, впрочем, не сомневался он в ней никогда. Но в отличие от прошлых боев, когда он верил в победу, сегодня капитан Сергей Величко твердо знал, что победа будет, потому что ей невозможно не быть, коль скоро родилась и созрела для победы такая армия, какую он узнал и почувствовал перед нынешним сражением.
После артиллерийской подготовки танки капитана Величко прошли через боевые порядки нашей пехоты и ринулись на штурм вражеских позиций. Пехота вышла из окопов и пошла за танками под страшным огнем гитлеровских пушек и минометов, под ливнем пуль, под ударами с земли и с воздуха.
Были минуты, когда солнце, уже высоко поднявшееся в небе, окутывалось мглой, будто в неурочный час на землю возвращались сумерки, но ветер разгонял пелену туч, и солнце, словно и оно участвовало в битве, яростно ослепляло вражеских артиллеристов, как будто хотело выжечь их глаза.
Да, в это утро, несмотря на огонь пушек, несмотря на то, что навстречу нашим танкам вышли «тигры», победа шла в наших рядах, и жаркий ветер боя развевал ее огненные волосы... Капитан Величко, выглянув из танка, почувствовал у своего лица дыхание победы, он увидел, как из-за холмов в деревеньку врывается рота танков, которую он послал в обход.
— Газу! — крикнул капитан Величко, снова ныряя в машину.— Давай газу, сержант!
В это мгновение снаряд угодил в гусеницу танка, танк развернуло на ходу, поставило боком к противнику, и второй снаряд разорвался в его бензобаках. Пламя вспыхнуло, как шаровая молния. Горящие танкисты один за другим выпрыгнули из машины. Чувствуя, что сейчас начнут взрываться снаряды в танке, Величко лег на землю и сразу же услышал грохот и треск над головой. Поднявшись с земли, он увидел, что пехота, шедшая за танками, лежит на земле, так как не только его танк, но и несколько других стоят, подбитые вражескими снарядами... Победа ускользала. До деревеньки было не больше трехсот метров. Нужен был последний бросок, чтобы завершить исход боя...
Пехотинцы, лежавшие за танками, увидели вдруг, как с земли поднялся горящий человек, повернулся к ним лищ>м и, подняв над головой автомат, прокричал что-то. Они не сразу поняли, что кричит горящий человек, но зато они увидели, как он повернул в сторону гитлеровцев и двинулся вперед, весь охваченный пламенем.
Бой как бы затих в это мгновение, которому суждено было стать решающим мгновением дня. Сотни глаз, смотревших на горевшего танкиста, словно зажглись от его пламени; люди легко отрывались от земли, танкисты выпрыгивали из подбитых танков и, охваченные восторгом и яростью, под железным ливнем бежали вперед и вперед, словно пылающая душа штурма встала в строй и вела их по полю, вспаханному железными лемехами войны...
Деревенька была взята, потому что каждый выполнил свою задачу — маленькую задачу величайшей важности, верно понятую капитаном Величко и всеми, кто был в этом бою. Капитан Сергей Илларионович Величко жив, пехотинцы, накрыв его своими телами, потушили огонь. Он находится в госпитале и скоро вернется в строй.

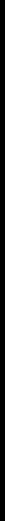 В. ВИШНЕВСКИЙ
В. ВИШНЕВСКИЙГОРОД ЛЕНИНА
Ленинград — дорогое, близкое для миллионов и миллионов людей имя. Это великий город. Его история полна благородной, жертвенной и победоносной борьбы за честь, свободу и славу России, за прогресс, за самые высокие и светлые идеалы...
Город Ленина!.. II съезд Советов СССР выразил единую мысль, единую волю представителей всех народов нашей страны — навеки скрепить и освятить связь Ленина, создателя советского государства, с городом, который вошел в века как колыбель Октябрьской революции. Это решение было принято в январские дни 1924 года, в памятные студеные дни, когда народ в великой, невыразимой скорби провожал Ильича в последний его путь.
Ленинской традицией проникнуты история, дух, деяния, борьба, все существование города. Здесь, где прозвучали призывы и выстрелы декабристов, здесь, где возник «Северный союз русских рабочих», здесь, где создались первые в России марксистские кружки, здесь, где прозвучали первые пролетарские боевые песни маевок,— здесь Ленин вошел в рабочую народную массу, закладывая основы великой партии коммунистов.
Город бережно хранит каждый след деятельности Ленина, протекавшей на заводах, в аудиториях, на площадях, в казар-мах, в Смольном, в скромных квартирах... Один из вражеских снарядов пробил стену здания, где Ленин выступал с Апрельскими тезисами, где висит мраморная мемориальная доска. Святотатственный удар вражеской батареи был отмщен сурово. Повреждения же ленинградцы заделали быстро, тщательно, бережно... Людям угрожала опасность, но они думали только об одном: ленинское место, место, где прозвучала программа, указавшая народу великий путь, должно быть сохраняемо нерушимо. Рвались со скрежетом и ревом тяжелые фугасные снаряды. Шатались стены, прогибались мостки и лестницы, выплескивался из ведер известковый раствор, но люди не обращали на это внимания. Святыни города оберегали граждане-бойцы, которым выпали в жизни честь, счастье быть ленинградцами.
...Какую силу, чудодейственную силу имеет эта ленинградская традиция! В тяжелых боях, в трудных походах и разведках, когда у истощенных людей, казалось, уходили последние силы, раздавались слова об Ильиче, о нашем Ленине... И бойцы поднимали усталые головы.
Памятен такой случай. Дело было на льду Ладоги, весной... Вода стояла уже на полметра, и машины, доставлявшие грузы для блокированного города, шли, как корабли, выбрасывая пенные буруны... Лед трещал. Противник выслеживал машины и бомбил. В полыньях, воронках бесследно пропадали тяжелые машины. Было трудно, очень трудно... И вот в группе остановившихся людей один старый питерец заговорил о городе, который ждет помощи, хлеба, патронов, снарядов... «Нам трудно?.. Лед трещит?.. Тонут некоторые... А идти мы обязаны... В 1907 году вот так же Ленин по льдинам ходил...» — «Ленин?» — «Он!.. С ним царское правительство хотело расправиться. По решению партии Ленин должен был переехать за границу. Пробирался он через финскую границу, обходил кордоны, заставы. Вышел к морю, к кромке льда, где ждал его пароход».— «Дошел, значит...» — «Дошел... со льдины на льдину...».
Люди поднялись, тронулись вперед, со льдины на льдину.
Тридцать один месяц дерется Ленинград с гитлеровцами, с разным фашистским отребьем: с маннергеймовцами, с «голубыми» испанцами, с квислинговскими и муссертовскими легионерами... Да кого только не перебывало здесь, в блокадном окопном поясе под Ленинградом! Каких только врагов ни били защитники Ленинграда!..
Ленинград крут с врагами. В этом он последовательно проводит ленинскую традицию. Удары Ленинграда нанесли гитлеровцам тяжелейшие потери. Сотни тысяч гитлеровцев перебиты и перекалечены под Ленинградом. В землю и на дно Балтики ленинградцы вогнали тысячи вражеских самолетов.
Попытка сунуться к Кронштадту и вообще действовать против Краснознаменного Балтфлота обошлась врагу в несколько сотен кораблей — от крейсеров до катеров и десантных барж — и много торговых судов с военным грузом.
Ленинград дрался яростно, вдохновенно и необыкновенно продуманно. Ленинград очень глубоко помнил ленинский призыв 1918 года: «Товарищи! Почтим же память октябрьских борцов тем, что перед их памятником дадим себе клятву идти по их следам, подражать их бесстрашию, их героизму».
Сам Ленин в городе, который по праву получил от народа имя в честь и память Ленина, показал примеры стойкости, бесстрашия и героизма... Здесь Ленин вел упорную работу, даже будучи заключен, замурован в одиночку. Здесь Ленин был в гуще борьбы и схваток 1905—1907 годов... Здесь Ленин был в 1917—1918 годах в гуще масс, в огне, закалившем Россию, как сталь. Здесь, в этом городе, Ленин напутствовал первые эшелоны социалистической армии. Здесь, в этом городе, будто и по сей день слышно эхо слов, прожигающих душу... Слова эти стали заповедью для ленинградцев, для всех советских людей. Вы помните эти слова... Ленин призывал проникнуться в борьбе презрением к смерти. И он сам презирал ее, оставаясь невозмутимым и непоколебимым в самые критические моменты.
Вот эта ленинская решимость, твердость, ясность духа во время трудных испытаний и отличала Ленинград все эти. 31 месяц нынешней борьбы — борьбы, которая велась городом «глаза в глаза с врагом», страшной хваткой, вплотную.
Были дни непередаваемого напряжения... В окопы пошли 50-летние и 60-летние питерцы, помнившие Ленина лично. Они шли с винтовками в руках и с напоминанием о том, что такое город Ленина. Будто живой 1905 год, живой Октябрь вставал перед полками и дивизиями. Старики рассказывали о том, что значит город для России, для мира. Старики приводили молодых бойцов к местам, где выступал Ленин, к его памятнику —-броневику и объясняли, в душу вкладывали такие слова о нашем деле, нашей партии, которые двигали на подвиг. Старики говорили, сняв шапки,— и вся кровь, пролитая в Петербурге, кровь декабристов, и кровь обуховцев, и кровь Октября проступала из земли и вопияла призывом к бою и к стойкости, которой еще не знал мир.
И люди шли в бой. Я помню клятву одной дивизии. Потрясенные призывом рабочих Кировского завода, бойцы дивизии заявили: «В вашем страстном призыве отстоять Ленинград и, как бешеных собак, истреблять фашистские орды на подступах к любимому городу мы слышим наказ всех рабочих Ленинграда, наказ партии, наказ всего советского народа... Дорогие наши отцы, братья, товарищи!.. В вашем лице даем клятву всему советскому народу, что, пока бьется наше сердце, пока кровь струится в жилах, мы будем сражаться за нашу землю, честь и свободу...»
А как сражаются ленинградцы, об этом знает весь мир. Они остановили гитлеровский вал. Они выдержали то, что на всем протяжении человеческой истории не выпадало на долю ни одного осажденного города. Мало того: они сумели напряжением ума и воли из осажденных превратиться в осаждающих — и вот гремят залпы уже за Красным Селом, за Ропшей, за Мгой! 28 месяцев просидели гитлеровцы под Ленинградом и ничего, кроме вида на купол Исаакия, им не досталось. Теперь пропал для них и этот вид, ибо на красносельских высотах — наше алое знамя, знамя Ленина!.. Еще недавно ходил по гитлеровской армии и в тылу злой анекдот: «Фюрер приказал объявить тотальную мобилизацию стульев».— «В чем дело?» — «Стулья посылают в армию фельдмаршала Кюхлера. Она два года стоит под Ленинградом. Пусть присядут...» Нет, и присесть не дадим! Будем гнать — и не по горизонтали, а по вертикали, в землю, вгоняя свинец в фашистские затылки, спины, лопатки и хребты!
У Ленинграда огромный счет к гитлеровцам, и Ленинград его начал сводить и сведет до конца, ибо людьми города, его бойцами движет такая сила, такая ненависть, такая решимость, против которых ни одно вражеское средство недостаточно.
Как тугая пружина, накапливались месяц за месяцем силы и гнев Ленинграда. Фашисты полагали поначалу, что у этого города мало обученных и оснащенных бойцов, что город не успеет вооружиться, что подступы к городу с юга открыты. Об этом они писали даже в своих военных учебниках.
Они только не записали, что с юга и севера, с востока и запада, с неба и из-под воды город был защищен ленинской традицией, ленинским большевистским духом.
На болотные низины осенью 1941 года вышел миллион ленинградцев. Рабочий копал землю рядом с академиком, артистом, писателем, студентом... Под дождем и под обстрелом этот миллион ленинградцев создавал линию обороны, которая оказалась несокрушимой. О, как работали эти люди, несшие в сердце своем пламя, горевшее и в сердце Ленина!
Вот этого гитлеровцы не предвидели, не понимали, да и до сих пор не понимают. «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить...» И что мог тупой фашистский лазутчик или сапер сказать о наших болотах? О наших лесах? «Сдесь русским нитшево сделать невозмошно...»
О, это люди Ленинграда, которые умели не только создавать оборону, но и учиться в вузах, несмотря на 11 воздушных тревог в день!.. Видели бы вы ленинградских студентов и студенток медвузов, которые ни на один день за 31 месяц не прервали занятий и были вместе с тем и санитарами, и дровосеками, и бойцами, и огородниками, и агитаторами... Это у них в аудитории вуза и висит мраморная ленинская доска...
Никогда еще за всю историю свою — буквально с дней первой петровской верфи, первого петровского кирпичного завода—ленинградская индустрия не знала такой интенсивности, мобильности, как в годы Отечественной войны. Развив огромный напор, непрерывно изобретая, комбинируя, Ленинград гордится тем, что в тяжкие дни 1941 года он сумел помочь оружием и Москве.
Что помогло в этом сложном деле развития промышленности под огнем и под бомбежками? Ленинский дух, новаторская питерская страсть, творческое упорство и огромное душевное здоровье. Основа, внутренний стиль наших людей — оптимизм, принесенный величайшим оптимистом, человеком небывалой светлой энергии — Лениным.
