Денисов Ордена Ленина типографии газеты «Правда» имени И. В. Сталина, Москва, ул. «Правды», 24 предисловие вэтой книге собраны очерки и рассказ
| Вид материала | Рассказ |
СодержаниеА. ростков В. кожевников В. вишневский |
- Писателя Рувима Исаевича Фраермана читатели знают благодаря его книге "Дикая собака, 70.52kb.
- Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук, 251.13kb.
- Имени Н. И. Лобачевского, 608.68kb.
- Высшее военно-морское инженерное ордена ленина училище имени, 2642.89kb.
- И. А. Муромов введение вэтой книге рассказ, 11923.67kb.
- Правда Ярославичей". Хранители правды, 144.68kb.
- Разработка комплексной асу технологическим процессом производства изделий электронной, 36.71kb.
- Время собирать камни. Аксаковские места Публикуется по: В. Солоухин "Время собирать, 765.53kb.
- Из зачетной ведомости, 78.76kb.
- Леонид Борисович Вишняцкий Человек в лабиринте эволюции «Человек в лабиринте эволюции»:, 1510.87kb.
Желтой извилистой лентой суглинка пролегает Бендерский шлях. Он был свидетелем многих военных походов. По этому пути врат не однажды вторгался в пределы нашей Отчизны и каждый раз, подвергнувшись разгрому, должен был бежать. Бендерский шлях — живая страница истории. многовековой славы русского оружия. Здесь, у стен Тирасполя и Кишинева, по улицам этих городов вихрем проносились запорожские казачьи сотни, выметая иноземных поработителей. По Бендерскому шляху убегал с изменником Мазепой Карл XII, разбитый войсками Петра под Полтавой. У бастионов Бендер-ской и Измаильской крепостей сверкала шпага Суворова.
Народ свято хранит память о доблестных витязях и полководцах своего Отечества. В здешних местах много сел, хуторов и курганов до сих пор носит знакомые, славные имена. Мы проехали хутор Наливайко, названный так в честь народного героя, борца за свободную Украину; старожилы показали нам курган, носящий имя Суворова.
И снова здесь, на Бендерском шляхе, прогремела слава русского оружия. Враг, вторгшийся в пределы нашей Родины, получил смертельные раны и выброшен за Днестр. Бендерский шлях стал дорогой смерти вражеских войск. На широком большаке, в хуторах и селах остались тысячи брошенных автомашин, повозо'К, масса вооружения и боеприпасов. Железные дороги Раздельная — Котовск, Одесса — Тирасполь сплошь забиты вражескими эшелонами с военными и промышленными грузами, с танками и автомашинами, и когда смотришь на этот победный путь советских войск, когда видишь воочию огромные потери гитлеровской армии, в памяти встает Сталинградская битва. Вот такая же дорога шла к Дону и за Дон, как сейчас к Днестру.
Нынешние бои на Бендерском шляхе ожесточенны и кровопролитны. Об этом свидетельствует и сама земля. Изрытые окопами и разрывами снарядов, устланные вражескими трупами поля, загроможденные брошенной техникой дороги —вся эта картина молчаливо напоминает об итоге битвы за крупнейший город на Днестре — Тирасполь.
Особенно стремительный разгром противника начался после прорыва его обороны на реке Кучурган и гористых перекатах по цепи населенных пунктов, в центре которых стоял основной опорный узел вражеского сопротивления — село Гребенники. Дорога здесь усеяна брошенной военной техникой фашистов.
Тирасполь мы увидели издали. Над ним поднимались клубы дыма. Догорали лучшие здания и предприятия города-Жители Тирасполя со слезами рассказывают о диком произволе, который творили оккупанты.
...На переднем перекрестке улицы юго-западной окраины Тирасполя бойкая регулировщица указала путь к Днестру, На его берегах шли бои.
Тираспольские дивизии на плечах бегущего врага достигли Днестра по Бендерскому шляху. С правой стороны от дороги гвардейская часть вырвалась к двум переправам через Днестр и захватила их, укрепившись на западном берегу. Вражеские войска, находившиеся еще на восточном берегу, были отброшены от переправ, прижаты к реке и частью уничтожены, частью взяты в плен. Наши бойцы, вышедшие на Днестр, освободили в прибрежном селе Парканы сотни советских граждан, согнанных сюда для отправки в фашистское рабство.
С левой стороны от Бендерского шляха к Днестру вышли другие наши части. Они подтянули переправочные средства— резиновые лодки и понтоны — и ночью форсировали Днестр.
Саперы лейтенанта Клочко навели переправы. Вскоре на- ши пехотинцы с пулеметами, легкими минометами и пушками без потерь достигли правого берега. Вражеское командование, учитывая создавшуюся для него опасность, двинуло на этот участок резервы. Враг три раза бросался в яростные контратаки, пытаясь любой ценой ликвидировать наш плацдарм на западном берегу и сбросить советские войска в Днестр. Но эти контратаки остались безрезультатными. Советские воины крепко уцепились за днестровскую землю и продолжали прочно удерживать захваченный плацдарм.
А. РОСТКОВ
В РОДНОЙ СЕМЬЕ
За Днестром дорога круто поднимается в гору. Разбрызгивая в стороны мелкие камешки гравия, машина то круто взбирается на подъем, то стремительно падает вниз. Перевалив через несколько холмов, машина вползла на большую высоту. Зачарованные прекрасным видом, мы остановились. Впереди простиралась огромная долина. Потонувшая в зелени буйно вздымавшихся трав, в цветении садов и парков, в солнечном сиянии белых и красных зданий, долина была видна вся на десятки километров. У горизонта виднелись горы. Их снежные вершины, оттеняемые темной кромкой леса и синим небом, казались голубыми. Это были Карпаты...
Памятные места, знакомые дороги!.. Мы шли по ним в июне 1941 года. Мы шли тогда на восток. Каждый километр, пройденный на восток, от синих Карпат, с болью отдавался в сердце. Обнимая зреющую пшеницу, взращенную нами, мы плакали бессильными слезами. Но с каждым шагом назад мы мужали, становились взрослее. Нам было трудно, очень трудно. И все-таки где-то в глубине души, в самом потаенном ее уголке теплилось, не угасая, драгоценное чувство: придет наш день, и мы вернемся сюда.
И вот мы вернулись...
Машина, набирая скорость, мчится к Карпатам, к реке Прут. Через полчаса меня радушно встречают танкисты-гвардейцы. Я приехал в родную часть — в Первую Гвардейскую танковую бригаду. Полностью она теперь называется так: Первая Гвардейская Чертковская ордена Ленина Краснознаменная ордена Богдана Хмельницкого танковая бригада.
В простой деревенской хате штаб. Знакомые, чуть изменившиеся лица. Вот гвардии подполковник Ружин. Он прошел с бригадой весь ее путь и стал начальником политотдела. Вот начальник оперативной части штаба гвардии майор Василев-ский, тоже старожил бригады, начавший войну лейтенантом. Гвардии капитаны Серков и Гендлер служили до войны в Прикарпатье рядовыми. Один из старейших политработников части, гвардии майор Боровицкий, перевязан. Из-под бинтов видны только карие живые глаза. Он выполнял недавно на танке особое задание и был ранен в голову и спину.
— Не люблю лечиться в госпитале, лучше дома отсижусь,— говорит он.
Домом все они называют бригаду. И это звучит искренне и просто. Выбыв из строя по ранению, танкисты прилагают все усилия, чтобы вернуться в свой родной дом. Целый год разыскивал своих гвардейцев старшина Кухарев, один из ветеранов части, и все-таки добился своего — отыскал танкистов. День его возвращения был для всех праздником.
— Живы еще наши старики, есть еще порох в пороховницах,— шутили гвардейцы.
Год назад после долгого отсутствия прибыл в бригаду всеобщий любимец Богданыч. Так все здесь зовут гвардии подполковника Алексея Васильевича Богданова, старого питерского рабочего, участника гражданской войны. Ему предлагали более высокую должность в другой части, но он наотрез отказался.
— Всю войну с хлопцами прошел и вдруг, на тебе, уходи, старый хрыч! — обиженно ворчал Богданыч.— Никуда я от них не уйду! — И настоял-таки старина на своем. Когда единственный его сын погиб на фронте, Богданыч, пожилой, грузный человек, не раз смотревший в глаза смерти, плакал, как
ребенок. Все утешали его, ибо было это не только его горем, но и горем всех, с кем он жил и работал.
В одном из батальонов встретился мне старший сержант с гвардейским знаком на груди, с погонами с голубым кантом. Знакомое лицо, приподнятое, больше чем радостное настроение.
— Иван Маренич,— отрекомендовался он.
И я вспомнил, что это тот самый Маренич, который был под Москвой механиком-водителем в славном экипаже гвардейца Шестоперов а.
- А почему погоны авиационные?
- А я только что прибыл сюда. Врачи после ранения признали ограниченно годным и послали в тыл, на аэродром. Заскучал я. Думаю, неужели не удастся попасть к своим? Стал хлопотать и вот добился.
Лицо его сияет. Он рад, он не может даже по-настоящему выразить, как рад, что вернулся в родную семью, к боевым друзьям. Понять его может только тот, кто долго служил в одной части, с кем вместе лежал он в снегах Подмосковья, с кем вместе ходил в атаку, с кем в трудную минуту делил пополам и горе и радость.
В бригаду приходит много писем из разных уголков страны. Пишут гвардейцы, ставшие инвалидами, пишут жены и матери погибших. Они сообщают о своей жизни, о мелочах домашнего быта, о дорогом и близком. Еще зимой 1941 года погиб под Москвой танкист Дмитрий Лавриненко, на счету которого 52 уничтоженных вражеских танка, а его мать и сейчас переписывается с гвардейцами. Трогательные материнские письма, обращенные к незнакомым, но бесконечно родным людям, напоминают о том, что матери ждут от воинов победы, что за ними следит внимательным оком великая мать — Родина.
Часто к гвардейцам приезжают гости. Это те, кто служил здесь, кто начинал свою боевую жизнь под Москвой, в снегах Калининской области или на Курской дуге. Бригада вырастила много волевых, храбрых офицеров. Одни из них командуют бригадами и полками, другие работают в штабах, третьи учатся в академиях. Полковники Деревянкин, Никитин, Дынер, Столярчук, подполковники Загудаев, Гусев, Боярский, Иофис, Былинский — все это воспитанники бригады. Зимой в боях за родную Украину погиб один из лучших танкистов армии, человек огромной задушевности и бесстрашия, Герой Советского Союза Александр Бурда. И когда заходит речь о ветеранах, о воспитанниках, о Бурде говорят не иначе, как о родном и живущем.
Из этой же части вышел первый среди танкистов дважды Герой Советского Союза Иван Бойко. Сейчас он командует соседней бригадой. Я видел, с какой любовью и вниманием он встречал офицеров Первой танковой. Он встретил их, как братьев, усадил возле себя и стал расспрашивать, какие новости у них, а потом задумался и сказал:
— Давненько я ушел от вас, а все-таки помню и люблю.
И это, пожалуй, самая высокая оценка воинскому коллективу.
В штабной хате нас встретил командир бригады Герой Советского Союза гвардии полковник Горелов. Он был одет в простой пропыленный комбинезон и походил на инженера-строителя. Рослый, сильный мужчина с большими проницательными глазами, он стал оживленно рассказывать о людях бригады. В его рассказах фигурируют не только офицеры, но и рядовые. Людей он знает прекрасно. Бригадой Горелов командует больше полутора лет, и все ее успехи этого времени связаны с его именем. Кроме Золотой звезды Героя, на его широкой груди два ордена Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды.
За ужином комбриг заводит любимый разговор о литературе. Глаза его теплеют. Вполголоса он читает напамять стихи.
Дежурный доложил:
— У провода «Батя».
Все замолкли, внимательно прислушиваясь к телефонному
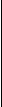 разговору. «Батя» — это генерал М. Е. Катуков, организатор и первый командир бригады. Уже больше двух лет он командует крупным танковым соединением, но Первая Гвардейская — по-прежнему его любимое детище. С гвардейцами он связан, считается членом их семьи. Вот и сейчас он позвонил, чтоб узнать, как идут дела. Занятый большой командирской работой, он успевает внимательно следить, как живут люди бригады. Он запросто принимает гвардейцев, отвечает на их многочисленные письма, заботится о семьях фронтовиков и, строго соблюдая сложившиеся традиции, приезжает к старым боевым товарищам в гости.
разговору. «Батя» — это генерал М. Е. Катуков, организатор и первый командир бригады. Уже больше двух лет он командует крупным танковым соединением, но Первая Гвардейская — по-прежнему его любимое детище. С гвардейцами он связан, считается членом их семьи. Вот и сейчас он позвонил, чтоб узнать, как идут дела. Занятый большой командирской работой, он успевает внимательно следить, как живут люди бригады. Он запросто принимает гвардейцев, отвечает на их многочисленные письма, заботится о семьях фронтовиков и, строго соблюдая сложившиеся традиции, приезжает к старым боевым товарищам в гости.Однажды во время боевой паузы танкистам бригады вручали ордена. Гвардии генерал-полковник танковых войск М. Е. Катуков сердечно поздравил однополчан. Потом объявил: — Кто воевал со мной под Мценском, прошу сюда. Тесный небольшой кружок собрался вокруг Михаила Ефимовича. Мало осталось их, участников битвы осени 1941 года, но на их опыте выросла новая плеяда танкистов. Потом к генералу подходили участники боев под Москвой, на Курской дуге, на Украине. Он угощал их папиросами и расспрашивал, как они живут. И все шире становился круг, все шумнее говор. Редкий танкист не имел ордена. Это была живая диаграмма роста сил, возмужания бригады.
Путь ее длинен, труден и славен, подвиги удивительны. Танкисты-гвардейцы в жестокой борьбе с врагом научились не бояться трудностей, какими бы непреодолимыми они ни казались. Так было в боях под Мценском в октябре 1941 года, когда в течение семи дней бригада сдерживала бешеный натиск механизированных полчищ Гудериана. Так было в боях за Москву, где танковая гвардия шла на самые опасные участки и неизменно побеждала. Так было на Курской дуге, где один гвардейский танк сражался против десятка вражеских.
Не только богатырской силой и смелостью брали города танкисты-гвардейцы. Они брали их сметкой, точным расчетом и хитростью. Когда танки гвардии майора Гавришко подошли к городу Черткову, стало ясно, что в лоб город не взять. Гитлеровцы успели подготовиться к обороне. Тогда возник план ворваться в город с другой стороны. На пути находился большой холм, почти не проходимый для танков. Фашисты считали, что советские танки на этом направлении не пройдут. Но танки Гавришко преодолели крутой холм. Потребовалось большое мастерство водителей и командиров, чтобы выполнить трудную задачу. И гвардейцы ее выполнили.
В политотделе бригады мне показали членский билет комсомольца Александра Дегтярева. Танк гвардейца Дегтярева шел к Черткову первым. Гитлеровцы зажгли цистерну с горючим и оставили ее на мосту, пытаясь тем самым задержать на- ши танки. Перед Дегтяревым встала задача — освободить мост от горящей цистерны, спасти переправу. Буксировать ее нельзя: может загореться танк. Тогда комсомолец решил пойти на риск. Он протаранил цистерну, столкнув ее в воду. Наши танки прошли через мост и неожиданно для врага вошли в город. Затем уже в самом Черткове Дегтярев погиб смертью героя. Его окровавленный комсомольский билет пробит пулей. Умирая, дрожащей рукой он написал на билете: «Погибаю смертью храбрых за счастье Родины 22 марта 1944 г.». Он, любивший жизнь, мечтавший о счастье, писавший нежные письма своей невесте в Саратов, в трудную минуту не дрогнул, по-солдатски просто принял смерть, до последнего вздоха помнил и любил Родину.
Стремительность в наступлении — одна из характерных особенностей тактики танкистов-гвардейцев. За шесть дней нынешнего весеннего наступления они прошли с боями более 300 километров, освободив от оккупантов свыше 250 населенных пунктов, в том числе 12 городов. При этом гвардейцы не только изгоняли врага, но и уничтожали его, не давали ему опомниться. Об этом красноречиво говорят цифры. За время весеннего наступления воины бригады уничтожили до 5 тысяч солдат и офицеров противника, взяли в плен 1 300 гитлеровцев, захватили до 2 тысяч автоматов, 14 железнодорожных эшелонов, до 20 складов с военным имуществом.
Примером умелых действий танкистов служит бой за город Колбмыю. Танки Героя Советского Союза гвардии капитана Владимира Бочковского подошли к Коломые с востока и завязали бой с гитлеровцами на станции. Оставив у станции засаду, Бочковский повел остальные танки на северо-западную и северную окраины, чтобы отрезать противнику путь отхода. Несколько машин стремительно вышло к следующей железнодорожной станции. Тут экипаж гвардейца Телепнева нагнал идущий эшелон и разбил его, остановив таким образом и другие эшелоны. Тем временем танки офицеров Духова и Катаева, обогнув город, на большой скорости подошли к мосту, который был подготовлен к взрыву. Гвардейцы увидели провода, идущие к обрыву, и взрывчатку, подвешенную к пролетам. Бикфордов шнур горел. Танкисты лопатой перерубили шнур и заняли мост. Пути отхода врагу были отрезаны. Наши танки ворвались в город. Перепуганные гитлеровцы оставили в Коломые несколько исправных танков, две батареи, 8 груженых эшелонов, 420 автомашин и много разных складов.
Этой блестящей операцией руководил двадцатидвухлетний офицер Владимир Бочковский.
Многие из гвардейцев, прошедшие с жестокими боями путь от Москвы до Карпат, именно в этих местах в июне 1941 года впервые вступили в борьбу с оккупантами. В архиве бригады сохранился один номер бригадной газеты-многотиражки. Смя-гый, пожелтевший от времени лист, отпечатанный 30 июня 1941 года в предгорьях Карпат, прошел с танкистами по многим фронтам и возвратился примерно к тому месту, где был выпущен в свет. Вот что писали тогда в нем танкисты:
«Мы любим свою Родину так, как любил ее Ленин. Мы ненавидим врагов так, как ненавидел их Ленин. И мы не пожалеем своей крови и жизни в борьбе с врагами.
Старший сержант Бабенко. Красноармеец Скворцов».
«Мы непременно победим. Мы победим потому, что наше дело правое, что нами руководит Коммунистическая партия. Мы победим потому, что живем свободно и счастливо, а свободный — непобедим.
Красноармеец Пастернак».
Это писали простые солдаты, рядовые советские люди. И теперь, когда близок полный разгром врага, танкисты могут сказать: мы победили потому, что с самого начала верили в победу.
В. КОЖЕВНИКОВ
НА БЕРЕГУ ЧЕРНОГО МОРЯ
На каменном спуске севастопольского Приморского бульвара, у самого зеленого моря, опустив в воду босые натруженные, уставшие ноги, сидел запыленный боец. На разостланной шинели его — автомат, пустые расстрелянные диски. Трудно сказать, сколько лет этому солдату: брови его седы от пыли, лицо в сухих морщинах.
Небо над городом еще черно от нерастаявшей тучи дыма — дыхания недавней битвы. У причалов пристаней полузатопленные, пробитые снарядами суда, на которых враг искал спасения в море. Возле причалов лежат трупы гитлеровцев, головы их в воде, и кажется, что они обезглавлены самой черноморской волной.
Но солдат не смотрит на изрешеченные посудины, не смотрит на вражеские трупы,— взор его устремлен в море, словно что-то необыкновенное видит он в его глубине.
— Отдыхаете?
Боец повернулся и тихо сказал:
— Вот, знаете, о чем я сейчас думаю... Пришел я сейчас к самому краешку нашей земли. А позади меня — огромное пространство, и все это пространство я со своей ротой с боями
прошел. И были у нас такие крайности в боях, я так полагал, что выше сделанного человеческим силам совершать больше невозможно. То, как Сталинград отбили, навсегда меркой солдатского духа будет. На всю историю измерение. Я человек спокойный, воевал вдумчиво и с оглядкой, а вот на Сталинградском тракторном здание вроде конторы было, так мы в нем с гитлеровцами дрались без календаря — то мы на верхнем этаже сутки, то они. Когда у меня автомат повредили, я куском доски бился, а когда на меня один фашист лег, я вцепился зубами за руку, в которой он пистолет держал. Прикололи фашиста ребята, а я не могу зубы разжать, судорога меня всего свела.
Когда бои смолкли и наступила в городе тишина, вышли мы на вольный воздух, взглянули на разбитые камни города и вот вдруг эту тишину почувствовали. Только тогда дошло, что мы пережили, что сделали, против какой страшной силы выстояли. От тишины это до нас дошло.
Вот и сейчас от этой тишины я словно заново бой переживаю сегодняшний. Я вас, верно, разговором задерживаю, а рассказать хочется... Закурите трофейную. Верно, табак у них дрянь, копоть во рту одна... Так, если время вам позволяет, я еще доложу. Пришли мы к Сивашу. Это такое море, гнилое и ядовитое. Его вода словно кислотой обувь ест. Очень скверная, извините за грубое слово, вода. Не стынет она, как прочие воды, не мерзнет зимой, все без льда,— ну, яд, словом, и мороз не берет ее. По этой проклятой воде мы вброд под огнем шли в атаку. Тело болело в холоде, ну, хуже, чем от ранения, а шли под огнем, и кто раненый был — тоже шел: знал — упадет, добьет вода,— и только на берегу позволял себе упасть или помереть.
Столкнули мы фашистов с небольшого кусочка земли, и прозвали ее все «Малой землей». А земля эта была неприютная, сырая, даже холод ее не брал, вроде как больная земля, ее соль разъедала, потому она такая. Ну, бомбил он нас, навылет всю эту «Малую землю» простреливал. Страдали мы без воды очень. Гнилой-то ее много было, а вот глоток простой и сладкой, ну, прямо дороже последней закрутки считался.
Соберемся в траншее на ротное партийное собрание — парторг вопрос: как, мол, настроение? Некоторые даже обижались: какое такое может быть настроение, когда мы в Сталинграде были! Я вам правду скажу, мы все очень гордые считаемся, сталинградцы. Так и на «Малой земле» мы все гордились и очень высоко свою марку ставили.
А когда мы с «Малой земли» на Крым ринулись, тут чего было — трудно описать. Какой-нибудь специальный человек — он бы выразил, а я не могу всего доложить. Одним словом, действовали с душой. А на душе одно было — изничтожить гадов, которые в Крыму, как гадюки под камнем, засели. Били в Джанкое, в Симферополе, в Бахчисарае и в прочих населен-ных пунктах. Но сберегли гады себе последнюю точку — вот этот город, где каждый камень совестливый боец целовать готов, потому здесь каждый камень знаменитый.
Мы с ходу позиции заняли у подножия гор. Неловкая позиция. Гитлеровцы на горах, горы эти пушками утыканы, камень весь изрыт, доты, дзоты, траншеи. Доты бетонные. Дзоты под навесными скалами. Траншеи в полный рост. Нам все это командир роты доложил, старший лейтенант Самошин, может, встречали,— три ордена. Спокойный человек, бесстрашный. Заявил он нам так: «Вот глядите, товарищи бойцы, на то, что нам предстоит сделать. Горы эти, конечно, неприступные. А самая главная из них — Сапун-гора, и взять ее — значит войти в Севастополь».
Мы, конечно, сталинградцы, но после Сиваша гордости у нас еще прибавилось. А тут, у гор, мы без задора глядели на крутые скалы и знали, что пройти по ним живому — все равно, что сквозь чугунную струю, когда ее из летки выпускают. Знали, что восемь месяцев высоты эти держали наши люди дорогие, герои наши бессмертные. Ведь враг каждую щель, которую они нарыли, использовал да два года еще строил, население наше сгонял и оставшуюся артиллерию на эти горы со всего Крыма натащил. И опять же, ведь это горы! А мы все в степи дрались, на гладком пространстве. Скребло это все, честно скажу.
А надо командиру ответить. Встал Баранов. Есть такой у нас, очень аккуратный пулеметчик. Когда он тебя огнем прикрывает, идешь в атаку с полным спокойствием, словно отец за спиной стоит. Такое чувствовали все, когда Баранов у пулемета работал.
Выступил этот самый Баранов и сказал: «Я так думаю, товарищи. Те люди наши, которые, до последней возможности своих сил Севастополь защищали, в мысли своей самой последней держали, что придут сюда несколько погодя снова советские люди — и такие придут, которые все могут. Они такую мысль держали, потому что свой народ знали, потому что сами они были такими. Кто чего соображает — я за всех не знаю, но я человек русский. Вот гляжу всем в глаза, и вы мне все в глаза глядите, я сейчас клятву скажу перед теми, которых сейчас нет».
Тут все вскочили и начали говорить без записи. Просто как-то из сердца получилось. Я подробностей всех слов не помню. Знаете, такой момент был, сказал бы командир: «Вперед!» — пошли бы, куда хочешь пошли.
...И боец этот, сидевший у берега моря, зачерпнул горстью воду, солено-горькую воду, отпил ее, не заметив, что она горько-соленая, помолчал, затягиваясь папиросой так, что огонь ее полз, шипя, словно по бикфордову шнуру, и потом вдруг окрепшим голосом продолжал:
— Назначили штурм. Вышли мы на исходные. Рань такая, туман, утро тихое. Солнце чуть еще где-то теплится, тишина, дышать бы только и дышать. Ждем сигнала. Кто автомат трогает, гранаты заряжает. Лица у всех такие, ну, одним словом, понимаете: не всем солнце-то сегодня в полном свете увидеть, а жить-то сейчас, понимаете, как хочется. Сейчас особенно охота жить, когда мы столько земли своей прошли, и чует весь праздник наш человек, чует всем сердцем: он ведь скоро придет, окончательный праздник... А впереди Сапун-гора, и льдинка в сердце входит. Льдинка эта всегда перед атакой в сердце входит и дыхание теснит, И глядим мы в небо, где так хорошо, и вроде оно садом пахнет. Такая привычка у каждого — на небушко взглянуть, словно сладкой воды отпить, когда все в груди стесняет перед атакой.
И тут, понимаете, вдруг словно оно загудело, все небо: сначала так, исподволь, а потом все гуще, словно туча какая-то каменная по нему катилась. Сидим мы в окопах, знаете, такие удивленные, и потом увидели, что это в небе так гудело. Я всякое видел, я в Сталинграде под фашистскими самолетами, лицом в землю уткнувшись, по десять часов лежал. Я знаю, что такое самолеты. Но, поймите, товарищ, это же наши самолеты шли, и столько, сколько я их никогда не видел. Вот как с того времени встала черная туча дыма над гитлеровскими укреплениями, так она еще, видите, до сего часа висит и все не расходится. Это не бомбежка была, это что-то такое невообразимое! А самолеты все идут и идут, конвейером идут. А мы глядим, как на горе камень переворачивается, трескается, раскалывается в пыль, и давно эта самая льдинка холодная под сердцем растаяла, горит сердце, и нет больше терпения ждать.
Командир говорит: «Спокойнее, ребята. Придет время— пойдете»,— и на часы, которые у него на руке, смотрит.
А тут какие такие могут быть часы, когда вся душа горит! Сигнал был, но мы его не слышали, мы его почуяли, душой поняли и поднялись. Но не одни мы, дорогой товарищ, шли. Впереди нас каток катился, из огня каток. То артиллерия наша его выставила. Бежим, кричим и голоса своего не слышим;
Осколки свистят, а мы на них внимания не держим,—это же наш огонь, к нему жмемся, словно он и ранить не имеет права.
Первые траншеи дрались долго. Гранатами мы бились. Пачку проволокой обвяжешь — и в блиндаж. Подносчики нам в мешках гранаты носили. Когда на вторые траншеи пошли, фашист весь оставшийся огонь из уцелевших дотов и дзотов на нас бросил. Но мы пушки с собой тянули на руках в гору. Не знаю, может, четверку коней впрячь — и они бы через минуту из сил выбились, а мы от пушек руки не отрывали, откуда сила бралась! Если бы попросили просто так, для интереса, в другое время хоть метров на пятнадцать по такой крутизне орудие дотащить,— прямо доложу: нет к этому человеческой возможности. А тут ведь подняли до самой высоты, вон они и сейчас стоят там. Из этих пушек мы прямой наводкой чуть не впритык к дзоту били, гасили гнезда. Били, как ломом.
Третья линия у самого гребня высоты была. Нам тогда казалось, что мы бежали к ней тоже полным ходом, но вот теперь, на отдохнувшую голову, скажу: ползли мы, а кто на четвереньках,— ведь гора эта тысяча сто метров высоты, и на каждом метре бой. Под конец одурел враг. Дымом все поднято было, и камни, которые наша артиллерия на вершине горы вверх подняла, казалось нам тогда, висели в небе и упасть не могли, их взрывами все время вверх подбрасывало, словно они не камни, а вроде кустов перекати-поля.
Стали фашисты из окопов выскакивать, из дзотов, из каменных пещер, чтобы бежать. Но мы их достигали. Зубами прямо за камень хватались, на локтях ползли. Как вырвались на вершину Сапун-горы — не помню.
Не знали мы, что такое произошло. Только увидели — внизу лежит небо чистое, а там, впереди, какой-то город красоты необыкновенной и море, как камень, зеленое. Не подумали мы, что это Севастополь, не решались так сразу подумать. Вот только после того, как флаги увидели на концах горы зазубренной, поняли, чего мы достигли. Эти флаги мы заранее на каждую роту подготовили и договорились: кто первый достигнет, тот на вершине горы имеет знаменитое право его поставить. И как увидели мы много флагов на гребне, поняли мы, что не одни мы, не одна наша рота, а много таких и что город этот — не просто так показалось — он и есть Севастополь!
И побежали мы к городу.
Ну, там еще бои были. На Английском кладбище сражались. Серьезно пришлось. Когда окраины города достигли, тут опять немножко остановились. В домах там гитлеровцы нам стали под ногами путаться, но для нас в домах драться — это же наше старое занятие, сталинградское. Накидали мы, как полагается, гранат фашистам в форточки. Которых в переулках, на улицах застигли. Кто желал сдаться — тех миловали.
И когда потом стало вдруг нечего делать, оглянулись мы, и как-то нам все чудно стало. Вроде как это мы и не мы, смотрим и даже радоваться не смеем.
Спрашивают: «Ты жив, Васильчиков?»
Это моя фамилия — Васильчиков, Алексей Леонидович.
«Вроде как да»,— отвечаю, а до самого не доходит, что жив.
Стали город смотреть. И все не верится, что это Севастополь. Кто на исторические места пошел, чтобы убедиться, а я вот сюда, к морю, думал к самому краю подойти, чтобы фактически убедиться. Я эту мысль берег, когда еще на исходных стояли, думал — к самому морю подойду и ногами туда стану. Ну вот ноги помыл и сейчас думаю с вами вслух.
Я, может, сейчас немного не при себе,— после боя все-таки. Говорю вам 'и знаю, что каждому с/шву нужно совесть иметь, а я так без разбору и сыплю, хочу сдержаться и не могу. Может, самое главное, что у меня вот тут, в сердце, есть, я вам и не проговорил как следует. Но вы же сами гору видели, как наша сила истолкла ее всю в порошок. Ехали ведь через нее, по белой пыли у вас вижу, что ехали. Так объясните вы мне,— может, знаете,— где есть еще такое место, которое вот эти сол-даты - они сейчас по улицам ходят, всё на Севастополь удивляются — пройти не смогут!
Я вам и свой и ихний путь объяснил. Есть у меня такая вера, что нет теперь такого места на земле, чтобы мы его насквозь пройти не могли! И решил я сейчас так: как то самое главное, последнее место пройду, сяду на самом последнем краю, все перечту, все припомню, где прошел, как прошел...
Васильчиков помолчал, снова закурил, поглядел на море, потом вытер полой шинели ноги, обулся, встал, поправил на плече ремень автомата и вдруг застенчиво попросил:
— Только вы про меня чего-нибудь особенного не подумайте. Я даже не в первых рядах шел, только иногда выскакивал. Вы бы других послушали, настоящих ребят —есть у нас такие—только разве они будут рассказывать! Это я так вот тут, для разговора, на ветерке посидел, ну, вот, значит, и отдохнул, Счастливо оставаться!
Попрощавшись, Васильчиков поднялся по нагретому солнцем камню набережной и скоро скрылся из глаз в гуще идущих по севастопольской улице таких же, как он, опаленных, покрытых пылью бойцов.
В. ВИШНЕВСКИЙ
ЛЕНИНГРАД — КОЙВИСТО
Ленинград просыпается. Безмятежное, голубое утро. Радио передает сжатые, уверенные, бодрые сводки. Через Выборгскую сторону и Новую Деревню идут машины на фронт — на Карельский перешеек. Сожженные, искалеченные окраины города и алые, взывающие плакаты на маршрутах наступающих войск: «Боец, отомсти врагу за родной Ленинград!», «Родине-матери вернем город Выборг!». Эти напоминания и призывы бьют в глаза на протяжении десятков километров. Они врезаются в память.
