Денисов Ордена Ленина типографии газеты «Правда» имени И. В. Сталина, Москва, ул. «Правды», 24 предисловие вэтой книге собраны очерки и рассказ
| Вид материала | Рассказ |
СодержаниеЯ. макаренко |
- Писателя Рувима Исаевича Фраермана читатели знают благодаря его книге "Дикая собака, 70.52kb.
- Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук, 251.13kb.
- Имени Н. И. Лобачевского, 608.68kb.
- Высшее военно-морское инженерное ордена ленина училище имени, 2642.89kb.
- И. А. Муромов введение вэтой книге рассказ, 11923.67kb.
- Правда Ярославичей". Хранители правды, 144.68kb.
- Разработка комплексной асу технологическим процессом производства изделий электронной, 36.71kb.
- Время собирать камни. Аксаковские места Публикуется по: В. Солоухин "Время собирать, 765.53kb.
- Из зачетной ведомости, 78.76kb.
- Леонид Борисович Вишняцкий Человек в лабиринте эволюции «Человек в лабиринте эволюции»:, 1510.87kb.
 Мы минуем участки шоссе, которые в упор простреливались из Лигова и Петергофа. Балтика сегодня темная, над морем гуляет ветер. Видны форты Кронштадта. В ночь на 17 июня Кронштадт дал последние залпы в спины бегущих оккупантов. Работу крепости подхватили, развили морские подвижные батареи, корабли и балтийская авиация. Час за часом проходят над береговым шоссе клинообразные строи бомбардировщиков, окруженные блистающими «Яками».
Мы минуем участки шоссе, которые в упор простреливались из Лигова и Петергофа. Балтика сегодня темная, над морем гуляет ветер. Видны форты Кронштадта. В ночь на 17 июня Кронштадт дал последние залпы в спины бегущих оккупантов. Работу крепости подхватили, развили морские подвижные батареи, корабли и балтийская авиация. Час за часом проходят над береговым шоссе клинообразные строи бомбардировщиков, окруженные блистающими «Яками».Машина стремительно минует. Сестрорецк. На шоссе движение так отрегулировано, так ритмично, что колонны идут без задержки. Вы убедитесь в этом, пройдя все расстояние до переднего края, до самых подступов к Выборгу. На месте взорванных мостов уже лежат новые, свежие. Саперы наколачивают дощечки с указанием расстояний. Регулировщицы размахивают желтыми и красными флажками. В небе гудят и звенят новые строи бомбардировщиков и «ЯКов»...
Песчаные обрывы, болотная низина, река Сестра. Линия фронта! Она проходила тут с осени 1941 года до 10 июня 1944 года. Тут замкнули кольцо окружения Ленинграда финские наемники Гитлера. Отсюда, с этого рубежа, надеялись они добить, удушить город Ленина. Эта надежда не оставляла их до последних дней. В окопах мы нашли переправочные средства, штурмовые мостики, настилы, запасы проволоки для закрепления на рубежах вплотную к Ленинграду.
Но легко писалось «на бумаге, да забыли про овраги. А в этих оврагах стала артиллерия Ленинградского фронта. Стали «катюши». 10 июня Ленинград, полный решимости, гнева и мести, начал разговор с врагом. Наша машина останавливается. Вот он, передний край вражеских позиций, вернее, бывший передний край. Здесь все серо и черно. Здесь все обуглено, перевернуто, размолото, распылено...
Мои спутники молчат «несколько минут. Мертвый лес, лишенный игл хвои и листьев. Расщепленные доты и дзоты, откуда тянет гарью и смрадом. На километр фронта работало несколько сот орудий, Результат полный, решающий. От переправочных средств у врага осталась только щепа.
По шоссе уже несутся ленинградские грузовики. Девчата, строители. «Куда?» «В Терийоки, Койвисто и дальше. Восстанавливать!» И над предпольем линии Маннергейма льется, льется, ширится песнь, родная, русская... Как хорошо на душе!
Шоссе бежит на запад. Первым ударом ленинградцы так ошеломили захватчиков, что они катились назад с помутневшими глазами. Жандармы и шюцкоры пробовали по лесам собирать рассыпавшиеся дивизии, но это не получалось. Фашисты могли утешать себя тем, что русские прорвали только первую линию их обороны. Вот, дескать, наткнутся на вторую, выстроенную втайне в 1941—1944 годах при помощи рабского труда согнанного населения. Брошенные ими лопаты мы видели сегодня.
Вторая линия обороны. Слов нет, хороша была эта вторая линия! На сотни километров — узкоколейные железнодорожные пути, разгрузочные эстакады, площадки, склады, бетонные заводы, новые укрытые доты, с едва заметными втяжными м вытяжными отверстиями вентиляции, с блестящей маскировкой амбразур. Враг хорошо укрыл свои противотанковые препятствия. Надолбы — гранитные камни, массивные зубья — укрыты. Сами доты запрятаны так, что их определишь не сразу. Их, этих дотов с массивными двухметровыми бетонными стенами, много, очень много. Достаточно сказать, что на второй линии было пять рядов густых проволочных заграждений, пять рядов скрытых надолб.
Наши части так рванули против всей этой системы, что она затрещала «с ходу»... Первая была раскрошена, и ко ©торой линии наши части подошли на второй день наступления. Сказалась трехлетняя суровая выучка, сказался и личный воинский русский порыв.
Вы глядите на людей, которые с боем проходили здесь, преодолевая болота, леса, огонь, рвы, доты, надолбы — все что угодно по многу километров в сутки. На бой и движение уходило по 20 часов, на еду и сон — по 4 часа, а люди свежи, пылки... И вы видите, на что они способны. Море сегодня темное, резких тонов. Балтика, родная! Низкие, тяжелые раскаты несутся над морем. Корабли бьют по острову Койвисто. Зажатый в кольцо, враг отвечает, и высокие белые всплески встают около кораблей. Наступающая пехота зачарованно смотрит на морской бой...
Машины меж тем подбрасывают новые и новые части. Впереди рычат гвардейские минометы. Тягачи тащат тяжелую артиллерию. Танки оставляют глубокие вмятины на шоссе... Воют и несутся грузовые машины. Этот общий поток — в сиянии солнца, в морском ветре, в гуле и громе. На Мурилу, на Койвисто, на Выборг! И алые плакаты взывают к воинам Ленинграда, твердят об одном: вперед, иди вперед стремительно!
Против наступающих соединений, заслуживших уже за быстроту и натиск прозвище кавалерийских, стоят отборные вражеские части — офицерские школы, егерские батальоны, кавалерийские бригады и подразделения кадровых стрелковых дивизий. Здесь наиболее насыщенный войсками противника участок.
Вот ведут пленных, угрюмых, молчаливых. Они ничего не говорят, никому не отвечают. Только один с перебитой рукой твердит: «Катюша», «Катюша». Она действительно вышла на берег крутой и, как говорят в армии, «дала жизни»... Опять перепахали лес... Стучат последние очереди автоматчиков. Ми-
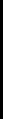 пометная рота сшибла противника. Вперед! Сгибаясь, идут наши стрелки. Вперед! Полураздетые, впереди пехоты орудуют саперы. Они наводят мосты. Автомобильные колонны напирают, ждут, рычит артиллерия... Мы в десяти километрах от города и порта Койвисто... Ведут опять пленных. Они жмутся к обочине и час — два смотрят «а поток тяжелой русской техники.
пометная рота сшибла противника. Вперед! Сгибаясь, идут наши стрелки. Вперед! Полураздетые, впереди пехоты орудуют саперы. Они наводят мосты. Автомобильные колонны напирают, ждут, рычит артиллерия... Мы в десяти километрах от города и порта Койвисто... Ведут опять пленных. Они жмутся к обочине и час — два смотрят «а поток тяжелой русской техники.Враг пробует огрызаться. Полк бывшего балтийского подводника, ныне командира полка тов. Семенова идет ударом на Койвисто. Соседний полк перехватывает пути отступления противника и выходит на дорогу Койвисто — Выборг. Пехота, саперы, минометчики, артиллеристы в запале. Наши самолеты пикируют, взрывы сотрясают остров.
Горячий азарт наступления, удара владеет всеми. С моря гром орудий и едкий дым дымовых завес. В небе кипение зенитного огня... Стрелки и автоматчики врываются в Койвисто. Ага, вот он, Выборгский залив...
Часовые встают у битком набитых имуществом складов. Впереди стрелки-пастухи гонят стада. Гонят взятый табун... Шоссе усеяно бумагами, сумками, оружием, личными вещами... Ведут опять пленных. Они подавлены. На Выборгское шоссе, напрямик, к мосту через реку устремляется передовой отряд.
Опять рычат минометы и четырежды накрывают отступающую смешанную колонну противника.
...Вы знаете, как все это называется?
Это называется: ленинградцы на девятый день наступления •прорвали линию глубоко эшелонированной обороны врага. Сейчас мы одолели линию Маннергейма — правый ее фланг... В зиму 1939—1940 года мы потратили на это три месяца. Вот что это значит.
Пехотинцы прибавляют шаг. У самого берега в порту Койвисто я вижу уже моряков. Улыбки, рукопожатия... Боевые генералы уже в передовых линиях... На бортах танков и бронемашин краской четко, лаконично: «Даешь Выборг!», «Станция назначения — Выборг!» Мы даем газ, объезжаем трупы, разбитые орудия. Вот километровый столб. До Выборга не так уж далеко. Саперы и пехота бросаются в воду. Машины нервно фыркают... Мост готов через час. Опять звенит и гудит авиация и рычат минометы. На рации я слышу: «Елка! Елка! Вы мне очень нужны. Узнай, кто хозяин сети. Прекрати все передачи... Говорю я...»
Сквозь леса по шоссейным дорогам и тропам, через болота идут наступающие части... Они прорвали три укрепленные линии врага. Это идут ленинградцы, это идут советские воины, перед которыми не устоят никакие «валы» и «линии»...
Время уже позднее... Не темнеет... Стоят июньские белые ночи. Войска идут непрерывной чередой... Мы у порога Выборга.
Л. ОГНЕВ
РУКА ОБ РУКУ
— Познакомьтесь! Это человек, которого гитлеровцы боятся так же крепко, как мы его любим. Причем и то и другое чувство вполне обоснованно,— засмеялся генерал.
Из-за стола поднялся партизан в полувоенной форме и назвал себя. Его фамилию отлично знают по обоим берегам Днепра. С любовью и благодарностью вспоминают ее в полках Красной Армии, с любовью и надеждой произносят ее в селах, еще придавленных фашистским сапогом.
Разговор шел о последних операциях крупного партизанского отряда, руководимого тов. Б. Отряд этот действовал в глубинных районах Правобережной Украины, наводя тоску и страх на гарнизон гитлеровцев. Незадолго до этого рейда он блистательным по смелости ударом, нанесенным с западного берега, захватил важную переправу через Днепр и удержал ее до подхода частей Красной Армии.
В героическую историю форсирования Днепра войсками Красной Армии партизанские отряды Украины вписали несколько замечательных страниц. Действуя стремительно и внезапно, они дезорганизовали на некоторых участках вражескую оборону и искусными ходами вышли из глубины к самому берегу Днепра.
Их появление здесь было полной неожиданностью для противника. Не давая гитлеровцам опомниться, партизаны отважно атаковали и сбили вражеские гарнизоны, расположенные з селах по правому берегу реки, захватили переправы на ряде очень важных участков и с боями удерживали их до подхода наших регулярных войск.
Тогда эти бои разрастались до крупных масштабов. Вот чрезвычайно показательная история одной переправы, захваченной партизанскими отрядами, которыми командуют тт. П. и У. Объектом своего главного удара командиры избрали районный центр Н., расположенный на правом берегу реки в непосредственной близости к линии железной дороги и шоссе. Захват этого населенного пункта не только обеспечивал переправу наших войск, но и лишал противника возможности нормально подвозить подкрепления частям, обороняющим правый берег.
Операция предстояла весьма нелегкая. Районный центр Н. оборонялся довольно значительным гарнизоном, имевшим в своем распоряжении пулеметы, минометы, артиллерию. С востока селение прикрывалось рекой, а со всех других сторон подступали заболоченные леса и трясины. Именно отсюда командиры и решили свалиться на голову врага. Здесь можно было с наибольшим эффектом использовать могучее оружие внезапности.
На клич партизан местные жители выделили проводников, знающих все стежки и тропки через раскинувшиеся на десятки верст болота. Они провели бойцов по таким диким местам, что даже видавшие виды партизаны диву давались. В течение двух дней тысячи партизан небольшими группками перебрались через топи и болота, незаметно для противника взяв районный центр в смертельное полукольцо.
Несмотря на неожиданность удара, гитлеровцы сумели оказать сопротивление. Но сила солому ломит. Вражеский гарнизон, окруженный с трех сторон и прижатый к реке, был буквально раздавлен. Только убитыми гитлеровцы потеряли до 80 солдат и офицеров. Партизаны захватили в селе много оружия и боеприпасов, семь складов с продовольствием, ссыпной пункт с хлебом, подготовленным к отправке в Германию.
Затем партизаны приступили к подготовке переправы через реку. Они обшарили оба берега на протяжении нескольких километров и нашли до пятидесяти лодок. Часть из них была неисправна. Но среди бойцов нашлись мастера, хорошо владевшие топором и конопаткой. На болотистом берегу закипела работа, и к вечеру весь лодочный флот был на плаву. Одновременно плотники соорудили из пустых бочек и бревен два парома и несколько понтонов.
А неутомимые партизанские разведчики в это время уже встретились с передовыми отрядами Н-ского стрелкового корпуса, подходившего к восточному берегу реки, и уверенно повели бойцов на запад. Пользуясь подготовленными понтонами, паромами и лодками, соединение быстро форсировало реку, переправив на ту сторону людей, минометы, пушки и даже ротные кухни.
Другой партизанский отряд, которым командует тов. Т., в тот же день захватил переправу через реку в пятнадцати — двадцати километрах ниже по течению и столь же успешно подготовился к встрече регулярных частей Красной Армии. Перерыв между захватом плацдарма и подходом наших полков был столь малым, что гитлеровцы не успели даже вызвать на помощь авиацию, и переправа передовых подразделений протекала без всяких помех со стороны противника.
Третий партизанский отряд, руководимый нашим собеседником тов. Б., действуя южнее, захватил разом три переправы. Несмотря на сумасшедшую ярость врага, тов. Б. удерживал свои позиции в течение четырех дней, ни на шаг не сдвинулся с места и выстоял до подхода частей Н-ского соединения.
Офицеры Красной Армии с уважением и благодарностью отзываются о действиях своих заднепровских помощников.
Вот очень красноречивые цифры. Партизанские отряды Украины захватили в эти дни 10 переправ через Днепр, 14 переправ через Десну и другие реки, удерживали их с боями до подхода регулярных советских войск и обеспечивали своим трудом и оружием форсирование этих водных рубежей.
Но и этим деятельность украинских партизан не ограничилась. Ни на один день, ни на один час они не ослабляли своей «будничной» работы. Они разрушали тыловые коммуникации противника, взрывали склады, истребляли гестаповцев и изменников Родины, уничтожали гитлеровские гарнизоны в селах, не давали фашистам поджигать деревни при отступлении, отбивали угоняемый скот, собирали данные о дислокации и передвижении войск... Один лишь отряд Героя Советского Союза тов. Ф. пустил под откос за два последних месяца 280 эшелонов противника!
А таких отрядов — не один...
Прощаясь с товарищем Б., я спросил:
— Куда вы сейчас?
Он улыбнулся, встал и подошел к окну. Короткий день угасал. Холодное солнце ушло за горизонт, и в небе висела ясная и четкая полоска зари.
— Туда,— сказал партизан и показал на закат,— На работу!
Я. МАКАРЕНКО
СОВЕТСКИЙ ХАРАКТЕР
Тополь
У костра, разведенного возле старого однокрылого ветряка, куда мы подъехали, чтобы укрыться от дождя и найти ночное пристанище, грелось человек двадцать конников, трубач из полкового оркестра и несколько пехотинцев.
Бойцы, кутаясь в плащ-палатки, гостеприимно уступили нам место. Мы быстро обсушились и обогрелись. Нужно было, однако, подумать о более подходящем ночлеге, так как дождь с каждой минутой усиливался.
Среди конников молча сидел пожилой человек, командир эскадрона, лейтенант Муратов. Он был в длинной черной бурке
и казачьей курпейчатой папахе. Смуглое морщинистое лицо лейтенанта было озабочено, тщательно подстриженные седоватые усы поникли, а в больших серых глазах стояла невыразимая мука. Устремив взор на шипящие головешки, Муратов о чем-то думал, и его молчание было тягостным. Когда костер, залитый дождем, готов был потухнуть, лейтенант встал и предложил нам добраться до деревни, чтобы заночевать там.
Деревня находилась недалеко от ветряка. Сквозь сгустившуюся темноту можно было разглядеть смутно рдеющие в стороне огоньки хат. И нас потянуло туда, к теплу, к непритязательному деревенскому уюту. Пришпорив коней, мы очутились минут через пятнадцать в деревне, и Муратов, свесившись с седла, тихо постучал в окно.
В хатке, которую мы с лейтенантом облюбовали, жила маленькая, сгорбленная старушка. Открыв дверь и впустив нас в горницу, она тотчас гостеприимно поставила на стол глечик с холодным топленым молоком, нарезала хлеба и, подперев рукой подбородок, застыла у печки. В горнице было светло. Аккуратно выбеленные стены сверкали чистотой, земляной пол был усыпан желтым хрустящим песком. Из-за матицы свисали высушенные, связанные пучками сокирки — голубые, похожие на наперстки, полевые цветы. Между окон, в простенках были развешаны вышитые красными цветами рушники.
— Кушайте, кушайте,— угощала старушка.— Столько дней
ждали вас, столько дней!..
Муратов не прикоснулся ни к молоку, ни к хлебу. Ничто, казалось, не могло вывести его из молчаливого оцепенения. Заговорил он только за полночь, когда старуха крепко заснула и мы остались наедине.
— Вот так же, день назад,— заговорил он,— эскадрон остановился ночью на отдых в селе, из которого только что были выбиты фашисты. И, знаете, довелось увидеть в этом селе такое, чего не забыть во всю жизнь!..
И Муратов рассказал мне историю, которая до глубины потрясла его душу.
— Двое суток преследовали мы разбитый под Кременцом гитлеровский батальон,— начал он.— Это был жестокий, непрекращавшийся бой, растянувшийся на многие десятки часов. Атаки следовали одна за другой, и люди мчались вперед, не вкладывая сабель в ножны. Разгоряченные конники спали
урывками, во время коротких передышек. На скаку жевали твердые, как железо, сухари. В беспрерывных атаках конники охрипли, едва держались в седлах. Бороться со сном и усталостью не было никакой возможности, и я отдал приказаниеустроить привал в первой же деревне.
Я выбрал хатку посредине села, она была, как и эта, ма- ленькая, чистая и уютная.— Он обвел глазами горницу, в которой мы нашли ночной приют и гостеприимство, немного подумал о чем-то и вновь заговорил:
— Веки мои слипались. Не успел я раздеться, как меня свалил сон. Сколько я спал, не знаю, может быть, час, можетбыть, меньше. Очнулся я от легких толчков в плечо. Приоткрыв глаза, увидел склонившуюся надо мной седую худенькую старушку. Она звала меня к столу. Немало, видимо, стоило ей труда разбудить меня. Старушка с сожалением и укоризной покачивала своей белой головой.
На столе дымились жирные щи, шипела яичница. Я ел автоматически, почти не ощущая вкуса. Веки мои смежались, и рука часто не доносила ложку до рта. Чтобы преодолеть сон, я стал рассматривать висевший над столом большой семейный портрет. Он был похож на тысячи других семейных деревенских портретов. В центре, положив большие жилистые руки на колени, сидел широкоплечий, крутолобый мужчина лет тридцати пяти, рядом с ним — худенькая женщина в полушалке' и цветастой кофте, а у их ног шустроглазый мальчуган и стриженая девочка в венке из цветов. Я спросил у старухи: «Кто это?». Она не ответила мне. Уткнувшись в желтую изодранную шерстяную шаль, старуха заплакала и торопливо вышла в сени. Вернувшись в хату, она, рыдая, ушла за перегородку, и оттуда мне долго слышны были ее всхлипывания и тяжкие вздохи.
Я не мог больше уснуть. Сон как рукой сняло. Я лег на широкую деревянную кровать и долго раздумывал, что же произошло в этой тихой и уютной хатке, что за тайна скрывалась за тем семейным портретом!..
Муратов умолк, вынул из кармана широких кавалерийских брюк кисет и трубку, набил в чубук табаку и жадно закурил. За окнами мягко шумел дождь, постукивал ставнями ветер, и я представил себе командира эскадрона, сидящего, как и теперь, за столом, семейный портрет и старушкку, и мне показалось, что все это произошло не с лейтенантом Муратовым, а со мной.
После паузы лейтенант продолжал свой рассказ:
— Перед рассветом полил дождь. Капли дождя с шуршанием падали на соломенную крышу хатки, барабанили в окна. Потом поднялся ветер, и я уже готов был уснуть, как вдруг до слуха донесся с улицы громкий человеческий плач. Я явственно услышал, как за окном кто-то плакал. Голос плачущего то
снижался, то внезапно поднимался, то опять исчезал, и тогда слышалось лишь прерывистое всхлипывание. Временами голос прекращался совсем и ничего не было слышно, но потом он возникал вновь, и ночная улица опять оглашалась тоскливым, сдавленным человеческим плачем.
Когда порывы ветра крепчали и с шумом ударялись в окна, плач становился громче и надрывнее, нагоняя печаль и тоску. Кто бы это мог плакать в ночи? Но спросить было не у кого.
За перегородкой послышались тяжелые вздохи старухи. Потом она торопливо пошарила в темноте руками, видимо, что-то искала, затем тихо, чтобы не помешать мне, отворила дверь и вышла на улицу. Через несколько минут я снова услышал рыдания старухи. Вторя ночному плачу, она тоже стала громко плакать, причитая и как бы разговаривая сама с собой.
Больше нельзя было выдержать. Накинув шинель на плечи, я вышел на улицу. Через дорогу, напротив 'хаты, в белесой мгле рассвета я увидел высокое дерево. Это был старый, раскидистый тополь. Густую зеленую крону его покрывали нежные, только что распустившиеся пахучие листья. Старуха стояла перед деревом на коленях и плакала, припав головой к земле. Но я не видел вокруг никого, кроме нее, и странно было, кто мог плакать еще.
Подойдя к старухе, я хотел поднять ее. Но не тут-то было: ее нельзя было оторвать от земли.
Откуда-то из переулка к тополю подошло еще несколько крестьянок и, упав на колени, они тоже стали плакать. Потом к тополю приковылял хромой старик в синих домотканых портах, в овечьем треухе, полушубке и валенках.
— С год тому назад беда эта приключилась,— объяснил мне хромой старик, когда я попытался узнать, в чем наконец дело.—У-этого тополя фашисты застрелили сына и невестку Степаниды.— И он указал на седую старуху.— И еще они убили тут же двух ее внучков. И с тех пор, как только поднимается ветер и польет дождь, дерево плачет живым, человеческим голосом. Тополь-то старый, с дуплом, ему, может, сто лет уже. Пули прошли через людей, а потом пробили дерево, просверлив его, как буравом, насквозь. И теперь, когда в дупло попадает дождевая вода и залетит ветер, старое дерево плачет, как человек!..
Я вспомнил семейный портрет над столом и бросился к дереву. И действительно, на высоте человеческой головы, на бугристой коре старого тополя зияли четыре небольших круглых отверстия, а чуть выше виднелось дупло. Из почерневших пулевых отверстий стекали мутноватые дождевые капельки. В дупле по мере того, как туда проникал ветер, рождались то тяжелые всхлипы, то нечто подобное человеческому плачу.
К тополю подошел и стал рядом со мной хромой старик. Как бы желая продлить разговор, он сказал:
— А сын-то Степанидин учителем у нас был. Бо-олыыой души человек. Коммунист!..
Командир эскадрона снова прервал рассказ и опять раскурил трубку. Как бы прислушиваясь к шуму на улице, он долго ходил из угла в угол по хатке, молча что-то вспоминал, затем, остановившись, о чем-то подумал и выбил о каблук сапога выкуренную трубку.
— Скажу вам, товарищ,— продолжал лейтенант Муратов притихшим голосом,— и у меня свой счет с фашистами. На Кубани они расстреляли ни за что мою жену и сына. Глядя на старуху и на этот тополь, я вспомнил жену и сына и не мог вынести больше этого испытания. Не помня себя от гнева, я вбежал в хату, мгновенно оделся, поднял эскадрон по тревоге, и через десять минут конники снова стремительно скакали на запад. Худо пришлось тем, кто повстречался нам в тот день в бою.
В тот день и я поработал шашкой. Сабля у меня отменная, златоустовской стали. Ее подарил мне Семен Михайлович Буденный. Я казаковал в гражданскую войну вместе с ним в степях Ставрополья и был пожалован этой саблей за боевое отличие. Маршал не будет в обиде на своего старого солдата...
Лейтенант Муратов рывком выхватил из ножен саблю и взмахнул ею в воздухе. Синее лезвие сверкнуло и потухло. Сабля была красива и соблазняла, видимо не одного казака своею оригинальной отделкой. Эфес ее был украшен золотыми и серебряными насечками, на темляке горела монограмма.
За окном брезжил рассвет. Муратов вложил неторопливо, красивым движением руки саблю в ножны, прислушался к шороху дождя и шуму ветра и, немного помолчав, произнес громким, налившимся силой голосом:
— Разве может быть спокойной моя душа? Передо мной как наяву стоит высокий плачущий тополь, а перед ним на коленях седая старуха! Нет, не мести хочу я. Надо, чтобы скорее на земле установился мир!
С восходом солнца лейтенант Муратов коротко распрощался и, твердо ступая, вышел на улицу. Через несколько минут раздалась команда «По коням!», и конники ускакали прочь. В чуткой утренней тишине мне долго был слышен топот копыт коней и чудился тополь, плачущий человеческим голосом.
Тачанка
Ночью Днепр, вздыбленный бурей, ревел, и тяжелые волны, вскипая, с шумом бились о песчаный берег.
Накинув на плечи дождевик, бакенщик Панас Горобец вышел во двор, привычно посмотрел сквозь густую темноту на реку и, заметив невдалеке от берега покачивающийся на зыбкой воде неровный свет фонаря на бакене, вернулся в хату. В ночи ему послышались частые выстрелы, но, решив, что это почудилось, Панас плотно захлопнул за собой дверь. Порывы днепровской бури с шумом ударялись в ставни, и хатка дрожала.
Спустя час в окно кто-то требовательно постучал. Горобец открыл дверь, и в маленькую белую хату бакенщика вошли трое. Черные бушлаты, полосатые тельняшки, измятые бескозырки, автоматы на шее. Дождь промочил их насквозь, и с одежды моряков ручьем текла вода на глиняный пол. Один из них, высокий, с русым, упавшим на лоб чубом был ранен в ногу. Лицо его было бледно, в серых больших глазах застыла боль. Он опирался на плечи товарищей, держа раненую ногу на весу.
Это были моряки днепровской флотилии. Горобец посмотрел на золотые буквы на околышах бескозырок и, прочитав знакомую надпись, почувствовал, как гулко забилось сердце в груди.
— Сослуживцы, значит,— сказал он морякам,— альбатросы. Когда-то и я служил матросом на Днепре...
Осмотревшись, маленький, юркий, с веснушчатым лицом морячок ответил:
— Так точно, с Днепра мы,— и, придвинувшись к бакенщику, добавил приглушенным голосом: — Вот что, старина, мы уходим, а Василия,— и он указал на раненого,— оставляем тебе. Вылечи его, а весной мы зайдем за ним!..
Панас молча кивнул головой, и моряки, не мешкая, распрощались. Уже с порога к бакенщику обернулся третий. Был он кряжист, широк, со шрамом на щеке.
— У меня, папаша, своя просьба,— заговорил он баском.— Оставляю тебе пулемет. Храни пуще глаза, спрячь подальше!
В сенях коренастый передал Горобцу завернутый в плащ-палатку крупнокалиберный пулемет, пожал руку и исчез в кипящей мгле. .
Василий пролежал всю осень. Раненая нога заживала медленно. Старый бакенщик и его жена, седоватая, когда-то красивая, рослая женщина, по имени Горпина, каждый день парили моряку ногу травяной трухой, натирали муравьиным спиртом и еще каким-то снадобьем, и мало-помалу к Василию возвращалась способность к движению.
Хатка Панаса одиноко стояла на обрывистом берегу Днепра, далеко от селений, и сюда редко кто заглядывал. Но Василий, несмотря на это, был насторожен и всегда молчалив. Бакенщику и его жене было известно только, что он родом с далекой и тихой реки Угры, что он холост. Лишь иногда, когда приходило настроение, Василий пел под аккомпанемент тако- го же, как и на родной Смоленщине, громкоголосого сверчка за печкой свою любимую песню:
Трансвааль, Трансвааль,
Страна моя,
Ты вся горишь в огне...
Зимой, когда бураны замели все тропы, Василий впервые встал на ноги. Слегка припадая на раненую ногу, он всюду следовал за Панасом, помогал ему в работе, ко всему присматривался, подолгу смотрел на синеющий вдалеке лес, как бы ожидая оттуда своих друзей. В лесу действовали партизаны. Под весну, когда у берегов скованного льдом Днепра появилась вода, бакенщик и моряк зачастили на рыбалку. И Василий проводил вместе со своим старым другом на реке целые дни. Над рекой часто слышался его грудной, приятный голос. Василий пел все ту же любимую песню о далекой и неведомой стране Трансваале.
Но однажды Василий исчез. И как раз вовремя. Вскоре в хату Горобца пришли гитлеровцы.
— Ты прячешь партизана,— кричал, картавя, тыкая кулаком в грудь, офицер с железными очками на носу.—Где моряк?
Панас молчал. Фашисты обшарили хату и двор и, ничего не найдя, ушли.
Пришел Василий в одинокую хатку бакенщика, когда весна властно возвращала землю к жизни. В саду старого бакенщика уже цвели вишни, степь подернулась густой зеленой муравой. Поздно ночью у хаты Панаса Горобца неслышно остановилась подвода. С телеги проворно спрыгнул Василий. Ковыляя, он подошел к окну и постучал.
— Эй, хозяин, выдь-ка на минутку,— тихо позвал он.
Панас отворил дверь и увидел в свете луны перед собой
Василия, а рядом с ним юркого маленького матроса и того, широкоплечего, со шрамом через щеку, который оставил на сохранение пулемет.
- Ну, вот альбатросы и прилетели, - сказал широкоплечий.
- Добре, добре, сынки,— заговорил, радуясь, Панас, и одобрительно оглядывая на моряках перепоясанные через плечи пулеметные ленты, привязанные к ремням лимонки и пистолеты за поясами.
- А ну давай-ка, дядько, сюда пулемет,— сказал все тот же матрос со шрамом. — Пришла пора его в дело пускать!..
Маленький веснушчатый матрос крепко пожал Панасу руку.
— За Василия! — сказал он.
Пока бакенщик доставал из соломы пулемет, веснушчатый морячок распряг лошадей, вкатил во двор тачанку. Это была обыкновенная кавалерийская тачанка, с окованным задком, на
