А. Н. Соловьева Ответственный редактор: доктор филологических наук, профессор пгу имени М. В. Ломоносова
| Вид материала | Монография |
- Г. В. Осипов (ответственный редактор), академик ран, доктор философских наук, профессор, 10705.92kb.
- Г. В. Осипов (ответственный редактор), академик ран, доктор философских наук, профессор, 10029.55kb.
- А. С. Панарин (введение, разд. I, гл. 1-4) (ответственный редактор); профессор, 6034.52kb.
- Культурно-языковые контакты, 5667.13kb.
- Научный редактор: доктор филологических наук, профессор, 1403.64kb.
- В. О. Бернацкий доктор философских наук, профессор; > А. А. Головин доктор медицинских, 5903.36kb.
- «Слова о Полку Игореве», 3567.27kb.
- Вестник Московского университета, 327.37kb.
- Рабочей программы учебной дисциплины «История русской литературы XIX века» Уровень, 111.69kb.
- Кодексу российской федерации (постатейный), 15526.4kb.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Поморский государственный университет
имени М.В. Ломоносова»
Н.М. ТЕРЕБИХИН
МЕТАФИЗИКА СЕВЕРА
Монография
Архангельск Поморский университет
2004
УДК 13 ББК 86.210.00 Т35
Рецензенты:
член-корреспондент РАО, доктор исторических наук,
профессор ПГУ имени М.В. Ломоносова В.Н. Булатов;
кандидат философских наук, доцент ПГУ имени М.В. Ломоносова А.Н. Соловьева
Ответственный редактор: доктор филологических наук, профессор ПГУ имени М.В. Ломоносова О.И. Воробьева
Теребихин Н.М.
Т 35 Метафизика Севера: Монография. — Архангельск: Поморский универси-
тет, 2004. — 272 с.
ISBN 5-88086-393-Х
Монография Н.М. Теребихина подводит итоги многолетним исследованиям автора в области археологии, этнологии, философии культуры и сакральной географии народов Европейского Севера. Это своего рода избранные труды, получившие широкую известность как в России, так и во многих зарубежных странах. Помимо уже известных фундаментальных работ Н.М. Теребихина в книгу включены новые, ранее не публиковавшиеся философско-культурологические тексты, которые не просто дополняют прежние, но позволяют выстроить целостную концепцию философии культуры Севера, определенную автором как «метафизика Севера».
Адресована широкому кругу читателей, очарованных Севером и его сокровенной непостижимой тайной.
УДК 13 ББК 86.210.00
ISBN 5-88086-393-Х © Теребихин Н.М., 2004
© Поморский университет, 2004
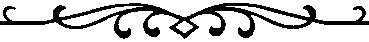
От автора
Предлагаемая вниманию читателей книга может рассматриваться как в известной мере итог моих многолетних исследований, посвященных изучению сакральной географии народов Севера России, выявлению и истолкованию тех религиозных и культурных архетипов и символов, которые сокрыты в теософских и исторических глубинах северно-русской души.
В книгу включены очень важные для меня труды, получившие признание в широких кругах российской и международной научной общественности. Промыс-лительным образом работа над этой книгой совпала с двумя юбилеями: 10-летием первого издания «Сакральной географии Русского Севера» (1993) и со 110-летием со дня рождения Бориса Викторовича Шергина (1893) — истинного молитвенника и подвижника Севера, творца и хранителя его вековечной сказки и тайны.
Северный текст Бориса Шергина, сотканный и сплетенный его жизнетворче-ством, — есть самое полное и прозрачное выражение и воплощение самосознания северно-русской культуры, ее основоположных мифологем, смыслов и ценностей. Борис Шергин — последний истинный поэт, художник и певец морской славы Севера, который в своем жизненном художестве запечатлел религиозную, национальную и культурную аксиологию Русского Севера, особую северно-русскую идею, определяющую место Поморья в пространстве русского мира, во всем священном космосе русской жизни.
Северный текст Б. Шергина — поэта-мифотворца и философа Севера — это, прежде всего, «североморский» текст, в поэтике которого ключевое место занимает мифологический образ Белого моря — Гандвика, «Колдовского залива», пред которым, как пред иконой пресветлой преображенной земли Севера, предстоял радостный, умиленный и просветленный гений певца поморской славы. В интуитивных прозрениях Б. Шергина о святости Белого моря содержатся откровения о морских основаниях теософии России, о ее «водолейском» призвании, воплощенном в «вод-нокаменном» символизме гиперборейского Лукоморья, в архитектурно-градостроительной идее Санкт-Петербурга, островных монастырей Русского Севера, всего образа России как острова (материка, континента) средь вод моря житейского.
Центральная тема, объединяющая все тексты, вошедшие в сборник, — метафизика Севера, развернутая в его сакральной географии, в тех священных путеводных картах, которые ведут очарованного странника-паломника в инобытийные пространства его некогда покинутой северной прародины. Путь на Север — это восхождение к центру мира, к той вершине Мировой Горы, окруженной водами моря-океана, с которой открываются не только сияющие светоносные дали Обетованной земли Царства Небесного, но и зияющие пропасти и бездны Кромешной Тьмы.
3
Амбивалентность Севера, метагеография которого сопричастна областям жизни и смерти, раскрывается в его женской, материнской ипостаси, в особом феномене северной женской сакральное™, занимавшем ключевое место в религиозно-мифологической картине мира народов Арктики. Соположение северности и женскости основано на их общей прародительской символике порождающего и погребающего чрева, в котором воедино сплетены начала и концы мира и человека, а потому Север не только «свят и демоничен» (А.Г. Дугин), но и эсхатологичен и телеологичен. Здесь, на Севере, в самом центре мира вопрошаются и разрешаются все последние и предельные вопросы земного бытия, и человек предстает перед порогом реальности небесного инобытия. Вхождение в это сильное и кристально чистое вопросно-ответное циркумполярное пространство требует от «паломников в страну Севера» отрицания всей суетной пестроты и ложной сложности области «моря житейского». «Северный морской путь» — это путь очищения, отсечения, аскезы и предельного опрощения. Потому столь чисты, прозрачны, просты и соразмерны плану Божественного Домостроительства тексты культуры, созданные творцами северной цивилизации — народами циркумполярного миротворного круга.
Для автора, прирожденного северянина и помора, метафизика Севера — это не предмет отвлеченного академического дискурса, но живое чувство и переживание личной причастности к тем неведомым, незримым и непостижимым планам сверхфизической, сверхприродной реальности, которая составляет загадку и тайну Севера, его притягательный и призывный «вызов» и «зов».
Автор расценивает свой труд как посильный вклад в тот философско-культуро-логический, метафизический и историософский контекст, который был обозначен Петербургскими чтениями по теории, истории и философии культуры «Метафизика Петербурга». Гиперборейскому миросозерцанию автора также весьма созвучны идеи А.Г. Дугина в области метафизики и сакральной географии России.
Когда книга готовилась к печати, пришло печальное известие о безвременной кончине доктора исторических наук, профессора Глеба Сергеевича Лебедева — выдающегося исследователя раннесредневековых древностей Северной Европы, одного из руководителей Староладожской археологической экспедиции, блестящего специалиста в области истории и методологии археологической науки, философа и метафизика Петербурга. ГС. Лебедев внес значительный вклад в изучение и сохранение историко-культурного наследия северной российской столицы — того Мета-петербурга, который изначально был воплощен в сакральной топографии и градостроительном облике Старой Ладоги, ставшей пространством духовного возрастания ученого и местом его упокоения.
Светлой памяти друга и учителя, раскрывшего передо мной метафизические горизонты археологии как Науки Начала, и посвящается эта книга.


МЕТАФИЗИКА, ГЕОСОФИЯ И ИСТОРИОСОФИЯ РУССКОГО СЕВЕРА
ГЕОГРАФИЯ «ИНОГО» МИРА
Этноцентрическая модель мира
В традиционной картине мира география «характеризуется не чисто географическими координатами, — она насыщена эмоциональным и религиозным смыслом, и географическое пространство вместе с тем представляет собой и религиозно-мифологическое пространство»1. Сакральная география Русского Севера воплощалась в геометрическом образе вписанных друг в друга мировых кругов, расходящихся из одного центра. Она нашла отражение в космогонических представлениях северных крестьян: «Земля, окруженная небом, держится на семи больших и шести маленьких китах, которые век должны носить ее на себе и когда пошевелят хвостом или хребтом, производят землетрясение. На восточной стороне земли находится теплая сторона, в которой ближе к нам живут православные христиане, за ними арабы, за теми маленькие (карлики) и одноногие люди, а на западной — живет все нехристь — немцы, англичане, французы»2. Религиозно-мифологическая география мира имеет, несомненно, книжные истоки, восходящие к «Голубиной книге» с ее семью китами, на которых «земля основана». Вместе с тем она опирается и на весьма архаичные пласты мифопоэтического сознания, породившего этноцентрическую модель мира, которая одновременно являлась и конфессиональной картой мира. В центр ее помещают себя создатели космологической схемы — православные крестьяне Русского Севера. На периферии обитаемого мира живут инородцы и язычники — нехристи, не имеющие истинной веры. Еще дальше, на самом краю ойкумены, обитают существа, наделенные признаками нечеловеческой природы (карлики, одноногие, одноглазые, песьеголовые и т. п.). Этноцентрическая модель мира, основанная на оппозиции сакрального, русского, православного центра и профани-ческой, хтонической периферии, отразилась и на восприятии земель Севера, населенных «инородцами», как иного, потустороннего мира, в котором, говоря языком русских странников, «все напротив». Поэтому вся этническая периферия Русского Севера наделялась характеристиками антимира, в котором обитают народы, обладающие мощным колдовским потенциалом.
К числу колдовских народов, по представлениям русских крестьян Севера, относились самоеды-ненцы, которые напускали на «Русь» порчу-икоту: «Мы думаем, что здешние крестьяне (Пинежского и Мезенского уездов. — Н.Т.) заразились
5
икотой от своих соседей самоедов. Известно, что самоедские жрецы и жрицы (та-дибеи) во время так называемого битья кудес (самбадава) приходят в совершенное исступление: при этом они кричат, беснуются, колют себя и наносят себе страшные раны. В таком состоянии они, по мнению самоедов, находятся в сообщении со сверхъестественными силами. Мнение наше о происхождении икоты от самоедов имеет опору еще в том, что крестьяне Мезенского уезда приписывают ее именно чародейству самоедов. Такой взгляд на самоедов кажется очень древен. Еще норма-ны смотрели на Печорскую страну как на землю колдунов и ужасов. Новгородцы также считали их за чародеев: наружность самоедов, одежда их и в особенности религиозные обряды их естественно были причиной такого понятия о них. В описании Герберштейна древних волшебников Севера нельзя не узнать самоедов»3. П.С. Ефименко выделяет три признака, на основании которых в этническом самосознании русских сформировался мифологический образ ненцев как колдовского народа: необычный антропологический облик; странная («звероподобная») одежда; шаманская религия. Особо значимую роль в порождении подобного образа играл конфессиональный мотив, связанный с ритуальной деятельностью шамана — духовного вождя и харизматического лидера ненцев.
Этот же мотив лежал в основе восприятия земли народа коми как страны колдунов: «Вера в ворожбу, в злые и добрые чары развита в зырянах сильнее, нежели в русском крестьянстве. В каждом околотке есть непременно свой колдун. "Колдунов много в зырянах!" — говорят везде в Вологодской губернии. Для многих зырянский край представляется какой-то темной страной чародеев и кудесниц»4. Сакрально отмеченная роль колдуна в традиционном обществе зырян обусловила восприятие всего народа коми как наделенного колдовскими чарами, способного наводить порчу на своих русских соседей.
Мифологический образ страны колдунов распространялся и на земли другого финно-угорского народа Севера — карел. Поморы считали, что все болезни и напасти насылаются на них по ветру карельскими колдунами: «Беднота народ, а плут, потому от них все колдовство идет: всякую они тяготу с Карелы своей на наше Поморье пущают. Вот зачем они плохой народ и зачем над ним трясутся все эти напасти. Спроси не меня! Действительно, поверье о напуске скорбей с Карелы во всем Поморье общеизвестно и имеет даже давнишнее историческое значение. Давно уже, и по русским летописям, чудское племя, к которому бесспорно принадлежат и карелы, славилось волхвами, колдунами и чародеями... Даже и в настоящее время карелы наивно, простосердечно, с полным убеждением и верою в истину передачи, завещают перед смертью ведомые им наговоры, заговоры и чарованья доверенным лицам, большею частью, конечно, родным своим. С другой стороны, существованию в настоящее время подобного странного поверья много способствует вера и самих поморов, которые все свои болезни морские приписывают исключительно порче не столько злого духа, сколько злобе какого-нибудь лихого человека из Карелы. С ветру (говоря выражением поморов) приключается им и колотье во всем теле, особенно в суставах, известное у них под именем стрелья и стрел»5. Поморы считали, что только карельские колдуны, которые наводят порчу, способны ее и изгнать. Поэтому карела-колдуна приглашали к больному, чтобы он прочитал лечебный заговор «на ветры и на четыре стороны». Карельские колдуны охраняли поезжан во время поморской свадьбы, провожали в последний путь человека,
6
г
«скоропостижно умершего или иногда и просто погибшего на промысле»6. Участие представителя иного этноса в поморских ритуалах жизненного цикла обусловлено мифологическими представлениями об особой сакральной силе чужой веры, ее непосредственной сопряженности с иным миром. Именно этим объясняется приглашение карела-колдуна на свадьбу, сюжет которой предполагает посещение «того света», и на погребение человека, умершего неестественной смертью. «Заложный» покойник представлял большую опасность для социума, нейтрализовать которую был способен очень сильный «инородный» колдун.
Однако колдовские способности карел, коми, ненцев значительно уступали могуществу чародеев Лапландии, которая в этническом сознании европейских народов превратилась в сказочно-мифологическую страну, где обитают волшебники, великаны и тролли. Сакральный авторитет лапландских шаманов-нойд был столь высок, что к ним на обучение направляли своих детей норвежцы, финны, шведы. Подобной же славой саамские шаманы пользовались и на Руси. Широко известна история с приглашением шаманов Лапландии ко двору Ивана Грозного. Мотив участия лапландских колдунов в решении судеб русского престола вновь оживает в Смутное время, когда распространяется версия о бессмертии самозванца Гришки Отрепьева, научившегося колдовству у «лапонцев». Восприятие Лапландии как страны колдунов сохраняется на Русском Севере и в более позднее время. Поморы верили, что лопари обладают колдовскими способностями «оборачивать зрение», то есть изменять пространственную систему координат, выворачивать мир наизнанку. Н.Н. Харузин писал о том, что лопарские колдуны-нойды внушают суеверный страх всем своим соседям, в том числе и русским7. Поэтому для поморов Мурман представлялся чужой, языческой страной, где даже капуста вырастает «не православная»8. Не случайно, что жители г. Колы, вынужденные покинуть город после его бомбардировки английской эскадрой в 1854 году, больше всего сожалели о главной православной святыне Колы — восемнадцатиглавом Успенском соборе: «Вот его жаль, да еще пепелища жаль, а то, что город? Городу этому только званье было»9. В этих словах ярко выражены те единственные и основоположные ценности русской жизни, которые позволяли русскому человеку укорениться на совершенно чуждой ему земле, воссоздать на колдовском, инородческом Мурмане маленький уголок Святой Руси, воплощенный в образах храма, отеческих гробов и пепелища. Именно их вспоминали и оплакивали коляне, которых судьба заставила покинуть свой «город», оказавшийся вовсе и не городом, а призраком, возведенным на колдовском пространстве Лапландии.
В этноцентрической модели мира поморов инородческие земли ненцев, саамов, коми, карел наделялись амбивалентным смыслом. С одной стороны, они обладали колдовскими свойствами и внушали суеверный страх и ужас перед тем злом и мороком, которые от них исходили на Русь. С другой стороны, поморы испытывали мистический трепет и уважение к чужой вере и стремились использовать ее колдовскую мощь в своих целях, пытались заручиться поддержкой чужих богов. Подобное двойственное отношение к инородческому и иноверческому антимиру раскрывается в поморском предании «Чудские боги», в котором рассказывается о том, как один помор «по той вере, что морскому ходу будет спех», принес на судно изображение «чудских болванов». Однако идолы не только не поспешествовали «морскому ходу», но, напротив, держали судно на месте до тех пор, пока их не сожгли10.
7
Мифология моря и корабля
В традиционной картине мира поморов хтонической семантикой иного мира наделялись не только земли, населенные колдунами-инородцами, но и пространство моря. В мифологическом универсуме восточных славян образ моря (даже этимологически) непосредственно соотнесен с областью смерти: «В Марье русских и других славянских купальских песен отражен прототип, связанный со смертью (и водой-морем) и выраженный соответствующей формой (*mer-, *mor-)»". Анализируя фамильное предание рода Пушкиных о том, что «жены молодых людей, отправленных (при Петре) за море, надели траур (синее платье)», Б. А. Успенский пришел к выводу, что в сознании русских людей петровского времени «поездка за море ассоциируется со смертью»12.
Если море — мертвое царство, то любое передвижение в этом локусе религиозно-мифологического пространства равносильно реальному переживанию смерти, точнее, испытанию морем-смертью. Мореплавание — это одновременно (пользуясь терминологией М.М. Бахтина) и «роман странствований» и «роман испытаний». Мореход, подобно герою волшебной сказки, отправляется в смертельно опасный путь, чтобы «людей посмотреть и себя показать». Исход его путешествия неясен. Если мореплаватель «настоящий герой», то, пережив испытание «морской смертью», он, «преображенный», возвращается в родной дом. Если же герой оказывается ложным, самозванным, то, не выдержав смертного испытания, он навсегда погребается в пучине морской. «Море» (как, впрочем, и «поле» древнерусского права) — это сакральное пространство, где происходит испытание, поединок, «прение живота и смерти», в котором испытываются не физические качества человека (плоть), а его духовно-нравственные основания. Отсюда — разный характер «морской смерти». Для нарушителя божественных и человеческих установлений — это кара, наказание за преступления («вечная смерть»). Для человека, живущего в согласии с миром, морская смерть оборачивается спасением, перерождением («вечная жизнь»). Для одного смертного морская вода оказывается «мертвой», а для другого — «живой».
В сказке М.Д. Кривополеновой «Безручка» (в которой архаичный мотив инцеста, связанный с близнечной парой «Иван-да-Марья», заменен более поздним бытовым мотивом «злой жены») рассказывается о том, как брат по наветам «жонки» искалечил свою сестру — сделал ее «безручкой». Сестра вновь обрела руки, когда пришла на берег синего моря и омылась его живой водой. В «стихосложном» варианте этого сказочного сюжета, опубликованном в книге Б.В. Шергина «Запечатленная слава» под названием «Братанна», немая и безрукая сестра, изгнанная братом из дому, вместе с мертвым младенцем приходит на берег моря в надежде сгинуть в пучине морской: «Пала Братанна в море, // Рученьки мертвы висели, — // Пала с мертвым младенцем, // Пала нема, полумертва, // Встала цела и здрава. // Волнами ее подхватило, // В сердце морском переновило // ...Вышла Братанна из моря, // Как ново на свет родилась»13.
Настоящая героиня (Братанна) выходит из испытания морской смертью «пере-новленной», обретшей не только руки, но и дар речи, которого была лишена с рождения, а ложная героиня (злая жена) разоблачается и изгоняется. Испытание морем, таким образом, тесно увязывается с мотивом посмертного воздаяния и наказания, с мотивом суда. Как известно, образ загробного (Страшного) суда — одна
8
из религиозно-мифологических универсалий. В северно-русской морской культуре высшим судией выступает само Море. По замечанию О.М. Фрейденберг, в архаическом восприятии суда и смерти «человека судят вода и огонь; человека судят путем воды и огня; человека погружают в воду или испытывают огнем, и, если на нем "вина", тогда он погибает. Этот суд огня и воды — бога суд»14. Представление о морском суде как о «божеском» нашло отражение в том смиренном почитании, которое поморы испытывали к своему «Батюшке-морю». Они никогда не говорили «утонул», «погиб в море». Почти повсеместно говорили: «Море взяло». («Море берет без возврату. Море возьмет не спросит. Море берет — бездолит. Море наше осуждения не любит»15.)
В поморской «древней памяти» море наказывает смертью преступника (Лихо-слава, нарушившего морской устав и замышлявшего убийство своего брата Горе-слава, который обращается к морю с призывом:
— Батюшко Океан, Студеное море! Сам и ныне рассуди меня с братом!
Будто гром, сгремел Океан в ответ Гореславу. Гнев учинил в море... Подхватил
Лихослава и унес его в бездну... Дружинники от мала до велика сошли на берег, поклонились Гореславу в землю и сказали:
— Господине, ты видел суд праведного моря. Теперь суди нас16.
Праведный суд моря происходит на корабле, который поэтому и называется
«судном», то есть местом, где в «судный день» развертывается поединок добра и зла, происходит «прение живота и смерти». Корабль — это всегда ладья мертвых, которые в процессе «суда» спасаются либо умирают.
В архаических пластах северно-русской морской культуры мотив судного дня переплетается с темой судьбы. Жизнь помора определялась не только священным уставом морского бога, не только личной добродетельностью или греховностью. В предустановленный свыше порядок поморского космоса властно вторгались хаотические силы случая — непредсказуемой морской судьбы. Воплощением судьбы помора выступает ветер. В мифологической «розе ветров» особые «судьбоносные» свойства поморы приписывали северо-восточному ветру — «полуношнику». В записанных К.П. Гемп «ожиданьицах» (жанр молитвы-мольбы, обращенной к морю) содержится целый спектр мифологизированных описаний полуношника: «Ох, рванет полуношник нежеланный. // Встанет взводень, зарыдат. // Да свистит полуношник, пылит по морю-океану»; «Полуношник свищет, страшит»; «Ветер и гудит, и воет — все выдержишь, а как засвистит — пооберегайся вдвое: то полуношник, шалой, свистун»17. В наборе мифологических характеристик смертоносного ветра-полуношника (свистун, шалый, темный, ярый, буйный, пыльный) раскрывается хтонический (океанический) образ владыки Севера — бога северного ветра (поморского Борея). Его владения («Полуночные страны», «Полуночное море») — царство холода и мрака, куда уходят души «взятых морем» людей. Полуношник — судьбоносный ветер, имеющий непосредственное отношение к «нитям» судьбы. Как и «сухопутный» его брат-вихрь, он поднимает над морем столб пыли («На море пыль стоит страшенная, лютует батюшко, полуночник его подбивает»). Слово «вихрь» (ветер) — этимологически связано с глаголом «вить». Поморы никогда не говорили «начнется» ветер, но «завяжется». Столб водяной пыли, «завиваемый», «завязываемый» полуночным ветром до небес, и есть та нить и тот столп, которые связывают душу человека с краеугольными камнями мироздания. Примечательно, что поморы,
