А. Н. Соловьева Ответственный редактор: доктор филологических наук, профессор пгу имени М. В. Ломоносова
| Вид материала | Монография |
СодержаниеПространство и время |
- Г. В. Осипов (ответственный редактор), академик ран, доктор философских наук, профессор, 10705.92kb.
- Г. В. Осипов (ответственный редактор), академик ран, доктор философских наук, профессор, 10029.55kb.
- А. С. Панарин (введение, разд. I, гл. 1-4) (ответственный редактор); профессор, 6034.52kb.
- Культурно-языковые контакты, 5667.13kb.
- Научный редактор: доктор филологических наук, профессор, 1403.64kb.
- В. О. Бернацкий доктор философских наук, профессор; > А. А. Головин доктор медицинских, 5903.36kb.
- «Слова о Полку Игореве», 3567.27kb.
- Вестник Московского университета, 327.37kb.
- Рабочей программы учебной дисциплины «История русской литературы XIX века» Уровень, 111.69kb.
- Кодексу российской федерации (постатейный), 15526.4kb.
49
 В глубинных основах русской строительной идеологии просвечивается некое негативное отношение к «миру сему», к земному плану бытия, приводящее к отказу от почвы, к отречению от «своего» (своими руками построенного) и надежде на «чужое» (готовое). Даже такой великий строитель, как Петр, не избежал соблазна странничества в чужие земли за получением готового культурного опыта. Все эти достоинства и недостатки, соблазны и уклонения русской строительной идеологии глубоко вскрыты В.Н. Топоровым, который дал развернутую характеристику такого типа русской «строительной» святости, как «труженичество во Христе»: «Прорыв к сфере "исторического" на Руси чаще (легче?) достигался подвигами духовного характера (вера, язык, литература, искусство, творения народного духа — от идеи крестьянского мира до надежды обретения Царства Божьего, с которым этот мир соотносится здесь и сейчас), чем деяниями, приводящими к созданию материально-экономических ценностей, производимых "хлеба насущного" ради, и конкретных социальных институций "исторического типа". Тем не менее было бы непростительной ошибкой не заметить тот путь, на котором духовное и материальное созидание не только не противоречат друг другу, но и органически, целесообразно и благодатно сочетаются одно с другим, и упустить из виду тех великих подвижников на Руси, которые вступили на этот путь, успешно подвизались на нем и до конца совершили свой подвиг, понимаемый ими как выполнение долга, осознанного и продуманного, а не как решение вдруг возникшей и потому принципиально случайной "сверхзадачи".
В глубинных основах русской строительной идеологии просвечивается некое негативное отношение к «миру сему», к земному плану бытия, приводящее к отказу от почвы, к отречению от «своего» (своими руками построенного) и надежде на «чужое» (готовое). Даже такой великий строитель, как Петр, не избежал соблазна странничества в чужие земли за получением готового культурного опыта. Все эти достоинства и недостатки, соблазны и уклонения русской строительной идеологии глубоко вскрыты В.Н. Топоровым, который дал развернутую характеристику такого типа русской «строительной» святости, как «труженичество во Христе»: «Прорыв к сфере "исторического" на Руси чаще (легче?) достигался подвигами духовного характера (вера, язык, литература, искусство, творения народного духа — от идеи крестьянского мира до надежды обретения Царства Божьего, с которым этот мир соотносится здесь и сейчас), чем деяниями, приводящими к созданию материально-экономических ценностей, производимых "хлеба насущного" ради, и конкретных социальных институций "исторического типа". Тем не менее было бы непростительной ошибкой не заметить тот путь, на котором духовное и материальное созидание не только не противоречат друг другу, но и органически, целесообразно и благодатно сочетаются одно с другим, и упустить из виду тех великих подвижников на Руси, которые вступили на этот путь, успешно подвизались на нем и до конца совершили свой подвиг, понимаемый ими как выполнение долга, осознанного и продуманного, а не как решение вдруг возникшей и потому принципиально случайной "сверхзадачи".Этих подвижников было не так уж мало, и они свидетельствуют особый тип русской святости. Многие из них, как Феодосии Печерский, Сергий Радонежский, Кирилл Белозерский и оптинские старцы, высокочтимы. И тем не менее трудно избавиться от впечатления, что в целом русское благочестие все-таки не было достаточно внимательным к этому типу святости. Многие подвижники на этом пути были забыты или полузабыты; их труженичество, оцениваемое, конечно, положительно, но, скорее, разумом, нежели сердцем, в одной среде не находило непосредственного, из глубины души идущего отклика, а в другой — даже вызывало иногда небезосновательные упреки и подозрения в слишком опасном приближении к "земному", "материальному", к сфере политики, светской власти, общественно-социальных амбиций (ср. Алексия митрополита Московского, Иосифа Волоцкого и др.). Но даже и в связи с самыми крупными и безусловными фигурами в сонме русских святых нередко предпочитают говорить не о главном, а о производном от него, подчеркивая заслуги в "патриотической", "хозяйственно-организационной" и т. п. деятельности или, напротив, об аскетичности, мистицизме, духовных дарах и т. п. Такой подход, несомненно, грозит смещением масштабов и невольным искажением главного. А главным в этом типе святости было именно труженичество во Христе, понимаемое как творческое собирание души, духовное трезвение, забота о мире, чтобы он не остался вне света Христова, христианизация жизни, быта и самого мирского человека, "ветхого" Адама.
Святые этого типа — прежде всего строители, и их подвиг отличается некоей соразмерностью, "согласием" составляющих его начал и "работ", особой трезвостью, продуманностью, осмысленностью. Монастырь и мир, духовное и светское, взращивание души и христианизация политики — все это гармонично сочетается в едином целом, хотя его части никогда не сливаются воедино, оставаясь, однако,
50
предметом общих забот. Но и в одной, и в другой области святой подвизается, подражая Христу, подобно ему. В этом ряду русских святых на самых первых местах — фигуры двух преподобных, Феодосия Печерского и Сергия Радонежского»26.
Однако этот тип русской святости и соответствующий ему образ освоения пространства — устройства культурного ландшафта — занимали периферийное положение в иерархии «ангельского чина» и в пространственном мирочувствовании русского народа. «Труженичество во Христе» с его ярко выраженным мироустрои-тельным пафосом представляло собой наиболее трудный («узкий») путь спасения-преображения, поскольку он пролегал по «опасной» (соблазнительной) границе, разделяющей горнее и дольнее, небесное и земное, и требовал от строителя предельной концентрации духовных сил, такой интенсивной напряженной работы по преображению тварного мира, которая по своему накалу соразмерна божественной энергии творения мироздания. Поэтому «узкий путь» строительства культурного ландшафта был уделом немногих, особо отмеченных избранников божиих. Интенсивная строительная деятельность была лишь кратким необходимым моментом остановки, оплотнения, материализации религиозно-духовного движения народа, избравшего «широкий» путь спасения, преображения мира.
История строительства на Севере монастырского Святого Царства новой (северной) Фиваиды обнаруживает в русском типе освоения пространства доминирующую роль парадигмы духовного путешествия, странничества. Русский народ строил свою историю по образу и подобию Священной истории. Для него земной крестный путь Христа с его воскресением и преображением был столь же реален в своей совершенности, как и уже реально совершившееся событие воцарения Антихриста и наступления Страшного суда. Русские люди были абсолютно уверены в реальном существовании Обетованной земли — преображенного пространства Царства Небесного на земле. Поэтому смысл обретения святой Руси (земли) заключался не в ее земном строительстве, а в ее поисках-странствованиях по земле. Святое царство уже реально существует на земле в готовом, завершенном виде, и для его достижения достаточно совершить паломничество в эту Святую землю.
Русская одержимость в поисках «иного царства» в зависимости от состояния души могла облекаться в разные формы — от самых низменных и примитивно-телесных до высочайших сфер духовного подвижничества. В зависимости от степени подобия образу Божию или, напротив, от степени его искажения в человеке строится и иерархия состояний русской души и соответствующих им форм (целей) поисков «иного царства». Исследуя фольклорную геологию русской души, Е.Н. Трубецкой в своей глубокой по содержанию и многозначительной по названию работе «"Иное Царство" и его искатели в русской народной сказке» устанавливает иерархическую типологию искателей и искомых ими ценностей: «В числе искателей "иного царства" есть люди низшего, высшего и среднего духовного уровня: все они оставили в сказке свои следы, выразили в ней свою особенную мечту о лучшем мире»27. Для людей низшего духовного уровня «искомое иное царство есть в общем идеал сытого довольства»28. В соответствии с максималистскими интенциями русского народного характера «иное царство» с его материальными ценностями должно быть явлено в одночасье, без всяких ожиданий и промежуточных этапов, прямо здесь и сейчас. Е.Н. Трубецкой точно и образно определяет подобное мирочувствование как
51
 «воровской идеал», воплотившийся в народной социальной утопии, в феноменологии русской лени и русского бунта (воровства-разбоя). Русская лень — это весьма сложное явление, порожденное разладом между умозрительным идеалом совершенства иного царства и несовершенством падшего мира. Для русского человека «иное царство» уже дано ему в Богооткровении, в интуитивном «умном зрении», но для его достижения человеку необходимо приложить усилия по преодолению своей косности, телесности, совершить выход за пределы природной необходимости. Тут-то и возникает расхождение между замыслом человека и путями, способами воплощения этого замысла в жизнь. Русский человек, видя цель, уже зная Истину, впадает в созерцание ее небесной недостижимости, уклоняется в мечтательность о горнем идеале и его усвоении-присвоении «чудесным образом», с помощью разнообразных магических средств и заклинаний. «Крайним выражением апофеоза лени служит сказка о Емеле-дураке. Он проводит время в лежании на печи и на всякое предложение пальцем пошевельнуть для какого-либо дела неизменно отвечает: "Я ленюсь". Но ему достается волшебная щука, которая исполняет все его желания. И он пользуется ее услугами единственно для того, чтобы все делалось само собой, без всякого с его стороны труда»29. При отсутствии магических средств и способностей лентяй обретает искомые ценности нового царства путем их похищения-воровства. Воровской идеал лежит в сердцевине русского бунта, целью которого является инверсия социального пространства, переворот всего мироздания, в результате чего представители социального низа — лентяй и вор — попадают в чаемое иное царство, а бывшие небожители — хозяева иного царства — низвергаются с социальных небес на дно жизни. Карнавальная логика Смуты, неоднократно потрясавшей Русскую землю, в конце концов из социальной воровской утопии-сказки обернулась кровавой былью переворота России 1917 года: «На наших глазах осуществилась утопия бездельника и вора и мечта о царстве беглого солдата... Россия наполнилась ворами да беглыми солдатами, а дезертир успешно проходит в "наибольшие министры" и вместо царя правит царством»30. Созерцательная, мечтательная, мистически настроенная русская душа оказалась весьма уязвимой, пассивной и незащищенной перед наглым вторжением в ее святая святых тех разрушительных воровских сил русского душевного и социального «дна», которые долгое время находились под спудом самодержавной и духовной власти Царя и Церкви. Но стоило только лишь ослабить эти духовные оковы, успокоиться в созерцании откровения о России, явленного в «вещем сне», как в это сонное царство грез ворвалась воровская стихия русского бунта: «Связь между усыплением нашего народного духа и торжеством воровской утопии совершенно очевидна. Где светлые силы дремлют и грезят, там темные силы действуют и разрушают. И оттого-то современная Россия оказалась в положении человека, которого разворовали в глубоком сне»31.
«воровской идеал», воплотившийся в народной социальной утопии, в феноменологии русской лени и русского бунта (воровства-разбоя). Русская лень — это весьма сложное явление, порожденное разладом между умозрительным идеалом совершенства иного царства и несовершенством падшего мира. Для русского человека «иное царство» уже дано ему в Богооткровении, в интуитивном «умном зрении», но для его достижения человеку необходимо приложить усилия по преодолению своей косности, телесности, совершить выход за пределы природной необходимости. Тут-то и возникает расхождение между замыслом человека и путями, способами воплощения этого замысла в жизнь. Русский человек, видя цель, уже зная Истину, впадает в созерцание ее небесной недостижимости, уклоняется в мечтательность о горнем идеале и его усвоении-присвоении «чудесным образом», с помощью разнообразных магических средств и заклинаний. «Крайним выражением апофеоза лени служит сказка о Емеле-дураке. Он проводит время в лежании на печи и на всякое предложение пальцем пошевельнуть для какого-либо дела неизменно отвечает: "Я ленюсь". Но ему достается волшебная щука, которая исполняет все его желания. И он пользуется ее услугами единственно для того, чтобы все делалось само собой, без всякого с его стороны труда»29. При отсутствии магических средств и способностей лентяй обретает искомые ценности нового царства путем их похищения-воровства. Воровской идеал лежит в сердцевине русского бунта, целью которого является инверсия социального пространства, переворот всего мироздания, в результате чего представители социального низа — лентяй и вор — попадают в чаемое иное царство, а бывшие небожители — хозяева иного царства — низвергаются с социальных небес на дно жизни. Карнавальная логика Смуты, неоднократно потрясавшей Русскую землю, в конце концов из социальной воровской утопии-сказки обернулась кровавой былью переворота России 1917 года: «На наших глазах осуществилась утопия бездельника и вора и мечта о царстве беглого солдата... Россия наполнилась ворами да беглыми солдатами, а дезертир успешно проходит в "наибольшие министры" и вместо царя правит царством»30. Созерцательная, мечтательная, мистически настроенная русская душа оказалась весьма уязвимой, пассивной и незащищенной перед наглым вторжением в ее святая святых тех разрушительных воровских сил русского душевного и социального «дна», которые долгое время находились под спудом самодержавной и духовной власти Царя и Церкви. Но стоило только лишь ослабить эти духовные оковы, успокоиться в созерцании откровения о России, явленного в «вещем сне», как в это сонное царство грез ворвалась воровская стихия русского бунта: «Связь между усыплением нашего народного духа и торжеством воровской утопии совершенно очевидна. Где светлые силы дремлют и грезят, там темные силы действуют и разрушают. И оттого-то современная Россия оказалась в положении человека, которого разворовали в глубоком сне»31.Однако, к счастью для России, торжество воровской утопии столь же мимолетно, как и сновидение, и близкий конец ее отмечен знаменательным сказочным образом мужика, обманутого сладкою мечтою о даровом-воровском легком хлебе и оказавшегося после буйного хмельного разгула в состоянии глубокого похмелья у разбитого корыта России.
Русская сказка знает и иные, высшие формы душевного поиска иного царства. Именно они и составляют непреходящую светлую ценность русского искания последней правды, постижение которой связано с преодолением самости, жертвенно-
52
стью, не ставящей перед собой никаких низменных утилитарных целей, где сам процесс творческого поиска становится даже важнее искомого состояния. «Искателей чудесного манит сама неизвестность искомого» (Е.Н. Трубецкой) и, по формуле русской сказки, они «идут туда, не зная куда, ищут то, не зная что». Бессребрени-чество подобного исследования тайны превращает его в богомолье-паломничество, совершаемое в Святую землю за обретением там Истины и Благодати. Именно эти неземные, неотмирные ценности и составляют содержание русского пространственного менталитета, русского образа освоения пространства, который можно определить как «паломнический», «страннический».
Странническая душа русского народа воплотилась в образе необъятного простора России, породила особый русский хронотоп, который существенно отличается от хронотопов других культур доминантной ролью категории пространства в построении священного космоса русской жизни. Особое место образа пространства в генезисе «русскости» нашло отражение и в языковой модели мира, прежде всего в семантике русского языка. «В этом последнем случае особенно показательным нужно считать русское слово "пространство", обладающее исключительной семантической емкостью и мифопоэтической выразительностью. Его внутренняя форма (*pro-stor) апеллирует к таким смыслам, как "вперед", "вширь", "вовне", "открытость", "воля"»32. Российский простор — это наиболее полное выражение всех свойств характера русского народа, его пространственной (страннической) души, устремляющейся на поиски царства, которое «не от мира сего». Внешнюю безграничность русского пространства «можно рассматривать как внутренний, духовный факт в русской судьбе. Это — география русской души»33.
Развивая мысль Н.А. Бердяева об особой роли пространственности в исторических судьбах русского народа, его религиозно-национальной идеи, В.Н. Топоров следующим образом определил «конгениальность» русской истории и души, времени и пространства. Русская «история в этой ситуации оказывается сродни (независимо от того, что причина и что следствие) душе, а душа — истории. И обе вместе они своим составом и своей сутью соотносятся с "русским" пространством и "русским" временем, с их разрывами, с их лишенными связей участками твердой земли, с их "несплошностью" и "несквозностью", аморфностью, страдательностью, экстенсивностью, слабой заполненностью людьми и событиями, медленной и непоследовательной "окультуренностью", неустроенностью и бесприютностью, с их отчуждающей холодностью и, если продумать до должной глубины, порождаемым ими чувством тоски или страха, в котором первородное и природное не всегда отделено от вторичного, "созданного", "культурного"»34.
На органичную слитность, недифференцированность русского культурного и природного ландшафтов, их структурное (душевное) родство указывал в свое время выдающийся русский историк В.О. Ключевский, который, исследуя восприятие России иностранцами, писал: «Крестьянские поселки по Волге и во многих других местах Европейской России доселе своей примитивностью, отсутствием простейших житейских удобств производят, особенно на путешественника с Запада, впечатление временных, случайных стоянок кочевников, не нынче-завтра собирающихся бросить свои едва насиженные места, чтобы передвинуться на новые. В этом сказались продолжительная переселенческая бродячесть прежних времен и хронические пожары — обстоятельства, которые из поколения в поколение воспитывали
53
пренебрежительное равнодушие к домашнему благоустройству, к удобствам в житейской обстановке»35.
Европейский культурно-природный ландшафт поражает русского путешественника, сопричастного тягучему, вязкому однообразию родной русской равнины, своей предельной расчлененностью, отчетливой выделенностью культурного из природного: «Все, что он видит вокруг себя на Западе, настойчиво навязывает ему впечатление границы, предела, точной определенности, строгой отчетливости и ежеминутного, повсеместного присутствия человека с внушительными признаками его упорного и продолжительного труда. Внимание путника непрерывно занято, крайне возбуждено. Он припоминает однообразие родного тульского или орловского вида ранней весной: он видит ровные пустынные поля, которые как будто горбятся на горизонте, подобно морю, с редкими перелесками и черной дорогой по окраине — и эта картина провожает его с севера на юг из губернии в губернию, точно одно и то же место движется вместе с ним сотни верст. Все отличается мягкостью, неуловимостью очертаний, нечувствительностью переходов, скромностью, даже робостью тонов и красок, все оставляет неопределенное, спокойно-неясное впечатление. Жилья не видно на обширных пространствах, никакого звука не слышно кругом — и наблюдателем овладевает жуткое чувство невозмутимого покоя, беспробудного сна и пустынности, одиночества, располагающее к беспредметному унылому раздумью без ясной, отчетливой мысли»36.
Пространство и время
Особая роль пространственности в построении космоса русской культуры позволяет уточнить понятие «русского хронотопа», в котором отношения между временем и пространством имеют «обращенный», «вывернутый наизнанку» характер. Их можно описать как отношения ноумена и феномена, смысла и явления в концепции символизма П.А. Флоренского: «...Эта модель сдвоенных, взаимно обратных миров полностью отвечает символической реальности, причем воплощает ее самым прямолинейным и натуралистичным способом: стороны символа, явление и смысл, получаются друг из друга буквальным выворачиванием наизнанку»37. Время, задающее смысл в русской истории, выворачивается наизнанку, является, воплощается в пространство, насыщенное смыслом, которое поэтому и становится целостным символом России. Инверсия отношений между временем и пространством в русском символизме смещает акценты в понятии «хронотоп», превращая его в русский «топохрон» (термин Г.С. Лебедева), который отражает одну из важнейших особенностей русской истории, а именно обратное течение времени в ней, где следствия предшествуют причинам, а будущее предопределяет прошлое. Русская история открывается не «Книгой Бытия», описывающей процесс сотворения мира, его начало, а «Апокалипсисом» (Откровением Иоанна Богослова), пророчествовавшего о конце старого мира и творении «нового неба и новой земли». Обращенность времени в русской истории, которое течет от конца к началу, от смерти к рождению, позволяет объяснить, «почему в русской православной традиции смерть и воскресение Христа (Пасха) переживаются острее и напряженнее, чем его рождение (Рождество)»38.
54
Отсутствие в русской истории Начала («Книги Бытия») привело к «безбытийно-сти» (точнее, к «безбытности») космоса русской жизни, а его перевернутость порождала восприятие России иностранцами как антимира, построенного по законам обратной перспективы. Подобным же образом в русской народной смеховой культуре зарождалась самоуничижительная поговорка о том, что в России все делается через... («низ»), а не через «верх», как во всем цивилизованном мире. Снижение образа России, осмысление ее в категориях телесного низа отражает не только универсальные законы смехового мира, но и особенности национального образа мира русского народа, в котором центральное место занимает пространство. Пространственность видения мира предполагает его восприятие как воплотившегося, чувственно осязаемого, конкретного, реального. Ощущение пространственное™ мира, его плоти (плотности, полноты) — одна из величайших интуиции русского народа, которая была осмыслена позже в категориях русской религиозно-философской мысли.
«Рассматриваемое в столь широком контексте, пространство может и должно пониматься как один из важнейших источников структуры русской души, представляющей одновременно и его порождение, и его образ. Поэтому и в душе — то же сочетание беспредельности, необъятности, крайностей, тяги к ним и провалов, разрывов, незаполненности. Понятно, что русская душа, выводимая из пространства и/или проектированная на него, интимно связанная с ним и глубоко чувствующая его, особенно чутка к нему, так сказать, конгениальна ему, и даже время, к которому нет особого вкуса и интереса, строится по модели именно такого "русского" пространства, и эта выделенность пространства в ущерб времени (обратная ситуация в еврейской культуре и в европейской культуре Нового времени) сама по себе говорит уже очень о многом. В частности, с этой особенностью связано и то, что обычно квалифицируется как "неисторичность" (или "слабая историчность"), "внеисторич-ность" русского народа»39.
Подобное понимание времени оказало мощное воздействие на формирование особого алгоритма русского исторического процесса, на выработку уникальных свойств русского национального характера. В частности, приоритет «цикличности» над «линейностью» обусловил прерывность русской истории, ее повторяемость и учительность. Русская история наполнена христологическим смыслом, основанным на христианских образах смерти и воскресения. Она воспроизводит важнейшие события земной жизни Спасителя, его земные страсти. Соположение настоящего и вечного в русской истории порождало чувства и представления о ее завершенности, о реальном присутствии потустороннего состояния вечной жизни уже здесь, на Русской земле. Превращение ритма Священной истории в алгоритм русской истории «истончало» время, спрессовывало его до точечного состояния настоящего, которое обладало полем мощного сакрального напряжения. В этой точке сходились все силовые линии, все начала и концы всемирной истории. Точечное время становилось «мнимым», превращалось в пространство — центральную категорию образа жизни русского народа, его модели мира.
Пространственность русского народа особенно остро осознавалась и переживалась во времена очередной русской смуты, раскалывавшей не просто физическое пространство России, но пространство ее души.
Всякий раз, когда речь заходит о метафизике пространства России, о пространственное™ русской души, перед мысленным взором предстает «картографический»
55
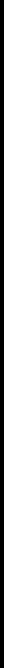 образ Отечества, явленный умозрению древнерусского книжника и запечатленный им в «Слове о погибели Русской Земли»: «О, светло светлая и красно украшенная земля Русская! Многими красотами дивишь ты: озерами многими, дивишь ты реками и источниками местночтимыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными, зверями различными, птицами бесчисленными, городами великими, селами дивными, боярами честными, вельможами многими, — всего ты исполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!
образ Отечества, явленный умозрению древнерусского книжника и запечатленный им в «Слове о погибели Русской Земли»: «О, светло светлая и красно украшенная земля Русская! Многими красотами дивишь ты: озерами многими, дивишь ты реками и источниками местночтимыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными, зверями различными, птицами бесчисленными, городами великими, селами дивными, боярами честными, вельможами многими, — всего ты исполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!Отсюда до венгров, и до поляков, и до чехов, от чехов до ятвягов, от ятвягов до литовцев и до немцев, от немцев до корелы, от корелы до Устюга, где живут той-мичи поганые, и за Дышащим морем, от моря до болгар, от болгар до буртасов, от буртасов до черемисов, от черемисов до мордвы — то все покорил Бог народу христианскому поганые страны»40.
Автор «Слова», восхищенный и умиленный «светло-светлой световидностью-святостью» и красно украшенной божественной красотой Русской земли, подобно иконописцу, живописал всю ее необъятную панораму от западных рубежей до Волги и от вольных южных степей до северных пределов, до земель языческой заволоч-ской чуди, в которой как последний оплот «русскости» стоит богоспасаемый град Устюг под знаменами Архангела Михаила — предводителя небесного воинства и водителя русского народа к незнаемым берегам Студеного Дышащего моря-океана.
В «Слове» вся ширь и даль Русской земли явлена его автору как бы «свыше», с высоты птичьего полета. Подобные панорамность и высотность изображения, свойственные как древнерусской литературе, так и иконописи, отражают не только православное богословие Красоты, но и особый пространственный камертон русской души, в которой вертикаль горнего мира растворена в равнинной широте горизонтали дольнего. Все наиболее чуткие и проницательные исследователи национального характера русского народа в поисках образного языка, единственно приемлемого для описания широты и распахнутости русской души, неоднократно обращались к пространственным образам степи и моря не только как к реальным безграничным границам Святой Руси, но и как к ее путеводной идее.
Исследуя характер народной Руси, А.А. Коринфский писал о том, что «стихийная душа русского народа... во все времена и сроки стремилась на простор. <...> Желанный, он являл ей себя и в живых стенах деревьев — в лесу, и на вольном воздухе безлесной степной равнины, волнующейся как сине море — ковылем, травой шелковою»41. По мысли А.А. Коринфского, русский народный характер полнее всего раскрывается в «ландшафтных» образах «матери-сырой земли», «синя моря», «леса и степи».
Немецкий исследователь «духа» русского ландшафта В. Шубарт, увлеченный поисками «европейской идеи», пытался обрести ее на путях сравнения с русской идеей, отталкивания от нее. Исходя из выдвинутой им концепции «духа ландшафта» («духа территорий»), под воздействием которого складывается душа народа, он построил сравнительную типологию культур Востока (России) и Запада (Европы) — «иоаннической культуры» и «прометеевской культуры». «Восток и Запад — не только географические, но и душевные понятия. Пересеченная, узкая, разъединенная Европа подчинена иному духу ландшафта, нежели Азия с ее просторами безграничных равнин»42. Пространственный дух Азии (России) В. Шубарт связывал с топо-сом степи, а Европы — с морем. Отрицая морскую ипостась России, он утверждал,
56
что «русские западники, еще признавая или смутно чувствуя в себе мощь родной земли, придерживались формулы: прочь от степей к морю. Степь и море стали олицетворением различных мироощущений. Ведь и море столь же широко, как степь, но оно не имеет успокаивающей шири, принимающей в любящие объятия, оно угрожает и зовет к авантюрам. На побережье развивается иной человеческий тип, чем в степи»43. В. Шубарт совершенно прав в том, что локусы степи и моря типологически совпадают во внешнем плане выражения образа простора, но имеют и существенные глубинные различия в плане его содержания. В то же время никак невозможно согласиться с мнением немецкого исследователя, отказывавшего России в ее морской судьбе, в ее родовом морском материнском лоне.
Наиболее глубокий и проникновенный анализ соотношения степного и морского в русской душе дал В.Н. Топоров, который в своей работе, посвященной выявлению психофизиологических основ поэтического комплекса моря, связал его генезис с пренатальным сознанием, с идеями эмбрио-космогонической теории и трансперсональной психологии. Утверждая тесную взаимозависимость морского и степного, В.Н. Топоров в то же время подчеркивает некую первичность моря по отношению к степи и в связи с этим пишет, что «море более емкий и "сильный" образ, отсылающий к экзистенциональным глубинам человеческого сознания и напряженно и остро выдвигающий перед человеком тему смерти: бытие на море — своего рода "Sein zum Tode"; в отличие от степи море безосновно; у степи — твердая опора, земля, у моря — опоры нет, и человек в своих усилиях к спасению должен сделать опорою самое бездну, ничто»44.
Идеи В.Н. Топорова, обращенные к выявлению универсальности «морского комплекса» в разных культурах, имеют самое непосредственное отношение к осмыслению первичности, изначальности морской стихии в исторических судьбах России, в самой русской душе, которая, постоянно погружая себя в «море» хаоса, стремится «сделать опорою самое бездну, ничто», именно то Ничто, в котором сокрыто таинство Божественного Домостроительства. Об экзистенциональных, «бездонных», «безосновных» глубинах русской души прекрасно сказал И.А. Ильин в своих лекциях о сущности и своеобразии русской культуры. Русский человек «не знает страха перед природой, пусть даже она ужасающе неистова и грозна: он сочувствует ей, он следует за ней, он причастен к ее темпераменту и ее ритмам. Он наслаждается пространством, легким, быстрым, напористым движением, ледоходом, лесною чащею, оглушительными грозами. Но он упивается не столько "беспорядком" или "разрушением" как таковыми, о чем бездумно твердят некоторые в Западной Европе, сколько интенсивностью бытия, мощью и красотой природных явлений, непосредственной близостью ее стихий, вчувствованием в божественную сущность мира, созерцанием хаоса, вглядыванием в первооснову и бездну бытия, откровением Бога в нем. И даже более того: в хаосе он ощущает зов из космоса; в разладе он предчувствует возникающую гармонию и будущую симфонию; мрачная бездна позволяет ему увидеть божественный свет; в безмерном и бесконечном ищет он закон и форму. Вот почему хаос природы является для него не беспорядком, не распадом или гибелью, а напротив, предвестием, первой ступенью к более высокому пониманию, приближением к откровению: угрожает ли бездна поглотить его — он обращает свой взор ввысь, как бы молится и заклинает стихию раскрыть ему свой истинный облик. И тому, кто всего этого не узрел или проглядел, тому русская
57
душа и русское искусство во всех своих проявлениях навеки останутся сокрытыми; ему бы лучше не проронить и слова о России.
Но тому, кто хоть немного чуток к такого рода переживаниям и воззрениям, многое откроется. Он поймет, откуда взялась эта русская тяга к полному достижению цели, мечта о последнем и конечном, желание заглянуть в необозримую даль, способность не страшиться смерти»45.
Изложенная И.А. Ильиным телеология (целеполагание) русской жизни с ее неизбывной тягой к предельному и запредельному, к последним вопросам тайны бытия, могла зародиться и реализовать себя только в пространстве морской стихии как в своем материнском рождающем и погребающем лоне. Море всегда пребывало в русской душе как некое воспоминание о своей покинутой родине, и потому исторический путь России (ее путеводная идея) состоял в непрерывном движении к морю, к обретению земли обетованной.
Дорога России к морю -— это одна из ипостасей ее столбовой дороги к Храму. Именно таким увидели исторический путь России современные исследователи русской души К. Мяло и С. Севостьянов, предпринявшие «хождение» — паломничество в утраченному и обретающемуся пространству Святой Руси от Черного до Белого моря, и вся вертикаль пройденного ими пути с Юга на Север соединила в себе начала и концы, альфу и омегу морского предназначения, избранничества России.
«В праздничном Акафисте преподобным Зосиме и Савватию есть поэтичней-шие и необычайно трогающие слова: "Яко светильницы явистеся всесветлии во отоце окиана моря, Преподобнии отцы наши Зосиме, Савватие и Германе". Вот это "во отоце" здесь, где пахучую, темную и теплую крымскую волну сменила стеклянная прозрачность Белого моря — словно оно даже и летом подернуто льдом, — для нас прозвучало октавой, воплотившей всю вертикаль пройденного пути. А еще — подтверждением изначальности морской ипостаси России, скажем даже так — какого-то вечного "морского" томления в ее душе. И как нелеп американский русский поэт, утверждающий, что море чуждо России, что его нет в русской народной поэзии. Сразу видно, что говорит человек, бесконечно далекий от глубинных смыслов и потоков русской жизни и что для него немо русское сакральное время, в котором, увлекая мысль и сердце за пределы, веками звучало "во отоце окиана моря"»46.
Изначальность морской ипостаси России действительно запечатлена в прена-тальном сознании русского народа, в его мифопоэтической стихии. «Хотя русский народ в старину стародавнюю и не был прирожденным обитателем поморья, но как с самим морем, так и со всем заморским связано в его тысячелетней памяти немало всяких сказаний, поверий и цветистых ходячих слов, с незапамятных времен до сих пор разгуливающих "от моря до моря". Теперь, когда народная Русь не только стоит твердою богатырскою стопою на берегах семи морей, но даже омывается двумя океанами, — невольно выплывают перед ее глазами... облики былых поверий»47.
Образ России, утвердившейся на берегах семи морей, имеет явную мифопоэти-ческую природу, связанную с космогонической моделью мироздания как острова, со всех сторон окруженного водами мирового океана. Островное самосознание было исключительно значимым для генезиса русской идеи, которая на разных этапах исторического бытия России претворялась в разнообразные формы богословия «острова спасения» (о. Лев Лебедев). Островное богословие России восходит к архаи-
