А. Н. Соловьева Ответственный редактор: доктор филологических наук, профессор пгу имени М. В. Ломоносова
| Вид материала | Монография |
СодержаниеРусский простор и норвежские фиорды |
- Г. В. Осипов (ответственный редактор), академик ран, доктор философских наук, профессор, 10705.92kb.
- Г. В. Осипов (ответственный редактор), академик ран, доктор философских наук, профессор, 10029.55kb.
- А. С. Панарин (введение, разд. I, гл. 1-4) (ответственный редактор); профессор, 6034.52kb.
- Культурно-языковые контакты, 5667.13kb.
- Научный редактор: доктор филологических наук, профессор, 1403.64kb.
- В. О. Бернацкий доктор философских наук, профессор; > А. А. Головин доктор медицинских, 5903.36kb.
- «Слова о Полку Игореве», 3567.27kb.
- Вестник Московского университета, 327.37kb.
- Рабочей программы учебной дисциплины «История русской литературы XIX века» Уровень, 111.69kb.
- Кодексу российской федерации (постатейный), 15526.4kb.
Одной из актуальных задач современной арктической культурологии является сравнительно-типологическое изучение механизмов освоения пространства Арктики. Конечная цель подобного исследования заключалась бы в выделении этнически своеобразных типов доместикации Арктики, характерных для тех или иных традиционных культур народов высоких широт. Другими словами, речь идет о построении сравнительной типологии арктических языков пространства, выражавших пространственный менталитет того или иного народа.
216
Каждый этнос обладает известным специфическим набором неосознаваемых (бессознательных) привычек, стереотипов пространственного поведения и мирочув-ствования, которые и определяются понятием пространственного менталитета. «Мы отчетливо сознаем, что обращение с пространством — определенным образом нормированный аспект человеческого поведения, когда замечаем, что люди, воспитанные в разных национальных культурах, обращаются по существу с ним по-разному, в соответствии с принятыми в их стране моделями»2'. Пространственный менталитет этноса как устойчивое, целостное образование, входящее в самое душу народа как система («язык»), обладает активностью, избирательностью, первичностью по отношению к внешней, объективной пространственной реальности жизни этноса. Иначе говоря, не конкретная география (природа) определяет пространственный менталитет народа-этноса, а национальный язык пространства сам определяет свою природу, точнее, выбирает ее из наличного множества «экологических ниш», подгоняет природную среду под свой масштаб, соизмеряет внешние пространства с внутренним пространством души народа. «Селекционные» свойства этнического языка пространства объясняются тем, что он является одной из подсистем языка культуры, которая «предполагает, прежде всего, отбор, взращивание — обработку, установление ("тетическая" функция культуры), совершенствование — украшение и почитание — культ...»22. О первичной и избирательной функции пространственного менталитета по отношению к осваиваемому пространству писал русский философ Н.А. Бердяев, когда он говорил о том, что беспредельный российский простор был «не внешней, а внутренней судьбой русского народа, ибо все внешнее есть лишь символ внутреннего»23.
Построение сравнительной типологии языков пространства народов Арктики предполагает вычленение того единого признака, который составит основание для сравнения. Таким признаком-основанием может быть образ национального героя — харизматического лидера, воплощающего в себе квинтэссенцию этнических характеристик народа, его вечной души. Харизматический лидер — это духовный вождь народа, его пророк, своего рода «культурный герой» — первопроходец, который прокладывает путь в земли незнаемые и указывает дорогу ведомым.
Русский простор и норвежские фиорды
Раскрыть глубинные типологические различия норвежского и русского языков пространства помогает идейное наследие Н.А. Бердяева — проникновенного исследователя географии русской души: «Русской душе не сидится на месте, это не мещанская душа, не местная душа. В России, в душе народной есть какое-то бесконечное искание, искание невидимого града-Китижа, незримого дома. Перед русской душой открываются дали, и нет очерченного горизонта перед духовными ее очами. Русская душа сгорает в пламенном искании правды, абсолютной, божественной правды и спасения для всего мира и всеобщего воскресения к новой жизни. Она вечно печалуется о горе и страдании народа и всего мира, и мука ея не знает утоления. Душа эта поглощена решением конечных, проклятых вопросов о смысле жизни. Есть мятежность, непокорность в русской душе, неутолимость и неудовлет-воримость ничем временным, относительным и условным. Все дальше и дальше
217
 должно идти, к концу, к пределу, к выходу из этого "мира", из этой земли, из всего местного, мещанского, прикрепленного»24.
должно идти, к концу, к пределу, к выходу из этого "мира", из этой земли, из всего местного, мещанского, прикрепленного»24.«Русский человек с большой легкостью духа преодолевает всякую буржуазность, уходит от всякого быта, от всякой нормированной жизни. Тип странника так характерен для России и так прекрасен. Странник самый свободный человек на земле. Он ходит по земле, но стихия его воздушная, он не врос в землю, в нем нет приземистости. Странник — свободен от мира и вся тяжесть земли и земной жизни свелась для него к небольшой котомке на плечах. Величие русского народа и при-званность его к высшей жизни сосредоточены в типе странника»25.
«В русском человеке нет узости европейского человека, концентрирующего свою энергию на небольшом пространстве души, нет этой расчетливости, экономии пространства и времени, интенсивности культуры... <...> Ширь русской земли и ширь русской души давили русскую энергию, открывая возможность движения в сторону экстенсивности»26. Внешнюю безграничность русского пространства «можно рассматривать, как внутренний, духовный факт в русской судьбе. Это — география русской души» (там же).
К норвежцам как носителям традиций европейской культуры вполне приложи-ма характеристика западновропейского пространственного менталитета, данная Н.А. Бердяевым: «Западноевропейский человек чувствует себя сдавленным малыми размерами пространства земли и столь же малыми пространствами души. Он привык возлагаться на свою интенсивную энергию и активность. И в душе его тесно, а не пространно, все должно быть рассчитано и правильно распределено»27. Это тип секуляризованного, рационального, интенсивного освоения пространства внешнего мира с целью его утилитарного использования в личных интересах культуртрегера. Поэтому главным героем европейского открытия мира является отдельная, секуляр-ная, полагающаяся только на самое себя личность, воплощенная в образе Робинзона, создающего на необитаемом острове упорядоченное, комфортное пространство старой Европы.
Ярчайшим примером норвежской арктической робинзонады является культуртрегерская деятельность норвежского колониста, который своими собственными руками, своим методичным, упорным трудом превратил дикий мурманский остров Кильдин в процветающий, образцово-показательный уголок Норвегии. Историю создания этой колонии, культуртрегерский подвиг «кильдинского короля» прекрасно описал М.М. Пришвин, который восторгался высочайшим уровнем культуры норвежского освоения Арктики: «Все путешественники с любопытством смотрят на эту одинокую колонию норвежца на громадном пустынном полярном острове. Всех поражает это благоустройство; все ожидают, когда появится на пароходе этот колонист-норвежец, прозванный Кильдинским королем. Но из всех этих путешественников в настоящую минуту, только я один понимаю и оцениваю вполне значение этой колонии на Крайнем Севере.
Нужно вот так, как я, поскитаться то пешком, то на лодке месяца три по Северу, чтобы понять это. Я приучил уже себя к чувству сострадания к людям Крайнего Севера. Я привык думать, что люди здесь, как эти несчастные деревья, мало-помалу должны сойти на нет, что красное полуночное солнце — лампада у гроба умершей природы. Теперь я смотрю на колонию Кильдинского короля и думаю, что для
218
человека этой естественной границы нет, что он может жить и за гранью, что он — человек, он выше природы. Лет тридцать тому назад, рассказывают нам, сюда прибыл из Норвегии колонист с большой семьей, малолетними детьми и поселился на этом острове. У него не было никаких средств для жизни, так что вначале он стал промышлять рыбу на обыкновенной русской шняке, но переделав ее так, чтобы можно было бежать против ветра; для этого ему нужно было только изменить киль и устроить косые паруса. Благодаря этому, в случае шторма, ветра с берега, он мог возвращаться домой. Жил сначала в каюте от старой елы, но скоро из прибитых морем к острову деревьев (плавуна) устроил дом. И так из года в год стал жить лучше и лучше, промышляя то рыбу, то морских зверей. Дети — пять сыновей и шесть дочерей — выросли такими же здоровыми, как отец, и промысел, конечно, стал во много раз успешнее. К концу жизни старика образовалась на острове Киль-дин целая колония с листер-ботами и моторными лодками. Простая, несложная история. Но сколько в ней внутренней силы! Хорошо бы посмотреть поближе, вглядеться в быт, всмотреться во внутренний механизм, узнать, почему у нас, при всем этом геройском плавании на льдинах по океану, на киле лодки, в общем, не остается как-то соответственного этой стихийной жизни чувства уважения к человеку. — Как они там живут внутри этих домов? — спрашиваю я знакомого русского помора. — Хорошо живут! — отвечает он. — На море он спокоен, потому что на боту у него палуба, каминчик, всегда он на море, всегда он при доме. Прибежит к берегу, и там хорошо: на окнах занавески вязаные, и стол с накидочкой, безделушки на столе, альбом, по стенам зеркала, стулья венские, хоть и не венские, а вроде венских, музыкальный ящик в пятьсот рублей. Живут и жить собираются»28.
Культуртрегерское подвижничество «кильдинского короля», в одиночку осваивающего дикое пространство Арктики, превращающего его в окультуренный микрокосм норвежского фюлька, — это одно из частных проявлений норвежского пространственного индивидуализма. Обсуждая проблему языковой политики в Норвегии, норвежцы сами говорили о себе: «Мы ведь индивидуалисты. А в этом случае законен диалект любой долины, любого фиорда, жаргон любой группы людей, и даже больше — каждый человек волен выдумать свой, одному ему понятный язык»29.
Однако норвежский пространственный менталитет наряду с общеевропейскими универсалиями обладал и собственным измерением, что проявлялось в его амбивалентности, двойственности. Норвежская культура имела две взаимодополняющие ипостаси. Замкнутому, камерному, клеточному микрокосму «культуры фиордов» противостоял открытый, распахнутый миру макрокосм морской культуры. Море для норвежцев — это «иной» мир их культуры. Он настолько отличается от замкнутого микромира фиордов, что при выходе в открытое море норвежские рыбаки начинают говорить на особом «морском» языке: «Издавна рыбаки здесь считали, что духи, населяющие море, не терпят человеческой речи. А если усльгшат ее — разгонят всю рыбу. Поэтому на море, переговариваясь, рыбаки неузнаваемо искажали обычную норвежскую речь» (там же). Искажение речи при выходе в море связано, конечно, не столько с магией слова, сколько с универсальным религиозно-мифологическим восприятием моря («иного мира» вообще) как перевернутого, инвертированного пространства. Переход в иной мир сопровождался изменением принятых стереотипов поведения на противоположные, что, видимо, объясняет, как в эпоху викингов мирные жители фиордов при выходе в море превращались в жестоких воинов-
219
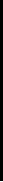 берсерков и пиратов-купцов. Двумирность норвежского пространственного менталитета, его одновременная замкнутость на самое себя и распахнутость миру отразилась в деяниях двух великих сынов Норвегии — Бьёрнстьерне Бьёрнсона и Фри-тьофа Нансена, в которых «с наибольшей силой воплощены типические черты норвежского национального характера»30.
берсерков и пиратов-купцов. Двумирность норвежского пространственного менталитета, его одновременная замкнутость на самое себя и распахнутость миру отразилась в деяниях двух великих сынов Норвегии — Бьёрнстьерне Бьёрнсона и Фри-тьофа Нансена, в которых «с наибольшей силой воплощены типические черты норвежского национального характера»30.Открытость «иного» (морского) мира норвежской культуры и являлась тем, что сближало ее с беспредельностью пространства русской души. Интуитивное чувство этой близости лежало в основе норвежского национального самосознания, породившего своеобразную «матрицу» этнических корреляций между народами Скандинавии и другими европейскими народами. Норвежцы «не зря говорят, что датчанин — это француз Скандинавии, швед — англичанин Скандинавии, а норвежец — это русский Скандинавии»31. Русофильство норвежцев, доходящее до их «русоподо-бия», абсолютно созвучно встречному «норвегофильству» (норманнизму) русской души. Однако если для норвежцев «русская» широта и открытость национального характера являлись лишь обратной (морской) стороной их замкнутой (материковой) культуры, то широкая география поморской души выражает независимую от характера пространства открытую, всечеловеческую сущность русской культуры.
Северно-русский (поморский) пространственный менталитет — это усиленный, предельный вариант (диалект) русского языка пространства. Харазматическими лидерами, точнее, духовными вождями русского народа, его «светильниками» и «неугасимыми лампадами» были люди, достигшие высот святости. Подвижничество святых, преобразивших дикие земли Севера в святое царство Северной Фиваиды, легло в основу северно-русского пространственного менталитета: «В русских святых мы чтим не только небесных покровителей святой и грешной России: в них мы ищем откровения нашего собственного духовного пути. Верим, что каждый народ имеет собственное религиозное призвание, и, конечно, всего полнее оно осуществляется его религиозными гениями. Здесь путь для всех, отмеченный вехами героического подвижничества немногих. Их идеал веками питал народную жизнь; у их огня вся Русь зажигала свои лампадки. Если мы не обманываемся в убеждении, что вся культура народа, в последнем счете, определяется его религией, то в русской святости найдем ключ, объясняющий многое в явлениях и современной, секуляризованной русской культуры»32. Поэтому русский тип освоения арктического пространства отличается прежде всего своим глубинным религиозно-духовным характером, не ставящим перед собой никаких утилитарных целей. Понятие «освоения» (в современном смысле слова) к нему неприложимо. Это скорее землепрохождение, странничество, для которого характерно экстенсивное (в принципе — беспредельное) освоение пространства внешнего мира с целью его включения во внутренний строй народной души. Главный герой русского освоения просторов Севера — это странник, который мучим духовной жаждой обретения «нового неба и новой земли» — Обетованной Земли Царства Небесного. Именно этот религиозный порыв к святости, духовная жажда «новой земли», которая могла оказаться чаемой Землей Обетованной, и лежал в основе северно-русского пространственного менталитета, впитавшего в себя святоотеческую заповедь: «страннолюбия не забывайте». Стран-нолюбие — это один из ключевых образов-архетипов пространства русской души. Он включает в себя представления о «странности» как неотмирной инаковости, чуждой ценностям мира сего. «Странность» — это и недостижимая даль Святой
220
Земли, к которой устремляется нуждающаяся в ней душа «нищего духом» странника. Поэтому страннолюбие, то есть любовь к странствованиям и к странствующим, связано с образом вечного, «очарованного» странника, скитающегося по неисповедимым путям Божественного Промысла в поисках дальней преображенной страны «нового неба и новой земли». «Максималист в служении идее, он мало замечает землю, не связан с почвой — святой беспочвенник <...>. В терминах религиозных, это эсхатологический тип христианства, не имеющий земного града, но взыскующий небесного. Впрочем, именно не небесного, а "нового неба" и "новой земли"»33. В русских отщепенцах, бегунах, странниках «живет по преимуществу кенотический и христоцентрический тип религиозности, вечно противостоящий в ней бытовому и литургическому ритуализму. Эти кенотические силы народной религиозности были освобождены вместе с расколом XVII века, то есть вместе с утратой церковной цельности»34.
Образ скитальческой, бродяжнической Руси нашел свое предельное выражение в идеологии старообрядческой секты «бегунов» («странников»), оказавшей большое воздействие на формирование духовных идеалов и ценностей культуры Русского Севера. Особое распространение «странничество» получило в Каргопольском крае и представляло собой «своеобразный реликтовый заповедник древнерусской культуры»35. Реликтовость, архаичность странничества, как и всего старообрядчества в целом, имела, безусловно, вторичный характер, порожденный оппозиционным диалогом ревнителей древнего благочестия с официальной никонианской Церковью. Старообрядческие общины, функционировавшие в «аварийном режиме» (А.Ф. Белоусов), опираясь на древнерусские традиции, создали новый, вторичный, вариант древнерусской культуры, в которой святоотеческие идеалы страннолюбия были воплощены в странническом образе жизни, предполагавшем полный уход от мира сего и постоянное скитальчество по странноприимным «пристаням» Земли Обетованной36. Именно этот образ страннолюбия, претворившийся в странные для иноземца черты национального характера русского человека, в его стиль жизни, и определял особенности поморского освоения арктического пространства. Страннические искания «последней правды» не предполагали заботы о земном жилище. Отсюда — поражавшая домовитых норвежцев безбытность русского арктического бытия.
Имманентная тяга норвежцев к созданию уютного, комфортного, расчлененного на клеточки индивидуального пространства выражалась в его избыточном украшении — раскрашивании яркими красками. Красочная праздничность норвежской архитектуры резко контрастировала с одноцветной будничной серостью архитектурно-природных ландшафтов Русского Севера. Эта особенность архитектурного ансамбля северных русских деревень поразила исследователя карело-финского эпоса Элиаса Лённрота, который совершил поездку по Каргопольско-Онежскому краю: «Здесь вообще не увидишь господской усадьбы, украшающей нашу сельскую местность, равно как ни одного дома, покрашенного в красный цвет. Даже церкви не покрашены и, подобно всем прочим строениям, имеют естественный цвет дерева. Возле домов не достает огородов и зеленых лужаек, придающих особый уют финскому крестьянскому жилищу»37. Для Э. Лённрота как носителя западноевропейского (скандинавского) пространственного менталитета уютность сельского пейзажа связывается с его искусственностью, регулярностью, дополнительной украшенно-стью, которая противопоставляется русской естественности цвета, природности.
221
Отмеченные Э. Лённротом различия в цветовой символике сельских поселений Скандинавии и России отражают глубинные различия в аксиологии двух культур, двух языков пространства. Яркие краски норвежского дома подчеркивают неповторимую индивидуальность его владельца, выражают общий настрой норвежского менталитета на завершенность, отдельность, выделенность, конечность. Напротив, бесцветность, серость, естественность, непроявленность русского пространства соотносится с представлениями о слитности, безраздельности, незавершенности, вечности.
Оппозиция «отдельного» и «слитного» отражает еще одно важное различие двух хронотопов, связанное с вертикальностью картины мира норвежцев и горизонтальностью пространственного видения поморов. Вертикальность мировосприятия характерна вообще для любой морской культуры. СВ. Максимов, изучавший диалектную лексику русских поморов, писал: «Давно также известно мне было, что для приморского жителя все виды местностей делятся только на два рода: море и гору, и горой называет он высокий морской берег, и все, что дальше от моря, хотя бы тут не было не только горы, но даже и какого-либо признака холма, пригорка»38. Однако хотя поморский пространственный менталитет и включал в себя элементы вертикальности, господствующим в нем оставалось общерусское, горизонтальное, плоскостное, равнинное мировосприятие, преображавшее чужое студеное море в родное русское поле.
Впечатляющим примером неустроенности, незавершенности, безбытности русского быта является облик поморских станов на Мурмане, где стояли «уродливые избенки, догнивающие свой век под морскими дождями и снегами... избенки, которых так много по всем островам и пустынным берегам северных морей России»39. Облик уродливых гнилых промысловых избенок, в которые набивалось «в крайних случаях по двадцати человек», резко контрастировал с добротным уютом домов норвежских колонистов Мурмана, у которых «занавесочки на окнах» и «венские стулья».
Разительный контраст между «красивыми постройками» норвежских колонистов и «полуразвалившимися избушками русских артелей» отмечал и В.В. Немирович-Данченко40. Он был крайне поражен тем, что поморы, осознавая превосходство материальных условий жизни норвежских рыбаков, негативно относятся к самой идее заимствования чужого опыта, к перенесению на Русь «правильного», но чуждого образа жизни. Обосновывая свое неприятие бытовых стандартов чужой культуры, поморы ссылаются на то, что порядок их жизни предустановлен свыше Божественным Промыслом, заповедями отцов и дедов («уж так заведено»; «разве мы норвежане какие, у нас по всему берегу так»)4'. В «поморских ответах» звучит не рабская фаталистическая обреченность, покорность судьбе, а представление о незыблемости Божественного миропорядка, недопустимости его нарушения. Поморы хорошо знали и высоко оценивали материальный уровень жизни в «немецких» землях, но превратиться в «немцев» они не желали и не могли.
Безбытность русского человека проявлялась в его беспредельной неприхотливости и приспособляемости к любым, самым невероятным и невыносимым для других условиям и обстоятельствам жизни. Поэтому, по признанию немецкого военного специалиста по «русскому вопросу» В. Штрик-Штрикфельда, «русский всегда был очень хорошим солдатом — дисциплинированным, покорным судьбе и крайне
222
 неприхотливым»42. Эти черты характера русского солдата отмечал и Тур Хейердал, принимавший участие в освобождении Норвегии: «Наибольшее впечатление на норвежцев произвело то, что русские оставляли их полностью в покое. Немногие уцелевшие дома, сохранившиеся после военных действий, русские предоставляли норвежскому населению, а сами спали прямо на снегу. Это действовало совершенно невероятным образом на нас, норвежских солдат.
неприхотливым»42. Эти черты характера русского солдата отмечал и Тур Хейердал, принимавший участие в освобождении Норвегии: «Наибольшее впечатление на норвежцев произвело то, что русские оставляли их полностью в покое. Немногие уцелевшие дома, сохранившиеся после военных действий, русские предоставляли норвежскому населению, а сами спали прямо на снегу. Это действовало совершенно невероятным образом на нас, норвежских солдат.Было удивительно видеть это, так как у русских не было ни палаток, ни спальных мешков. Они ложились обычно вокруг костра и не замерзали, а в особенно холодные ночи, когда полярное сияние светило на небе и когда все другие люди боялись буквально высунуть нос наружу, можно было слышать звучащее на чужом языке, за душу хватающее хоровое пение, прокатывающееся через долину. Это русские, невзирая на холод, плясали и пели вокруг костра, чтобы согреться...»43.
Так сильно поразившая норвежцев неприхотливость русского солдата, его способность переносить любые тяготы и лишения военной жизни — это одно из проявлений религиозного характера русского народа, для которого земные страдания были заповеданы и прообразованы крестными страстями Христа. Поэтому отсутствие порядка внешней жизни, который удовлетворял бы все земные прихоти и соблазны, восполнялся у русского человека его неотмирной страстностью, способностью к любым «нечеловеческим» деяниям и поступкам. Примечательны в этом смысле суждения коренного помора — капитана парохода «Ломоносов» Ф.М. Попова, который сравнивал морские традиции норвежцев и русских поморов: «Там куда осторожнее нашего: и суда лучше и хорошо оснащены, и порядок, а у нас одна отчаянность... Зато там нет той сметливости и удали, почему у нас, несмотря на дырявость судов, крушения редки; норвежец, понятно, в случае бури норовит уйти подальше от берега, а наши в случае неминуемого крушения норовят сами выкинуться на берег и делают они это так ловко, что судно редко разбивается, а подчас, после того, просто потюкают топором, кое-что законопатят да замажут и норовят снова спустить и плыть дальше»44.
В рассказе поморского капитана, хорошо знавшего морские традиции Норвегии и Северной России, можно выделить ряд значимых культурно-типологических оппозиций. Высокой технологии норвежского кораблестроения противопоставляется допотопный, топорный образ поморского корабельного художества. Глубоко размеренному, рационально устроенному порядку норвежского образа жизни противопоставляются какие-то совершенно иррациональные, немыслимые и невообразимые для иностранцев русская отчаянность, русская удаль и сметливость. Отчаянность, бесшабашность, смекалка русского человека позволяли ему с избытком покрывать пробелы и недостатки его технологической, материальной культуры, которая извечно пребывала в состоянии недоделанности, незавершенности. Если для человека, воспитанного в рамках европейской технократической цивилизации, гораздо легче выбросить старую вещь и заменить ее новой, то русский человек, впитавший в себя традиционную «культуру-веру» (A.M. Панченко), с завидным упорством будет заниматься реставрацией старины, ее любовным «поновлением». В соответствии с типично русской технологической логикой «латания дыр» ведут себя и поморы, которые после чудесного избавления от гибели, «потюкав», «подконопатив», «подмазав» свою допотопную шняку, помолившись Богу, вновь смело пускаются в плавание.
223
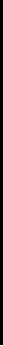 Все эти архетипические свойства русского характера, выводимые из его религиозной «страстности», не рассчитаны на нормальное, упорядоченное, человеческое существование. У «нормальных» европейских народов проявления подобной страстности возможны лишь в каких-то экстраординарных ситуациях, когда разрушается привычный порядок вещей и возникает угроза жизни человека или социума. В этом случае «страстность» выступает как некое восполнение утраченных жизненных потенций, как чрезвычайное дополнение к жизненной норме. В характере же русского человека отчаянность и удальство являются не какими-то окказиональными восполнениями и дополнениями жизни, а самой этой жизнью, которая для русского религиозного сознания всегда чревата смертью.
Все эти архетипические свойства русского характера, выводимые из его религиозной «страстности», не рассчитаны на нормальное, упорядоченное, человеческое существование. У «нормальных» европейских народов проявления подобной страстности возможны лишь в каких-то экстраординарных ситуациях, когда разрушается привычный порядок вещей и возникает угроза жизни человека или социума. В этом случае «страстность» выступает как некое восполнение утраченных жизненных потенций, как чрезвычайное дополнение к жизненной норме. В характере же русского человека отчаянность и удальство являются не какими-то окказиональными восполнениями и дополнениями жизни, а самой этой жизнью, которая для русского религиозного сознания всегда чревата смертью.Различное понимание «последних» вопросов бытия в русской и норвежской культурах породило и разные стереотипы экстремального поведения в гибельных, пороговых ситуациях, когда жизнь ставится на грань смерти. Если норвежцы, руководствуясь здравым смыслом, рациональным мотивом спасения жизни, выходят во время шторма в открытое море, то поморы, предпочитая добровольную смерть, выбрасываются на берег. Различия в поведении норвежцев и поморов основаны не только на различной телеологии двух культур («жажда жизни» и «жажда смерти»), но и на глубинных отличиях их пространственных менталитетов. Если для норвежцев изначальной стихией, в которой они рождались и умирали, являлось Море, то для русских по происхождению поморов такой материнской, рождающей и погребающей утробой исконно являлось русское Поле, воплощавшее в себе религиозно-мифологический образ матери-сырой земли, которая образовывала своеобразный материк в археологических слоях русской жизни: «Это только снаружи кажется — Советский Союз, а копни глубже — Россия. Ну, а если Россию копнуть поглубже? Не будет ли ее основой мать-сыра земля?»45. Укорененность образа матери-сырой земли в русском пространственном менталитете отмечал и Н.А. Бердяев: «Огромная русская земля, широкая и глубокая, всегда вывозит русского человека, спасает его. Всегда слишком возлагается он на русскую землю, на матушку Русь. Почти смешивает и отождествляет он свою мать-землю с Богородицей и полагается на ее заступничество»46.
В 1906—1907 гг. известный русский писатель и путешественник М.М. Пришвин совершил поездку на Русский Север, где по заданию Русского географического общества он занимался собиранием фольклорных и этнографических материалов. Летом 1907 г. Пришвин побывал в Норвегии. Свои впечатления о встрече с русскими поморами и норвежцами писатель изложил в книге «За волшебным колобком. Из записок на Крайнем Севере России и Норвегии».
«Записки» Пришвина являются уникальным этнографическим источником, поскольку в них, наряду с личностным, авторским восприятием Русского Севера и Норвегии, раскрываются глубинные этнические стереотипы, определявшие процесс взаимодействия русской и норвежской культур в Северной Европе.
Описание своего пребывания в Норвегии Пришвин начинает с рассуждения о том, что между русской и норвежской культурами существует «какая-то внутренняя интимная связь». Истоки ее писатель видит в норвежской литературе, «так близкой нам, почти родной» и в том, что Норвегия играла важную роль в приобщении России к европейской культурной традиции: «Европейскую культуру так не обидно
224
принять из рук стихийного борца за нее, норвежца. Что-то есть такое, почему Норвегия нам дорога и почему можно найти для нее уголок в сердце, помимо рассудка»47.
Следует отметить, что взаимопритяжение культур России и Норвегии прослеживается не только в сфере высокого искусства, но и в их так называемом традиционно-бытовом, народном или этническом слое. Весьма показательным в этом плане является наблюдение Пришвина о том, что в этническом сознании поморов сохранялось устойчивое представление о норвежцах как о самом лучшем народе среди европейцев. «На судах наши русские моряки встречаются и с англичанами, и с немцами, но всегда отдают предпочтение норвежцам: самый лучший народ норвежцы, слышал я сотни раз»48. Чем же объясняется приоритет норвежского в этнических ориентациях поморской культуры?
Приблизиться к ответу на поставленный вопрос помогает описание Пришвиным тех чувств и эмоций, которые он испытал в момент пересечения русско-норвежской этнической границы. «Я бывал не раз за границей, знаю это ощущение, но никогда не испытывал его так сильно, как теперь. Нигде, вероятно, и нет такого резкого перехода от случайного в жизни людей к чему-то общему, гармонично связанному. Нет ничего более контрастного, как мурманская жизнь поморов и норвежских рыбаков, города Александровска и Вардэ»49. То эмоциональное потрясение, которое М.М. Пришвин испытал в пограничной зоне встречи двух культур, было порождено не какими-то особенностями его личностного мировосприятия, его душевного склада. Напротив. Истоки этого «этнокультурного шока» уходят своими корнями в глубины русского национального самосознания, в этнические стереотипы восприятия Норвегии русским народом как «немецкой земли», выдвинутой непосредственно на границы Святой, православной Руси. Глубинная стереотипность подобного восприятия Норвегии породила своеобразный «литературный этикет» жанра записок русских путешественников, которые буквально слово в слово повторяют описание своего шокового состояния, вызванного пересечением русско-норвежской границы. Русский дипломат Бухаров, путешествуя по Лапландии, с горечью отмечал, что «нигде более, чем на русско-норвежской границе у церкви св. Бориса и Глеба, не встречается более разительной, тяжелой для нашего самолюбия разницы между порядками, существующими в России и рядом в Норвегии»50. В словах русского дипломата интерес представляет не его собственная оценка двух разных культур (аксиология здесь вообще неуместна), а тот глубинный, неосознаваемый и самим автором религиозно-культурный подтекст, который может быть осмыслен в терминах этносемиотики русско-норвежской границы. Категория «границы» — это одна из ключевых категорий культурологии, поскольку «вся культура — материал для сравнения, и любое сравнение образует факт культуры»51. Граница — это именно то пространство, где происходит встреча-сравнение культур, тот предел, где каждая из сравниваемых культур являет свою сущность в непосредственной, обнаженной форме. Поэтому на границе каждый факт той или иной культурной традиции обладает полем высочайшего семиотического напряжения, выступает обобщенным символом всей национальной культуры. Таким ключевым символом русской культуры, выдвинутой на свой последний рубеж, являлась церковь Св. Бориса и Глеба, которая вместе с другими православными храмами образовывала невидимую духовную границу российского православного царства на севере Европы. В
15 Зак. 519
225
пограничном строе православных святынь Северной России особо значимое место занимал храм, возведенный во имя первых русских святых — страстотерпцев Бориса и Глеба. Выдвинутость образа Св. Бориса и Глеба на северо-западные рубежи русского государства обусловлена их восприятием на Руси как святых благоверных князей — покровителей Русской земли: «Последний парадокс культа страстотерпцев — святые "непротивленцы" по смерти становятся во главе небесных сил, обороняющих землю русскую от врагов»52. Известно, что образы святых Бориса и Глеба были тесно связаны с образом св. Александра Невского — защитника Северной Руси от «немецких людей». Вероятно, именно эти религиозно-исторические коннотации однозначно определили возведение храма во имя св. Бориса и Глеба на границе Северной России и Норвегии как духовного форпоста русской культуры, встретившейся на Севере Европы с миром западноевропейской цивилизации.
На наш взгляд, именно это, обостренное ближайшим соседством, осознание глубочайшего контраста, принципиальной непохожести, инаковости двух культур и лежало в основе их взаимопритяжения, обоюдного интереса, продуктивного творческого диалога. Две морские культуры, развивавшиеся примерно в одних и тех же природно-географических условиях, имели существенные типологические различия. Эти различия осознавались и самими поморами, для которых статус норвежской культуры был гораздо выше, чем их собственной, русской. «Все, что в Норвегии, — хорошо, что в России — плохо»53. Отказ от признания ценностей своей культуры способствовал активному усвоению поморами стандартов норвежского образа жизни: «В Норвегии только и обучаемся, посмотрим на правду да на порядок, на вежливость. Вот хоть бы команду взять. Пришел в Норвегу, якорь бросил, все как шелковые: пьяных нет, порядок, спят вовремя. Приехал в Архангельск, опять свое» (там же).
«Учебная» экскурсия в Норвегию входила даже в структуру поморского свадебного ритуала: «Женки с нами первый год тоже на судах в Норвегу ходят, присматриваются». Пришвин отмечал, что медовые месяцы у поморов принято проводить в «Норвеге»54. Обучение норвежской культуре преследовало не только прагматические, но и символические цели. Поморы, осознавая себя в качестве отдельной, самостоятельной этнической группы, стремились к обособлению от материнской (материковой) русской культуры. «Почему же вы отделяете себя от России? — говорил я. — Вы же русские. — Мы не от России дышим... впереди вода, сзади мох. Мы сами по себе. Смотри, какой народ, молодец к молодцу, а ваш что, мякинник»55.
Заимствование и использование образцов и моделей более престижной норвежской культуры призвано было, с одной стороны, подчеркнуть социально-имущественный приоритет поморов над «голоштанной», «мякинной» Русью, а с другой — символически обозначить особость поморской культуры, ее границы и ее этнические ориентации. Подобным же образом зажиточный русский крестьянин, желая подчеркнуть свое превосходство над односельчанами, перестраивал свой быт («лад») на городской «манер».
Высоко оценивая норвежскую культуру, Пришвин тем не менее неодобрительно относился к поморскому норманнизму, усматривая в нем источник деформации самобытных, исконных начал северно-русской морской культуры. Говоря о поморах-норманнистах, писатель отмечал: «Это не те поморы, к которым лежит моя душа. Те совсем сливаются с стихией. Те плавают по океану на льдинах, подносят своему
226
богу звериные шкуры и деньги за спасение, курят табак в океане на дне опрокинутой лодки. А эти — обыкновенные хитрые купцы, они тут подучиваются у норвежцев вместе со своими женками и устраиваются хорошо»56.
Представления Пришвина об истинных поморах связывались с образом стихии. Стихийность поморской культуры означала прежде всего ее сопричастность природе. Русский Север, Поморье осознавались Пришвиным как «такое далекое место, где человеческое дело соединяется с делом природы в неразрывное целое»57. Услышав рассказ старого помора о зверобойных промыслах, Пришвин мечтал отправиться с артелыциками-юровщиками на льдине, чтобы изучить «эту самобытную организацию людей и зверей, похожих на человека».
Но стихийность поморской культуры заключалась не только и не столько в ее природосообразности, сколько, напротив, в несообразности, случайности, непредсказуемости, алогичности порождаемых ею моделей поведения. Не случайно, что многие «причуды» поморов были непонятны не только иностранцам (норвежцам), но и самому Пришвину, которому неоднократно приходилось слушать рассказы о поморских «пошехонцах». Норвежцы как носители европейской морской культуры «с хохотом встречают русского помора на том судне, которое они давно забыли и которое в Норвегии можно встретить только в музее...»58.
С удивлением Пришвин узнал, что «до сих пор еще русские моряки не считаются с научным описанием Северного Ледовитого океана. У них есть свои собственные лоции... описание лоции поморами почти художественное произведение. На одной стороне листа описаны берега, на другой выписки из Священного Писания славянскими буквами. На одной стороне — рассудок, на другой — вера. Пока видны приметы на берегу, помор читает одну сторону книги; когда приметы исчезают и шторм вот-вот разобьет судно, помор перевертывает страницы и обращается к Николаю Угоднику. Есть среди поморов, рассказывают мне, удивительные храбрецы. Раз один старик пришел из Архангельска в Гаммерфест без компаса. "Как же так? — спросил консул. — Как же ты шел?" Помор указал рукой какое-то направление. А раз было даже так, что один помор решил удивить Европу. Сделал почти совершенно круглую лодку, прицепил к ней паруса собственного изобретения и пустился океаном на Парижскую выставку»59.
В незамысловатых рассказах о поморских (пользуясь языком Н.С. Лескова) «левшах», «антиках», «очарованных странниках» ярко раскрываются особенности северной русской морской культуры, ее «национальный образ мира», ее принципиальные отличия от норвежской культуры. Эти отличия описывались Пришвиным как система противопоставлений случайного и общего (гармоничного), стихийного и культурного, хаотического и упорядоченного.
Наиболее ярким проявлением стихийности поморской культуры Пришвин считал «слетуху» — «мурманский праздник», «мурманский заколдованный круг». «Пока ловится наживка и дует мягкий горный ветер, идет рискованная, почти героическая работа. Как только перестала ловиться наживка или подует морянка, так начинается тоскливое ожидание парохода с вином, пропивание всего заработанного и слетуха»60.
Стихийность поморской культуры являлась обратной стороной идеи святости, занимавшей центральное место в структуре русского национального самосознания. «Даже идея святости в ее "русском" варианте в разных культурно-исторических контекстах порождала такие явления, как пренебрежение сим миром и упование
227
исключительно на иное царство, отказ от конструктивной деятельности и веру в спасение на пассивных путях, эсхатологизм и вышедший из-под контроля максимализм, приверженность к крайним ситуациям...»61.
Все эти «обратные» свойства русского национального самосознания ярко проявлялись в поморской культуре, причем даже в более усиленном варианте. Последнее объясняется рубежным характером поморской культуры, которая была проникнута постоянным ощущением жизни на пределе, на краю мира («морем только и живешь, а сторона выходит самая украйная, у край моря сидим»). Пространственный эсхатологизм поморской культуры, постоянное ожидание смерти и готовность к ней создавали благоприятные условия для распространения в Поморье эсхатологической идеологии, которая предполагала отказ от ценностей мира сего, пренебрежение к внешним условиям бытия человека и к самой его жизни.
В этом и заключалось одно из главных отличий поморской культуры от норвежской. Если норвежская культура была направлена на созидательную, конструктивную деятельность по преобразованию, окультуриванию внешнего мира, то поморская культура ориентировалась прежде всего на освоение своего внутреннего мира, занималась исследованием и строительством своей души (не случайно, что наиболее тонкий знаток и носитель поморской традиции Б. Шергин сопоставлял строительство корабля со строительством души).
Если норвежцы осваивали просторы Арктики, опираясь на морскую науку, то поморы, отправляясь в плавание, руководствовались логикой эсхатологического мифа, подвигавшего человека на открытие «Новой Земли» — нового мира. Не случайно поэтому, что поморские лоции представляли собой разновидность фольклорного предания, дополненного текстами Священного Писания, и что «водителем» («во-жем») поморов в их скитаниях по волнам студеного моря являлся Николай Угодник — «морской бог».
Вот это различие между наукой (материальным преобразованием внешнего мира) и религией (духовным преображением внутреннего мира человека) и определяло контраст норвежской и русской культур, способствовало установлению продуктивного диалога между ними. И если в процессе этого диалогического общения поморы обучались в Норвегии порядку внешней жизни, то норвежцы, в свою очередь, обучались на Русском Севере порядку жизни внутренней, законам строительства души.
* * *
Страннический тип русского пространственного менталитета роднит его с шаманским языком пространства ненцев и лопарей-саамов. Шаман — харизматический лидер этих народов Арктики — являлся монопольным знатоком и хранителем пространственной организации мироздания, главным путешественником и культурным героем. Однако, если шаман путешествует по хорошо известному, циклически замкнутому, из ритуала в ритуал повторяемому пространству макрокосма, то русский странник устремлен в неизвестное. Подобно странствующему герою русского фольклора, он идет «туда, не знаю куда» или «куда глаза глядят». Для шама-нистского языка пространства не существовало никакой объективной внеположен-ной реальности, кроме вечной и абсолютной реальности собственной космологии, что в принципе не предполагало какого-то внешнего («технологического») освоения арктического пространства. В этом смысле шаманский тип освоения пространства
228
близок русскому, странническому. Странник, хоть и «ходит по земле, но стихия его воздушная» (Бердяев). Однако, если шаман ищет подтверждения незыблемости, устойчивости мира, то русский странник взыскует обрести преображенный мир «нового неба и новой земли». Мир странника развернут и устремлен в грядущее. Мир шамана свернут в космологический цикл. Поэтому шаманский тип освоения пространства сводился к наложению мифологической географии космоса на реальную географию Арктики. География арктического пространства превращалась в ее космографию, в пределах которой и развертывался циклический мифо-ритуальный сценарий жизни северных номадов — оленеводов, рыбаков и охотников.
Исходя из единой шаманистской парадигмы, ненцы и саамы создали глубоко различные, этнически своеобразные механизмы освоения арктического пространства и основанные на них стереотипы пространственного поведения.
