Литература коренных народов крайнего севера
| Вид материала | Литература |
СодержаниеЗдравствуй, школа! Лисья шапка Под снегом Первая охота |
- "О совершенствовании системы образования и сохранения самобытных коренных малочисленных, 1085.37kb.
- Литература коренных народов севера хрестоматия для учащихся 1 класса, 326.36kb.
- Программа для русскоязычных стажеров (обучение проводится на русском языке), 254.02kb.
- Темы дипломных работ Молодежь Крайнего Севера: проблемы и перспективы. Социальная политика, 31.08kb.
- Закон РФ от 19 февраля 1993 г. N 4520-1, 210.34kb.
- Общественно-политическое движение коренных народов якутии (конец 1980-х 1990-е гг.), 336.61kb.
- 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская,, 829.05kb.
- Положение коренных малочисленных народов Севера Нарушение права на благоприятную окружающую, 982.85kb.
- Аварийная служба по газобаллонным установкам, 240.97kb.
- Краевая научно-практическая конференция, 34.31kb.
Здравствуй, школа!
Конец августа, ночи стали тёмные и холодные. Проснёшься рано утром — земля белым-бела от инея, но с первыми лучами солнца иней исчезает. Он, как парок лёгкого дыхания, тает в воздухе. Иногда идут холодные дожди, постепенно переходя в мокрый снег. Почти никто не топит печку на улице. Наступает осень. Осень на севере коротка. Уже к концу сентября замерзает река.
Незаметно подошло первое сентября, и мне предстояло идти в школу в подготовительный класс. Дело в том, что в селе не было детского сада, и многие ребятишки плохо знали русский язык, поэтому в подготовительном классе обучали детей русскому языку. Уроки проходили примерно так. Учитель брал в руки карандаш и, показывая его классу, говорил: «Это, дети, карандаш». Потом показывал тетрадь, резинку, ручку — почти все предметы, какие попадались ему на глаза. Учителей в школе работало всего двое, и поэтому в одной комнате одновременно занимались два класса — ребята из подготовительной группы и второклассники, первоклассники с третьеклассниками, и только четвёртый класс занимался отдельно, после обеда. Ребята постарше уезжали учиться в Зырянку.
Портфели в то время были большой редкостью, и бабушка из мешковины сшила мне сумку с длинной лямкой, украсив её бисером, а края оторочила горностаевой шкуркой. Первого сентября, положив в сумку тетрадь и букварь, доставшийся мне от сестры, я в новых брюках и рубашке вместе с сестрой, бабушкой и Казбеком отправился в школу.
Отец и мама ушли уже на работу. Тамара хотела взять меня за руку, но я заупрямился. Не хватало, чтобы меня вели как маленького. Сестра несла в школу букет багряных и жёлтых листьев.
Бабушка шла за нами, словно на лыжах скользила, и бормотала:
— Учись, учись, будешь большим человеком, начальником. Я вот так и не научилась читать.
Перед школой уже собрались взрослые и дети, нарядно одетые. Школьной формы тогда не было. Девочки держали в руках лесные цветы и листья. Все поёживались от холодных порывов ветра. Наконец вышли учителя, и с ними председатель колхоза. Сначала они о чём-то между собой горячо поспорили, потом председатель колхоза обратился к собравшимся, но я почти не слушал: следил за Казбеком, как бы его не покусали большие собаки. Потом на крыльцо поднялась маленькая девочка в белом платье, с тяжёлым колокольчиком в руке и начала звонить. Все облегчённо вздохнули, а собаки от неожиданности перестали задирать друг друга, замерли, недоумённо вертя хвостами. Эхо за рекой тонким голосом повторило переливы звонка.
На первых же уроках учитель заметил, что я знаю русский лучше других ребят подготовительного класса, и, чтобы мне не было скучно, дал мне отдельное задание. На листе тетради в косую линейку он нарисовал несколько палочек и велел продолжить. Я, высунув язык, принялся за дело и разлиновал страницу во всю длину её бледно-голубых косых линий. Минут через десять я закричал:
— Михаил Михайлович, я всё сделал!
Увидев мою старательно разлинованную тетрадь, учитель улыбнулся.
Вторую страницу я заполнил правильно в пять минут и опять горделиво доложил:
— Михаил Михайлович, я уже закончил!
За окном гулял Казбек. Мне захотелось к нему.
— Можно, я пойду домой, меня Казбек ждёт? — высоко подняв руку, попросился я.
Второклассников это очень рассмешило. Учитель растерянно посмотрел на меня, словно думал о чём-то другом. К удивлению всех учеников, медленно проговорил:
— Да, пожалуй, ты можешь идти. Завтра перед уроками подойдёшь ко мне.
Казбек встретил меня радостным лаем и сразу начал трепать сумку. Я приказал ему нести её домой. А сам пошёл, засунув руки в карманы брюк, выпятив грудь, а впереди бежал Казбек с сумкой в зубах.
— Ты удрал с уроков? — ахнула мать. — Зачем собаке сумку отдал?.. Наверно, там чернильница опрокинулась да и тетради порвал?
Мать хорошенько шлёпнула меня, и Казбеку досталось. Но это нисколько не омрачило моей радости, я гордо сказал:
— Меня учитель отпустил.
Мама разложила на столе содержимое сумки — тетради и букварь, рогатку, деревянную свистульку и конфеты. Тетради оказались изжёванными и залитыми чернилами, конфеты замусолены. Мне стало ясно, почему Казбек с таким удовольствием трепал мою сумку. Но я на него не рассердился и отдал ему конфеты.
На следующий день учитель сказал, что я зачислен в первый класс. Учиться мне было интересно и легко. Казбек всегда после уроков встречал меня возле школы. Теперь он, зная, что я пробуду несколько часов в школе, приходил только к концу занятий. Сумку я ему больше не доверял.
Лисья шапка
На зиму бабушка сшила мне ярко-рыжую лисью шапку. Она была мне велика и постоянно сползала на глаза, так что всё время приходилось поправлять её. Я очень гордился своей шапкой, да и мама радовалась—теперь она могла издалека узнать меня.
В нашем селе был интернат для детей, родители которых кочевали с оленьим стадом, уезжали зимой в охотничьи угодья. Ребята постарше сами носили из проруби воду для кухни, благо интернат стоял недалеко от реки. Во льду пробивали две проруби — одну для скота, другую для людей.
Однажды я увязался с ними, за мной побежал, как всегда, и Казбек. Стоял сорокаградусный мороз. Вода в проруби начинала на глазах схватываться тонкой коркой льда, и тот, кто приходил спустя полчаса, должен был пешнёй, что торчала в снегу возле проруби, пробить корку льда порядочной толщины.
Я важно шагал впереди всех, засунув руки в карманы, в лисьей шапке по самые глаза. Позёмка запорошила тропинку, и я не заметил заметённую прорубь для скота — ахнуть не успел, как очутился в воде. К счастью, успел зацепиться руками за неровные края проруби. Я онемел от страха, меня тянуло под лёд, шапка совсем закрыла глаза. Поправить её я не мог: оторви я руку ото льда — меня бы мигом унесло под лёд.
Ребята очень удивились моему внезапному исчезновению. Перед ними лежала лишь рыжая шапка, а Казбек, решив, что это новая наша игра, сразу вцепился в шапку зубами и сдёрнул с головы. Увидев меня с вытаращенными, как у варёного карася, глазами, ребята опомнились и, схватив за обе руки, мгновенно вытащили на лёд. Одежда на мне обледенела — ни согнуться, ни шагу ступить, — и меня, как бревно, поволокли на берег. Рядом бежал Казбек и нёс мою шапку.
После такого купания я проболел две недели. Мать и бабушка всячески меня баловали, даже пускали в избу Казбека, которого отец строго-настрого приказал держать всю зиму во дворе, чтобы не приучался к теплу. Шерсть Казбека была короче, чем у обычных северных лаек, но густая. Впрочем, особенно от мороза он не страдал. Отец убрал из конуры тряпки и разрешил оставить лишь сено на подстилку. Казбек сворачивался калачиком, хвостом укрывал мордочку. К утру шерсть его покрывалась инеем.
Влетев в избу вместе с клубами холодного воздуха, Казбек стремглав кидался под мою кровать, опасаясь, что его выгонят наружу, и там нервно постукивал хвостом по полу. Через некоторое время, отогревшись и осмелев, высовывал сначала нос, потом появлялась его хитрая мордочка, а затем, боязливо озираясь, он вылезал из-под кровати и начинал прыгать возле меня, предлагая поиграть.
— Не гладь его, он холодный, опять простудишься, — ворчала мать.
Я вытаскивал из-под подушки гостинец, припрятанный для Казбека, и угощал мохнатого друга. В благодарность он лизал мои руки и пытался, подскочив, лизнуть лицо.
Испытание
Прошли мои первые каникулы. Как-то я и одной книге вычитал, что человек может обходиться без еды около сорока лиси Меня это так поразило, что я тайком от всех решил попробовать - не есть хотя бы недели две. Неделю мне всякими правдами и неправдами это удавилось. Я говорил, что ел в интернате, у соседей, у моего друга Коли. Дома, стоило матери отойти, я сливал суп обратно и кастрюлю, жареную рыбу или мясо прятал в кожаный мешочек для Казбека. Пил только чай, да и тот без сахара. К концу недели у меня кружилась голова, ноги были как ватные, я очень осунулся. Это не ускользнуло от бабушки и матери, они всячески старались накормить меня и не очень-то верили, что я пообедал в интернате или у соседей.
На восьмой день, очередной раз избежав обеда, я решил пойти на лыжах на противоположный берег реки. День стоял ясный и морозный. Отец из лиственничных досок сделал мне широкие лыжи, но не обил их оленьей шкурой. На охотничьих лыжах, обитых шкурой, можно спокойно подниматься на сопки, так как скатываться назад мешает шерсть.
Мы с Казбеком благополучно добрались до середины реки. И вдруг одна лыжа носом глубоко ушла в снег, и я повалился на бок. Вторая лыжа зацепилась за первую. И сколько я ни пытался, не мог освободить ноги. Я барахтался и всё глубже и глубже зарывался в снег. Из рассказов охотников я знал, что таким образом погибали даже опытные охотники, но не очень-то верил. Если руки свободны, как это человек не может снять лыжи? Теперь сам убедился: не может... Казбек бегал вокруг и лаем воодушевлял меня. После семидневного голода я был слаб, как цыплёнок, поэтому очень быстро устал и решил отдохнуть — сладкая истома охватила меня, я закрыл глаза и незаметно уснул.
Очнулся дома: мама и бабушка растирали мне ноги, руки, лицо снегом. Спас меня мой верный Казбек. Когда я задремал в снегу, он, почуяв неладное, помчался домой и стал громко скулить и лаять. Бабушка с матерью, увидев Казбека одного, да к тому же чем-то встревоженного, всполошились. Казбек нетерпеливо лаял и тянул бабушку за подол, явно куда-то звал. Бабушка, прожившая долгую кочевую жизнь и хорошо знавшая собак, крикнула матери, чтобы она одевалась, сама же, как была в лёгкой заячьей душегрейке, бросилась вслед за собакой. С берега она увидела: посреди реки лежит неподвижно что-то чёрное... С помощью соседей меня привезли домой. Так бесславно окончился мой опыт с голоданием.
Под снегом
В марте снег у нас ещё не тает, но уже ярко и тепло светит солнышко. Появляются первые снегири. Брюшки у них красненькие, а головки и хвосты чёрненькие. Прыгают они возле нашего хотона — хлева, где мы сваливаем навоз. В конце мая навоз мы отвозим на поля. В хотоне, куда солнце проникает через небольшое окошко, стоит похудевшая за зиму Дочка. Корова протяжно мычит, просясь на улицу.
После февральских метелей выросли огромные сугробы. Возле школьного забора, куда, расчищая двор, сгребали снег, образовался длинный сугроб, высотой около двух метров. Совместными усилиями мы превратили этот сугроб в крепость, вырыли в нём подземные ходы, из плотных снежных кирпичиков возвели стены.
Как-то после занятий, когда ещё никого не было на школьном дворе, мы с Казбеком забрались в крепость и поползли по подземным ходам. Когда мы были примерно в середине подземного хода, ребята выскочили во двор, хохоча взобрались на крепость и стали кидаться снежка ми. Тут потолок подземного хода не выдержал и обвалился на нас. А ничего не подозревавшие ребята продолжали свою весёлую возню. Мне сразу стало тяжело дышать. Я стоял на четвереньках и слышал отрывистое дыхание Казбека.
Я не мог двинуть ни руками, ни ногами. На моей спине лежал полуметровый слой плотного снега. Кричать было бесполезно. Но воздух, очевидно, всё-таки проникал сквозь небольшие трещины. Если бы я хоть одной рукой попытался разгрести снег, то меня сразу придавил бы груз, лежащий на спине.
У Казбека же, находившегося в более лёгком положении, чем я, потому что вся тяжесть пришлась на мою спину, видно, сработал инстинкт. Во время пурги часто заносит снегом человека и его собак, попавших в ненастье. Иногда они по три дня сидят под снегом, пока не кончится пурга, затем совместными усилиями начинают выбираться из толщи снега.
Слышу, за моей спиной кто-то скребётся и сыплет снег на мои ноги. Это Казбек начал пробиваться наверх. «Казбек, Казбек, вперёд, вперёд», — подгонял я его, так как начал задыхаться от нехватки воздуха. Казбек удвоил свои усилия. И скоро волна свежего воздуха ворвалась наше заточение. Появись перед ребятами из-под снега сам якутский чёрт абаасы, они бы меньше испугались. Все закричали от страха и разбежались. Только издали признав Казбека, вернулись и тут увидели мои ноги. Ещё через минуту меня, полузадохшегося, извлекли из снежного плена.
Бабушка и мать, узнав о происшедшем, затискали Казбека. А сестра сказала:
— Казбек совсем как человек! — и, немного подумав, в рифму добавила: — Казбечина- человечина.
Это всем очень понравилось, особенно мне. Я гладил Казбека и повторял:
— Казбечина-человечина...
А отец сказал:
— Вот не ожидал. Я-то думал, что сын совсем испортит собаку. Нет, Казбечина-человечина, в это лето возьму тебя на охоту вместе с твоим хозяином. Будете привыкать к охотничьему делу.
Ледоход
В начале мая на реке ещё прочно стоит лёд. Он тронется в конце мая. В лесах снег почти не тает, лишь на опушках появились чёрные проталины. Они пахнут солоноватым и пряным потом земли. В селе снег почти весь растаял, и потоки воды устремились к реке. Между посиневшим, как небо, льдом и галечным берегом появилась узкая полоска тёмной воды, наполняя сердца людей радостью ожидания первых перелётных птиц. Эта полоска с каждым днём становится шире и шире. Ночами слышно, как звонко лопается лёд. Давно уже начищены и смазаны дробовики, заряжены патроны, приготовлены сети и болотные сапоги. На берегу пылают костры, пахнет паклей и смолой — это шпаклюют и смолят тяжёлые деревянные лодки. Они лежат перевёрнутые вверх дном, полосатые, похожие на арбузные корки.
У нас считается счастливым тот, кто первый увидит стаю перелётных птиц. Раньше всех прилетают лебеди и гуси.
«Летят, летят!» — вдруг разносится по селу, и сотни пар глаз вглядываются в холодные просторы неба, где усталым, нестройным клином летят птицы, издали гортанным криком приветствуя свою суровую родину.
И с земли до них доносятся ответные приветствия. Взрослые от радости кричат и машут им шапками, как дети. Мальчишки, сложив ладошки лодочкой, дуют изо всех сил, и получается звук, похожий на лебединый крик.
Что влечёт птиц в ещё полные снегов родные края, где подчас они погибают от весенних заморозков, где им ещё нечем питаться? Но они летят и летят...
Перед охотой я работаю не покладая рук. Отец заставляет меня нарезать пыжерезкой войлочные и картонные пыжи. На небольшом деревянном чурбанчике я превращаю старые валенки в решето, такая же участь ждёт и картонные ящики. Обрезки валенок и картона разбросаны по всей избе. Затем мы с отцом начинаем заряжать патроны.
В конце мая мы с ребятами целыми днями пропадаем на реке, ждём, когда же тронется лёд. Это необычайно захватывающая картина. Огромные льдины толщиной в полтора метра трещат, лезут друг на друга, давят... Шум стоит небывалый.
Но вот лёд тронулся. Сначала дорога через реку шевельнулась, как живая, и вдруг на наших глазах вся перекосилась, разошлась зигзагами и поползла вниз по течению. С верховья реки, нарастая, катится гул ломающихся льдин. Огромное ледяное поле напряглось и стало вспучиваться и наконец с шумом орудийного выстрела лопнуло и вздыбилось. Вороны шумно поднялись с льдин и, каркая, стали кружить над обезумевшей рекой. Откуда-то из глубины реки вся чёрная от песка и гальки, тараня ледяное поле, выскочила льдина, чёрная вода выплеснулась вслед за ней на белоснежное ледяное поле. Вот, дрожа от страха, помчался по льдинам зайчишка. Но маленькая льдинка, на которую он вскочил, вдруг накренилась и ушла под воду, подминаемая большой льдиной.
Взрослые и дети завороженно следили за буйством природы. Движение льдин вдруг замедляется. Затор. Огромные льдины, что по краям реки, неведомой силой выталкиваются на крутые берега.
Кто-то из старых охотников выходит на берег с двустволкой. Раздаются два выстрела подряд. Звук выстрела хлёстко бьёт по льдинам, помогая реке. Она с шумом прорывает затор и ещё быстрее несёт на своих бурных водах льдины.
Через полдня заметно редеют и мельчают льды, появляются широкие полосы чистой воды.
Пришла на берег и бабушка, накинув на плечи заячью душегрейку. В руке она держала потёртый кожаный мешочек, в котором хранила медяки. Бабушка встала в сторонке от людей, жадно глядя на реку.
Я подошёл к ней. Она погладила меня по голове. Рука у неё жёлтая, пальцы кривые, похожие на корни старых деревьев.
— Вот и мать-река, кормилица наша, проснулась.
Она вынула из мешка горсть медных монет и бросила в бурлящий поток.
— Мать-река, будь добра к нам, накорми нас своей рыбой, накорми и напои всех птиц и зверей, не губи в своих водах наших мужчин, не затопляй наших домов... Подай и ты реке-матушке,— протянула она мне несколько монет.
Я застеснялся, но взял у неё медяки и бросил в воду.
Сразу после ледохода вода всё ещё продолжает прибывать. Лишь отдельные мелкие льдины изредка проплывают по реке. Зато плывёт по реке сплошным потоком плавник, смываемый с кос и островов реки, плывут деревья, обрушившиеся с подмытых крутых берегов. В это время мужчины заняты заготовкой дров, и мальчишки помогают им. Вокруг села растут только ивы да тальник, и поэтому женщинам и детям приходится далеко ходить за дровами, на самый конец Чайкакутурука, где скапливается плавник. А разве много принесёшь на себе? По большой же воде мимо села плывёт много готовых дров. Мальчишки вооружаются длинной верёвкой с кошкой-крюком на конце и, подцепив проплывающий плавник, причаливают его к берегу. Мужчины садятся на ветки1, отплывают подальше от берега, привязывают большие брёвна, проплывающие по реке, и тянут к берегу. Кучки дров, больших и маленьких, вырастают на берегу. Наша кучка самая маленькая. Мне не удаётся далеко забросить кошку, да и ребята постарше перехватывают хороший плавник. Я решил их перехитрить. Едва рассвело — а светало очень рано, время уже шло к белым ночам,— я встал и, наскоро одевшись, выскочил на улицу. Было холодно, над рекой поднимался туман. На берегу никого не было. За мной, как всегда, увязался Казбек. Я был рад ему: хоть одна живая душа со мной. Никто теперь не мешал мне. Работал я споро. Верёвка почти до крови истёрла мне руки, но я ловил и ловил дрова, с трудом вытягивая их из воды.
Деревня просыпалась, вовсю запели петухи, слышно было, как женщины, гремя подойниками, идут доить коров.
Вдруг я заметил огромное дерево. Вряд ли два таких, как я, мальчика обхватили бы его ствол. Дерево медленно плыло совсем недалеко от берега. Я бросил крюк-кошку. Она удачно зацепилась за корни дерева. Изо всех сил, стиснув зубы, я потянул его к берегу. Но оно лишь слегка поддалось и, как норовистый олень, стало упираться. Течение отбивало его от берега. Чуть не плача от злости, я немного отпустил верёвку и
снова потянул. Но дерево не поддавалось и с силой потянуло меня к самому краешку берега. Одна нога очутилась в воде, и
1ветка - легкая лодка.
сквозь дырявый кирзовый сапог меня обожгла ледяная вода.
— Казбек! — крикнул я. — На, бери! — и сунул ему в пасть конец верёвки. — Тяни, Казбек, тяни.
Дерево дёрнулось, и я обеими ногами очутился в воде.
Казбек злобно зарычал, не выпуская верёвки, и, упираясь всеми лапами, стал тянуть на себя. Наконец дерево сдалось и медленно двинулось к нам. От боли у меня катились слёзы по лицу, но я тянул и тянул. Злобно рыча, тянул и Казбек. Наконец мы причалили дерево к берегу. Конечно, вытянуть из воды такую громадину мне было не по силам. Я привязал один конец верёвки к корням дерева, другой за кол, вбитый на берегу. Тут только я увидел старика Гаврилу. В старой телогрейке, с посохом в руке, он внимательно следил за мной, покуривая свою почерневшую от времени трубочку.
Я устало опустился прямо на гальку, из моих сапог лилась вода: со мной рядом, тяжело дыша, прилёг Казбек. Я обнял его и стал молча гладить.
— Хорошее дерево вы поймали, большое. Такое и взрослый человек может не удержать, — сказал дед Гаврила.
Я отвернулся, чтобы он не увидел моё заплаканное лицо.
— Это тополь. Такие толстые деревья вырастают только далеко в верховьях реки. Из него можно выдолбить хорошую лодочку.
Я молчал, болели руки, стёртые до крови. Посредине реки плыла ослепительно белая льдинка. Последняя льдинка ледохода.
Первая охота
В июне все охотники ушли на охоту.
И вот однажды около песчаного островка неподалёку от села опустилась стая уток. Ребята заволновались: кто-то побежал за взрослыми. Утки спокойно плавали, окуная головы в воду. Я метнулся к амбару: там лежала отцовская мелкокалиберная винтовка. У меня же было припрятано несколько патронов.
За мной погналась бабушка:
— Куда ты, разбойник? Людей перестреляешь!..
— Утки, утки! — кричал я, волоча винтовку, которая была намного длиннее меня.
До этого я уже несколько раз стрелял из мелкашки. Если приклад упереть в плечо, то мои пальцы вряд ли достанут до курка. Я присел на корточки, приклад просунул под мышку и, поставив прицел на сто пятьдесят метров, долго ловил в прорези мушку и чёрные пятна уток. Я расстрелял все патроны и даже видел фонтанчики от выстрелов возле уток. Утки каждый раз недоуменно крутили головами. Бабушка стояла рядом и при каждом выстреле приговаривала по-юкагирски:
— Боги, помогите ему!
Но вот раздался выстрел дробовика, и я увидел на реке лодку, про

 кравшуюся вдоль противоположного берега к стае. Птицы тяжело поднялись, оставив две или три чёрные тушки на воде, сразу перевернувшиеся кверху белым брюхом.
кравшуюся вдоль противоположного берега к стае. Птицы тяжело поднялись, оставив две или три чёрные тушки на воде, сразу перевернувшиеся кверху белым брюхом.Когда ветка причалила, бабушка подошла и о чём-то поговорила с весёлым круглолицым молодым парнем по имени Илья. Потом, торжественно неся в вытянутых руках убитого селезня, поднялась на берег.
— Смотри, это ты сам убил. Мне Илья так сказал.
От радости я пустился в пляс, потрясая мелкашкой, как копьём; вокруг меня прыгал Казбек. Ноздри его раздувались от любопытства, он всё старался обнюхать утку.
— Как ты обращаешься с ружьём? — рассердилась бабушка. — Вдруг оно ненароком выстрелит? — Но тут же сменила гнев на милость и просияла: — Теперь ты настоящий охотник.
Вечером мать торжественно подала мне первому, как мужчине, лучшие куски утятины — лопатки и ножку. Мама и бабушка ласково смотрели на меня. Сестра сгорала от зависти и смотрела на меня с благоговением.
С тех пор прошло много лет, но и теперь меня ещё мучают сомнения. Правда ли, что я, а не Илья убил утку? О чём с ним говорила бабушка? Но теперь не дознаться правды — бабушка умерла, а Илья утонул. Но тогда я был уверен, что это убил я. До сих пор помню белые фонтанчики от пуль возле уток.
Я собрал утиные косточки и отнёс их Казбеку, но он, обнюхав, презрительно отвернулся.
— Хороший будет утконос,— похвалила бабушка.— Видишь, он не ест ни утятины, ни утиных косточек.
В июне случаются первые грозы, частенько выпадает град, а то и снег. Перед грозой поднимается ветер. Мы с Казбеком бежим домой. Я очень боялся грозы.
— Бабушка, смотри, небо раскалывается! А может оно насовсем расколоться и упасть на землю?
— Конечно, может,— отвечала бабушка, и я ещё больше пугался грозы.
Мне казалось, что небо вот-вот развалится, серые огромные куски упадут на землю и придавят меня. Вот дом, пожалуй, не раздавят. Я представлял, как эти серые огромные куски валяются по улицам: взрослые ходят и ворчат, а мы, дети, играем среди этих глыб в прятки.
Отец начал учить меня с Казбеком ездить на ветке. Сначала он посадил меня одного на ветку — лодочка подо мной запрыгала, как норовистый конь под неопытным седоком.
— В ветке надо сидеть спокойно, не вертеться в разные стороны, — объяснял отец, — а то мигом очутишься в воде.
Затем мы плавали с отцом; я сидел за его спиной и боялся шелохнуться. Но чем тяжелее груз, тем устойчивее ветка. Я со страхом наблюдал, как мы удаляемся от берега к середине реки, и вспоминал, как я плыл «пароходиком». До этого случая я не понимал, как это люди могут тонуть. Я рассуждал так: «Как бы ни была глубока река, всё равно она имеет дно. Вот, к примеру, ты утонул и попал на дно реки. Ну и что же — иди спокойно по дну реки к берегу, не можешь идти — ползи».
Вокруг нас холодная и тёмная вода, и кажется, что у неё нет дна.
«Как это рыбы живут в такой холодной и тёмной воде? — думал я с тоской. — Если перевернёмся, надо будет ухватиться за ветку: она деревянная, не потонет, а отец меня спасёт».
Для меня отец был всемогущ.
Однажды отец посадил в ветку и Казбека. Я сидел позади отца, а Казбек — впереди. Казбек беспокойно вертелся, и мы перевернулись. Хорошо, что это случилось недалеко от берега. Потом я понял: это входило в программу обучения. Тотчас мы снова сели в ветку. На этот раз отец строго приказал Казбеку:
— Сыт, сыт, сыт, ходок, ходок!
И «сыт» и «ходок» означают «лежи». Только сыт — по-юкагирски, а ходок — по-якутски. Отец разговаривал с собакой по-юкагирски и по-якутски. Казбек быстро понял, что от него требуется, так как вмешался я, крича по-русски:
— Казбек, лежать, лежать!
За год я научил его давать лапу, носить в зубах мои вещи, ложиться по команде, подавать голос и ходить на задних лапах.
Через день мы с отцом поехали на одно из таёжных озёр поохотиться и половить карасей. Учителем для Казбека отец взял свою старую собаку, по кличке Ласка. Кличка ей, вообще, не подходила: во-первых, это был кобель, во-вторых, совсем неласковый. Кроме отца, он никого не признавал. Мои ласки он принимал с какой-то брезгливой досадливостью и весь преображался, когда его ласкал отец. Мы выехали на три дня. Ветка была перегружена вещами: палатка, небольшая железная печурка, мешок с сетями, утиные манки1, еда на три дня, ружья и боеприпасы. Конечно, для собак места и вовсе не осталось. Мы поплыли вверх по течению. Казбек сначала жалобно заскулил, затем прыгнул в воду и поплыл за нами, но его относило течением.
— Папа, возьмём Казбека, — умолял я.
— Ничего, ничего, пусть берёт пример с Ласки.
Ласка преспокойно бежала по берегу за нами.
— Казбек, назад! По берегу, Казбек! — кричал я, словно он мог понять меня.
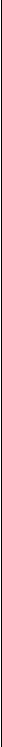 Видя, что по воде нас не догнать, Казбек выскочил на берег и с жалобным лаем бросился догонять Ласку. Ласка бежала неторопливо, даже с какой-то ленцой, умело выбирая самые лёгкие тропы, обходя завалы плавника, на сильно крутых берегах взбиралась наверх и бежала хорошо проложенными тропами. Казбек же бежал напролом, жалобно лаял, застревал в завалах, срывался с крутых обрывов, стараясь не терять нас из виду. Его жалобный лай то нагонял нас, то отставал. Стараясь подбодрить друга, я постоянно окликал Казбека, пока отец не оборвал меня:
Видя, что по воде нас не догнать, Казбек выскочил на берег и с жалобным лаем бросился догонять Ласку. Ласка бежала неторопливо, даже с какой-то ленцой, умело выбирая самые лёгкие тропы, обходя завалы плавника, на сильно крутых берегах взбиралась наверх и бежала хорошо проложенными тропами. Казбек же бежал напролом, жалобно лаял, застревал в завалах, срывался с крутых обрывов, стараясь не терять нас из виду. Его жалобный лай то нагонял нас, то отставал. Стараясь подбодрить друга, я постоянно окликал Казбека, пока отец не оборвал меня:— Перестань, никуда твой Казбек не денется. Пусть привыкает и учится у Ласки.
В одном месте нам нужно было пересечь реку. Ветка глубоко сидела в воде. В душе у меня жил двойной страх — за нас и за
Казбека. О Ласке я думал с неприязнью, хотя мне нравилось её спокойствие. Она преспокойно пустилась вплавь за нами, а Казбек сначала засуетился, затем с жалобным повизгиванием поплыл за Лаской, изредка оглядываясь, как бы колеблясь: «А не вернуться ли назад?»
Я мысленно подбадривал Казбека и в то же время со страхом следил за веткой. Казбек ещё ни разу не переплывал
1 манок- свисток для приманивания птиц и зверей; здесь - чучело утки.
реку. Когда миновали середину реки, я вздохнул с облегчением. Ветка ткнулась в низкий илистый берег у небольшого ручейка, впадающего в реку.
— Здесь до озера метров триста, будем тянуть ветку волоком, — пояснил отец, вытаскивая толстую верёвку и две собачьи упряжки.
Подбежавшая Ласка деловито впряглась в свою упряжку, а Казбек не мог понять, что от него хотят, да и упряжка была ему явно велика. Тащить ветку по сырой траве было легко, несмотря на то, что Казбек путался под ногами. Я его подгонял криком: «Вперёд, Казбек, вперёд». Но вот и Казбек втянулся во всю мощь своих силёнок, и ветка пошла совсем легко. Несмотря на жаркую погоду, мы с отцом были тепло одеты: в фуражках с накомарниками, в толстых пиджаках, в сапогах и рукавицах. Комаров было так много, что спина идущего впереди отца вся была покрыта комарами.
Вскоре мы подошли к озеру. Видно было, что здесь когда-то стояла палатка: лежали длинные жерди, были вбиты колышки, припасён для костра сушняк. Высоко на дереве висел небольшой брезентовый мешочек.
— Папа, смотри, мешочек забыли! — воскликнул я, снимая его с дерева.
— Это не забыли, а специально оставили. Таков охотничий обычай. Вдруг кто-нибудь попадёт в беду. Там сухари, коробок спичек, чай, сахар, соль.
И верно, всё было аккуратно запаковано, чтобы не промочил дождик. Я тайком от отца вытащил из нашего рюкзака горсть конфет, сунул в этот брезентовый мешочек и повесил его на место. Пусть кто-нибудь попьёт чай с конфетами.
Мы с отцом быстро поставили палатку, вернее, ставил отец, а я, как это всегда получается от чрезмерного усердия, больше мешал, чем помогал: сорвал уже закреплённый угол палатки, повалил печурку, и если отец просил меня принести какую-то вещь, то я приносил ему совсем не то. Пол палатки мы устлали ветками лиственницы, растянули внутри полог из белого плотного материала, под пологом постелили оленьи шкуры.
Наказав мне развести костёр и вскипятить воду, отец уплыл на ветке ставить сеть на карасей.
— Не успеет вода в котелке закипеть, как я вернусь.
И вправду, не прошло и пятнадцати минут, как отец причалил и вытащил на берег десятка два крупных карасей.
— Не успеешь в одном конце выпутать карася, как в другом уже два бьются.
Он быстро и ловко почистил и разделал рыбу, а я всё никак не мог управиться. Первый мой карась уплыл от меня, и второй норовил выскользнуть из моих неумелых рук. Я тогда подумал: «Отец, пожалуй, лучше бабушки и мамы рыбу чистит, почему же он дома не помогает маме?»
Весело потрескивал огонь, на тагане висел котелок. Отец взял щепотку табака, чаю, сахара и бросил в огонь, сказав по-юкагирски:
— Всесильный огонь, дай нам удачной охоты.
Я с интересом наблюдал за отцом.
— Так положено по охотничьему обычаю. Ведь благодаря огню мы живы и сыты.
По-иному посмотрел я теперь на огонь. Он весело потрескивал, словно что-то говорил мне.
— Лосил, юкой шома кесь! (Огонь, маленький человек пришёл! Дай ему удачной первой охоты!) — сказал отец по-юкагирски.
Караси были толстые, жирные, попадались и с икрой. Я съел их очень много, не меньше чем отец, и сразу почувствовал себя ленивым-ленивым, захотелось спать.
— Пап, а почему это мне вдруг спать захотелось, ведь ещё день?
Отец усмехнулся:
— Это ты наелся ленивых и толстых карасей — вот тебе их лень и передалась. Они ведь только и делают, что едят и спят. Забираются глубоко в ил, как в заячье одеяло, и дремлют.
— Смотри, папа, и Казбеку тоже передалась лень.
Брюхо Казбека надулось: услышав своё имя, он только лениво покрутил хвостом, мордочку закрыл от комаров лапами. Лапы Казбека были разбиты и исцарапаны.
Мне стало жалко собаку, но даже встать было лень.
«Надо перевязать ему лапы или сшить небольшие чехлы»,— подумал я лениво, а вслух спросил отца:
— Папа, а у нас нет бинта или какой-нибудь тряпки? У Казбека передняя лапа сильно разбита.
Отец внимательно осмотрел лапы Казбека и сказал:
— Не выдумывай. На собаке всё само собой заживёт. Полижет она свои ранки языком, в лесу травку поищет и поест. Собаки, сынок, сами себе лекари.
Я с трудом заполз под полог, накрылся заячьим одеялом и тут же заснул, думая о ленивых карасях.
Мне приснилось, будто я карась и попался в сети отца. Отец, радостно потирая руки, вынимает меня из сети.
«Папа, папа, это я, Сенякон!» — кричу я беззвучно карасиными губами.
Вот я уже на берегу, навстречу отцу бежит Казбек с раскрытой пастью, готовый съесть меня.
«Чо, чо, Казбек», — шепчу я, отгоняя собаку, и со страхом ощущаю жар её пасти на своём лице...
Тут я проснулся и на самом деле увидел над собой морду Казбека, прокравшегося под полог и дышавшего на меня.
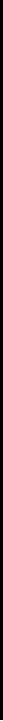
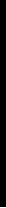 — Чо, чо, Казбек! — испуганно закричал я и ощупал себя, не превратился ли я действительно в карася.
— Чо, чо, Казбек! — испуганно закричал я и ощупал себя, не превратился ли я действительно в карася.
 Я вышел из палатки. Было светло. Наступила пора белых ночей. На озере я заметил неподвижных резиновых уток, а на берегу — отца, сидящего за небольшим кустом. В руках он держал дробовик. Возле палатки лежал мешок, полный карасей. Карасями были набиты ведро и котелок.
Я вышел из палатки. Было светло. Наступила пора белых ночей. На озере я заметил неподвижных резиновых уток, а на берегу — отца, сидящего за небольшим кустом. В руках он держал дробовик. Возле палатки лежал мешок, полный карасей. Карасями были набиты ведро и котелок. — Ну что, карась, выспался? — засмеялся отец. — Сейчас утки полетят. Сети я уже снял. Карасей так много попалось, что они утопили и запутали все сети.
— Ну что, карась, выспался? — засмеялся отец. — Сейчас утки полетят. Сети я уже снял. Карасей так много попалось, что они утопили и запутали все сети.«Откуда он знает про мой сон?» — подумал я, досадуя, что проспал самое интересное.
«А почему отец не разленился? — недоумевал я.— Ведь он тоже ел карасей. Наверное, он привык».
Послышался шум крыльев, и пара уток низко пролетела над манками. Мы с отцом притаились. Утки, удалившись, резко развернулись и полетели прямо на нас.
Отец щёлкнул курками.
 — Надо стрелять второго — это селезень, а утка пусть выводит утят,— прошептал он мне.
— Надо стрелять второго — это селезень, а утка пусть выводит утят,— прошептал он мне.Грохнул выстрел, на секунду утки исчезли в дымке выстрела. И тут же я увидел камнем падающего селезня и резко взмывающую вверх утку. Селезень ещё не упал в воду, а Ласка уже плыла в сторону манков, за ней следом поплыл возбуждённый Казбек. Схватив утку, Ласка повернула к берегу, а Казбек бестолково закружился на месте. Поплыл было к манкам, но мы с отцом одновременно закричали: «Чо, чо, Казбек!» Он шарахнулся от них и заспешил к берегу. Ласка деловито вылезла на берег и положила утку у самой воды, отошла и буднично отряхнулась, как будто она всю жизнь только и делала, что таскала уток. Казбек выскочил из воды, подбежал к утке и давай её трепать.
— Нельзя, Казбек! — закричал я. — Неси ко мне.
— Чо, чо, Казбек, — приказал отец.
Казбек радостно, как будто это он убил и вытащил утку из воды, бросился с ней ко мне.
— Молодец, — скупо похвалил его отец.
Он взял верёвку и привязал Ласку к лиственнице.
— Теперь мы посмотрим, на что способен твой Казбек.
Я сразу понял, чего хочет отец. Утки не заставили себя ждать. Вскоре на нас стремительно летели три. Посреди озера был небольшой островок. Первый выстрел свалил одну птицу. Второй выстрел, к великой досаде отца, напрасно прогремел вслед оставшимся.
— Подранил, наверно, — вслух высказался отец. — Полетела умирать куда-нибудь.
Ласка для приличия подёргалась на привязи и притихла, внимательно глядя на отца. Казбек плыл к утке, всё оглядываясь, видно, недоумевал, почему же Ласка не поплыла.
Раненая утка барахталась возле островка, и издали было видно красное пятно, расплывающееся вокруг неё.
Казбек осторожно схватил барахтающуюся утку за крыло и тут же получил удар клювом по носу. В испуге он выпустил её и шарахнулся было в сторону, но наши крики подстегнули его.
— Ыл, ыл! — кричал отец.
— Бери, Казбек, тащи сюда! — со стоном молил я.
Казбек решительно приблизился к утке и крепко схватил её. Утка опять стала долбить его клювом. Обезумев от боли, Казбек, видно, зажмурился и поплыл совсем в противоположную сторону, но утку не выпускал. Вскоре он выплыл на островок и с отвращением положил утку на берегу, придавив её лапой.
— Вот болван, — досадовал отец и направился было к ветке, но я закричал:
— Казбек, неси ко мне.
Казбек как будто очнулся. Он схватил утку и быстро поплыл к нам. Мы облегчённо вздохнули.
— Хорошая будет собака, — радовался отец.
Казбек вылез на берег и понёсся ко мне, явно рассчитывая на награду. Отцу, видно, было досадно, что Казбек положил утку к моим ногам, а не к его. Он слегка нахмурился, но всё же погладил мокрую и радостную собаку. Я не обманул ожиданий Казбека и щедро наградил его конфетами, которые хотел съесть сам.
Плотно поужинав, мы с отцом собрались спать. Под пологом было полным-полно комаров.
— Когда ложишься спать, надо сначала убить всех комаров, затем плотнее подоткнуть полог,— с укором сказал мне отец.— Плохо подоткнёшь — заползут и искусают тебя.
Убив всех комаров, мы легли спать, но разъярённый писк их собратьев за пологом долго не давал мне уснуть. Ночью сквозь сон я слышал, как отец кричал на Казбека:
— Чо, чо, Казбек! — Наверное, он пытался пролезть под полог.
Когда я проснулся, отца уже не было. Солнце нагрело брезентовую палатку, и стало душно. Было слышно, как потрескивает огонь, доносился негромкий голос отца, привыкшего разговаривать с собаками. Ощущение счастья переполнило меня, и я навсегда запомнил белый пар над озером, ленивых карасей, равнодушно покачивающихся резиновых уток, собак, лежащих возле костра и внимающих голосу отца. Казалось, они хотели понять, что он им говорит. Это место было знакомо многим охотникам: толстый слой золы, множество тропинок, ведущих в лес. По одной из них мы перетаскали карасей и уток в хорошо оборудованный погреб. Карасей отец старательно переложил сырым мхом.
— Так они и через три дня будут свежими, — учил он меня.
Эти три дня были днями ученичества для Казбека и для меня. Казбек легко научился таскать уток, а вот мне приходилось туго. Разжигая сырые дрова или дымокур от комаров, я ходил с заплаканными глазами. Караси, когда я их чистил, так и норовили выскользнуть из моих рук. К тому же я порезал два пальца и обмотал их тряпкой, но отец не делал мне никакого снисхождения.
— Ты должен стать мужчиной, охотником, — твердил он, и его не мог поколебать даже мой жалкий вид.
Вечером он решил дать мне стрельнуть по уткам, а так как я не мог удержать ружьё на весу, он сделал подставку для ствола. Сам он бил птицу только влёт.
Две утки, покружив над нашими манками, круто снизились и плавно сели неподалёку. Отец помог мне навести на крайнюю утку. Когда в прорези совпали мушка и утка, я нажал курок. Грохнул выстрел — отдачей меня опрокинуло, но я тут же вскочил и в охотничьем азарте закричал:
— Попал или нет?
— Попал, попал, — похлопал меня по плечу отец. И только после этого я почувствовал тупую боль в плече, куда упирался приклад, но радость удачи заглушила эту боль. Теперь я с нетерпением ждал, когда же снова прилетят и сядут утки.
Случилось это не скоро. Отец в это время ушёл в лес. Пять уток с шумом опустились рядом с манками. Я хотел было позвать отца, но тут же спохватился: ведь мой голос может спугнуть их. Во рту сразу пересохло. Я приподнял приклад и стал наводить ружьё на утку, подплывавшую к манкам. Грохнул выстрел, опять опрокинувший меня. На выстрел выскочил из леса отец. На поверхности озера белым брюхом кверху плавала убитая утка, а резиновый манок медленно погружался в воду, продырявленный моим выстрелом.
— Оккары — дурак! — сказал отец, досадуя и в то же время радуясь меткости моего выстрела. — Одним выстрелом двух. Неплохо! Но так надо стрелять, когда сближаются живые утки.
Через три дня мы стали собираться в обратный путь. Отец опять взял щепотку чая, табака, сахара и бросил в огонь.
— Спасибо, огонь, за удачную охоту.
Меня же он заставил натаскать сушняка, чтобы охотник, пришедший после нас, мог сразу развести огонь. Затем тщательно залил костёр, поучая меня:
— Надо каждое полешко заливать, разворошить хорошенько костёр, иначе ветер может снова раздуть его. А пожар — это беда для зверей и птиц, для леса.
Обратно плыли быстро. Только мне было всё время страшно: казалось, что лодку вот-вот зальёт. Собаки бежали исправно. За три дня все раны Казбека зажили. Не зря есть поговорка: «Заживёт всё, как на собаке».
Уже издали, узнав, кто едет, ребята, стоящие на берегу, предупредили маму и бабушку, и они вышли нам навстречу. Они тревожились за меня, первый раз выехавшего на охоту: вдруг перевернётся ветка, или я случайно подстрелю из ружья человека или собаку, и всякие другие страхи мучили их. Меня буквально вынули из ветки, хотя я брыкался и говорил: «Я сам». Отец доверил мне нести ружьё, и я под завистливые взгляды сверстников, как заправский охотник, захромав для пущей важности, стал подниматься на берег.
На подъёме я споткнулся и растянулся — больно тяжелы были намокшие кирзовые сапоги. Красный от стыда, под громкий смех ребятишек, я зашагал дальше, забыв о хромоте. Но это был смех добродушно-завистливый. Каждый мальчишка желал бы быть на моём месте.
В этот вечер я и моя собака были предметом гордости всей семьи. Приходили соседки-кумушки и, выслушав преувеличенные рассказы матери и бабушки о моих охотничьих успехах, уходили с уткой или с карасями в руках, со словами: «Шомолок ой, шомолок! (Человеком стал!)»
