Уважаемые читатели!
| Вид материала | Документы |
- Самый первый литературный праздник «Прощание с Букварём» или «Посвящение в читатели», 95.4kb.
- Экономические науки уважаемые читатели!, 431.53kb.
- История украины уважаемые читатели!, 233.46kb.
- -, 4539.7kb.
- Уважаемые читатели и гости сайта!, 86.63kb.
- Методические рекомендации к остальным месяцам года вы найдёте на нашем сайте. Уважаемые, 624.66kb.
- Обращение Председателя Правления ОАО "Газпром" Уважаемые читатели! Представляю Вашему, 855.37kb.
- Публичный доклад Пестяковской муниципальной средней общеобразовательной школы за 2010-2011, 660.82kb.
- Уважаемые читатели и друзья библиотеки, 32.35kb.
- Сценарий праздника "Посвящение в читатели" (2-й класс), 46.76kb.
Библиография произведений Людмилы Улицкой Бедные родственники (1994) Медея и ее дети (1996) Веселые похороны (1998) Сонечка (1999) Лялин дом (1999) Казус Кукоцкого (2000) Пиковая Дама и другие (2001) Сквозная линия (2002) Первые и последние (2002) Девочки (2002) Второе лицо (2002) Искусство жить (2003) Детство сорок девять (2003) История про кота Игнасия, трубочиста Федю и Одинокую Мышь (2004) Искренне ваш Шурик (2004) Люди нашего царя (2005) История про воробья Антверпена, кота Михеева, столетника Васю и сороконожку Марью Семеновну с семьей (2005) История о старике Кулебякине, плаксивой кобыле Миле и жеребенке Равкине (2005) Цю-юрихь (2006) Даниэль Штайн, переводчик (2006) Произведения Людмилы Улицкой, напечатанные в периодических изданиях
Рецензия на роман «Казус Кукоцкого»
Публикации о Людмиле Улицкой
Олег Павлов Лауреат премии «Букер – Открытая Россия» - 2002 года за роман «Карагандинские девятины» О  б авторе б автореПавлов Олег Олегович родился в 1970 году, в Москве. Писатель, публицист. Сын служащих: отец — инженер-конструктор, мать — редактор издательства. Детское чувство одиночества (безотцовщины при избалованности материнской любовью) утолилось книгами, рано заменившими общение. — Я знаю, что вы начинали как стихотворец. А почему потом от стихов отказались? И куда они ушли? — Мы с мамой в детстве любили играть в буриме — писать на предложенные рифмы. И эта игра была со мной с трех лет. И из-за этого буриме я потом вое подряд стал рифмовать. Это во-первых. А второй сознательный всплеск был в двенадцать лет. Я с девяти лет был без отца — в душе от этого была вмятина. Пустое место. Тоска по отцу. То ли внушалось, то ли сам я чувствовал, то ли природа давала знать, что мы с ним очень похожи — и внешне, и вообще. Так я стал себя считать поэтом и начал существовать в поэтической позе: в ней для меня было нечто отцовское. А уже серьезнее пошло, когда я сам полюбил поэзию. А полюбил я ее из-за Маяковского. Так в семнадцать лет совпало — мое бунтарство, мой темперамент и то, что я у него прочитал. Оно перевернуло мою душу. Не формальный Маяковский, а молодой, настоящий, который — в моем же возрасте. Я вообще прошел через увлечение футуризмом как таковым — Хлебниковым, Бурлюком... Я воссоздал для себя их время и даже жить стал по их правилам. Тогда и у меня открылся образный взгляд на мир — и пошла поэзия посильнее. Натуралистическая образность, для которой главное — человечья страсть. А рядом — Цветаева. Трагический, надломленный взгляд. Весь авангард — от сюрреализма и не доходя до постмодерна — есть трагическое, в котором важнее ощущение надлома, а не целостности. Сломанная линия, изуродованная форма. А потом только я по-настоящему почувствовал прозу, это после Достоевского, он меня в нее влюбил... Стал много читать, чуть ли не день и ночь. Особенно много, когда летом жил у деда в Киеве, там библиотека была, генеральская... Полные собрания сочинений... Горький, Бальзак, Драйзер, Толстой... Бальзака в одно лето всего прочитал, потом Драйзера... Мне было лет пятнадцать-шестнадцать. – Как раз кончил школу, да? – Еще не кончил. Последние школьные годы. Я жил книгами... Ну, и среди того, что читал, как будто удары происходили... Знаете, как короткое замыкание, мое напряжение душевное соприкасалось вдруг с напряжением какой-то книги — и я уже не мог ее забыть, что-то во мне менялось, открывалось другое зрение, дыхание... Так было с Эдгаром По. Когда прочитал Андреева — «Красный смех»... Бабеля «Конармию»... Олешу... И потом — Платонов, но не с романами, а с рассказами, и Камю с «Чумой»... Ощущение было такое: вот мир подлинный, достоверный, литература его для меня создала. Но я живу пока в мире не подлинном, не настоящем, очень маленьком, очень плохом — как клетка, и непонятно, где выход вот в этот, большой, мир. А я хочу в него войти. В семнадцать лет была четкая, сухая схема институт, высшее образование... А я не понимал, зачем это все нужно. С ума сошел... – И как же складывалась жизнь на этом этапе? – Работать пошел. Грузчиком работал в магазине. Хотя по тогдашним представлениям это было дно жизни. И кругом люди были пропащие, которые не жили, а как будто сводили счеты с жизнью. Такие удивительно сильные, выносливые, но обреченные и ненужные самим себе мужики, которые только спивались день за днем. Но мне с ними хорошо было. И они мне понятней были, скажем, чем благополучные ровесники, которые в институтах учились. И потом — бабах! — и в один день попадаю в Среднюю Азию, в Ташкент, в охрану лагерей, в этот мир... Весной 1988 года был призван в армию — во внутренние войска МВД СССР. Службу проходил в конвойных частях Туркестанского военного округа (начал служить в Ташкенте, закончил в Северном Казахстане). Будучи охранником карагандинских лагерей, узнал такую «правду жизни»   (моральные уродства, унижения, жестокие избиения, закончившиеся травмой головы и госпитализацией в карагандинскую «психушку»), которая понуждала видеть «мир как барак». Но этот же опыт на долгие годы определит «большую тему» Олега Павлова, его мироощущение. Вернувшись из армии (с ложным «психическим диагнозом»), оказался в двадцать лет выброшен из жизни, с «клеймом», которое позволило устроиться только на работу вахтера. Но та, оставшаяся позади жизнь, заставила обдумывать себя, понуждала разбираться в ней — так начались записи на бумагу. Прочитав «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, опубликованный в это время «Новым миром», наткнулся на описание Карабаса, того самого лагеря, где служил, — стал писать Карабас современный. (моральные уродства, унижения, жестокие избиения, закончившиеся травмой головы и госпитализацией в карагандинскую «психушку»), которая понуждала видеть «мир как барак». Но этот же опыт на долгие годы определит «большую тему» Олега Павлова, его мироощущение. Вернувшись из армии (с ложным «психическим диагнозом»), оказался в двадцать лет выброшен из жизни, с «клеймом», которое позволило устроиться только на работу вахтера. Но та, оставшаяся позади жизнь, заставила обдумывать себя, понуждала разбираться в ней — так начались записи на бумагу. Прочитав «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, опубликованный в это время «Новым миром», наткнулся на описание Карабаса, того самого лагеря, где служил, — стал писать Карабас современный.В 1990 году поступил в Литературный институт им. А.М.Горького на заочное отделение (семинар прозы). Этим же летом были опубликованы в белорусском молодежном журнале «Парус» первые рассказы из цикла «Записки из-под сапога». Но большим литературным началом писательской судьбы стала публикация в журнале «Литературное обозрение», имеющем в ту пору миллионный тираж, лирического цикла «Караульных элегий». «Караульные элегии», «Записки из-под сапога» и цикл рассказов «Правда Карагандинского полка» писались несколько лет и вошли в «Степную книгу», ставшую первым сознательно подведенным итогом: писатель освободился от «старых долгов», творчески пережив армейскую, конвойную свою и чужую жизнь, отлив ее в трагические, драматические и лирические формы целостного повествования. И   з того же изначального материала, из того же биографического корня вырос сюжет первого романа Павлова — «Казенной сказки». Она принесла писателю известность. Роман сразу же попал в шорт-лист Букеровской премии за 1994 год, что и послужило началом литературных споров о творчестве Павлова — с признанием одними и жестким неприятием другими критиками. з того же изначального материала, из того же биографического корня вырос сюжет первого романа Павлова — «Казенной сказки». Она принесла писателю известность. Роман сразу же попал в шорт-лист Букеровской премии за 1994 год, что и послужило началом литературных споров о творчестве Павлова — с признанием одними и жестким неприятием другими критиками.Проза Павлова ставит перед всеми желающими осмыслить литературный процесс 1990-х — конца XX века — сущностные вопросы: отношение к традиции великой русской литературы; проблема ценности реализма как художественного метода и умозрения в ситуации тотального разрушения принципов культурной иерархичности в постмодернистской эстетике; понимание принципа народности в новых исторических условиях; вопрос об эстетическом «оправдании зла» и проблеме нигилизма в современной литературе. — Когда вы пишете и погружены в работу над своей прозой, то вы параллельно много читаете? — Начинаю читать, когда появляется безвыходность. Бывает так — себя теряешь... Для меня чтение — это способ обрести самого себя, прийти в сознание... — И было, чтобы вам некий писатель помог — как дрожжи? — Да. Тут главное снять немоту. И помогал — Пушкин. Всегда в такие моменты я читал только Пушкина. Или Библию. Читаешь — и оживаешь. Павлов идет трудным, мучительным и беспощадным путем. Вместе с ним нелегко пройти даже небольшую часть этого пути. П  розу Павлова не читаешь. В ней, собственно, живешь. Ее пропахиваешь вместе с автором и героем «на пузе». Способ Павлова в том, чтобы тормозить, медлить, останавливаться и в итоге пробуждать в душе и памяти читателя тот опыт, который спрятан в ящике без ключа, да не всем и известен, не всегда понятен. Он грузит знанием, о котором хочется забыть даже тем. кто им наделен. И ради этого совершает форменное насилие над читателями, хватая их за шкирку и волоча по кругам житейского ада. Это тебя там унижают, бьют, опускают так и эдак. розу Павлова не читаешь. В ней, собственно, живешь. Ее пропахиваешь вместе с автором и героем «на пузе». Способ Павлова в том, чтобы тормозить, медлить, останавливаться и в итоге пробуждать в душе и памяти читателя тот опыт, который спрятан в ящике без ключа, да не всем и известен, не всегда понятен. Он грузит знанием, о котором хочется забыть даже тем. кто им наделен. И ради этого совершает форменное насилие над читателями, хватая их за шкирку и волоча по кругам житейского ада. Это тебя там унижают, бьют, опускают так и эдак.Его Россия - это заколдованное, проклятое место, слепоглухонемой угол мироздания; это, собственно, - Азия (и армия у Павлова - средоточие азиатчины, место, где кульминируется пораженность мироздания, - миро-руин - злом). Место, где русский теряется, растворяется и гибнет. Куда ни кинь везде Караганда. И все географические карты выпадают так, что попадаешь именно и только туда, куда бы ни метился... Вот тебе, бабушка, евразийский проект! А 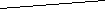  его Азия — это Азия скорбного духа, сосуд скверны, уже случившийся провал в апокалипсическое время. его Азия — это Азия скорбного духа, сосуд скверны, уже случившийся провал в апокалипсическое время.Люди наказаны Богом. И с тех пор стали друг другу обузой, наказывают друг друга, ожесточаются друг на друга и на себя. Взаимное мучительство — неизбежное состояние совместной жизни. Воистину: ад — это другой. Сам писатель совсем не считал себя «разоблачителем» армейской жизни. Армия для него — это большая и трагическая «тема» современной русской литературы, она является живой «составляющей» современной жизни с ее войнами, с ее проблемами, в которые втянуты тысячи людей. И в «Казенной сказке» он будет говорить об этой типичной жизни, и смерти тоже типичной, и незаметном подвиге капитана Хабарова, — отдавая себе отчет в масштабе темы, писатель сражается за сочувствие к страданиям, угнетению, смерти даже и одного человека. Павлов продолжает писать рассказы, публикуя их в «Новом мире», «Октябре», «Литературной газете». В 1999 году писатель «возвращается» в мир своего детства и юности, публикуя в журнале «Октябрь» повесть «Школьники», а в 2001-м — роман «В безбожных переулках». В «Школьниках» детский страдательный опыт (неумение мальчишки «жить в коллективе», его «отдельность») вплетается в более общую картину — судьбы семьи, страны. Сочинения Олега Павлова переводились на английский, китайский, итальянский и словацкий языки. Он — лауреат литературной премии «Нового мира» (1995), «Октября» (1997, 2002) за лучшую публикацию прозы, лауреат Букеровской премии 2002 года за произведение «Карагандинские девятины, или Повесть последних дней». — И все же, как вы предчувствуете: суждено ли вам еще писать о том мире, где жизнь движется любовью, пусть и трагической? – Не знаю. У меня характер противоречивый — взрывной, создающий оппозицию и, с другой стороны, рассеянный, легко устающий... Но теперь я понял, что создавать форсированно ничего не надо: это историческое время, оно и есть оппозиция. С ним и буду в прозе бодаться. – Дай вам Бог! А как будет называться ваша следующая вещь? – Какие-то все мрачные названия приходят в голову — «Репетиция смерти», «История одного убийства»... Моя жена с этим борется. Поглядим. Я никогда писать легко не мог. Мне слова даются с трудом. Иногда я ощущаю внутри замок, зажим или заслонку, через которые надо пробиваться... Я вначале очень долго раскочегариваюсь, потому во всех моих вещах более сильные страницы идут от середины — и к финалу. Я долго набираю свободу. Первые три страницы «Карагандинских девятин» я писал год. А потом за месяц написал большую часть всей вещи. А вместе — пять лет. Стыдно даже. — Ничего тут стыдного нет. У каждого писателя свой ритм работы. — Не могу я сесть: три часа поработал, кусок написал и встал. Муха пролетит не такая — все бросается, все кончается. Звонок не такой — зажим на весь день, на всю неделю. Ничего не могу. Счастливое время для меня — Великий пост. Полтора месяца. Я внутренне себя отстраняю от всего плохого и никакое злобство вовнутрь не пускаю. Думаю только о хорошем, молюсь, голодаю, а голод дает очень легкое ощущение. В это время читаю только Евангелие — и нисходит Божья благодать. Я эту благодать в лучшие минуты чувствую в себе... «Карагандинские девятины» Повесть «Карагандинские девятины» (Октябрь. — 2001. — № 8) вновь вернула читателей в прежнюю «большую тему» писателя и вновь стала поводом для не принимающих его творчества критиков высказываться негативно и бездоказательно: «...более точного определения, чем "пасквили", для того, что делает в своей "армейской прозе" этот писатель, трудно и придумать» (Переяслов, Н. Баллада о солдате / Н. Переяслов // Октябрь. — 2002. – № 6. – С. 171). «Карагандинские девятины» — станут ли они «вечной памятью»? Станут ли прощанием писателя с эпопеей народа казенно-армейского, человека служивого? Но не мал у писателя русский человек — он у него велик, потому как это все еще человек большого народа. Повесть похожа и одновременно не похожа на предыдущие произведения его армейского цикла. Рискнем утверждать, что он вырывается в ней за рамки самим же разработанной поэтики, местами выпадая из плоскости нарочитого натурализма в область почти настоящего абсурда. Задним числом кажется, что этого и следовало ожидать: не понятно, как еще Павлов мог бы выбраться - без самоповтора - из темы которую опять-таки казалось, выработал до конца. Поначалу текст оставляет впечатление не связанных или почти не связанных между собой новелл. Отдельно - лазарет с ненавидящим все живое начальником со странной фамилией Институтов, отдельно - демобилизованный солдат Алеша, ошивающийся в этом лазарете на положении добровольного раба - в ожидании пока ему вставят ненужный ему золотой зуб, отдельно - странный офицер в пустой палате куда не заходит никто и ни за чем, кроме того же Алеши, приносящего еду и убирающего пустую посуду, отдельно - неряшливый человек в плаще и шляпе, пытающийся добиться от начмеда опять же неизвестно чего. И вдруг концы начинают стремительно сплетаться в один клубок, в центре которого таинственный покойник, которого надо скоропалительно и тайно, запаяв в цинковый гроб, с конвоем отправить в Москву. И выяснится, что неопрятный в шляпе — отец покойного, добивающийся увидеть сына, а спешка и таинственность оттого, что солдат погиб не от несчастного случая, а убит тем самым слетевшим с катушек офицером, которого теперь прячут в больнице. В   тексте как бы два покойника — один реальный, которому пластырем маскируют дырку во лбу, другой — живой, тот самый Алеша, как бы провалившийся в небытие (случайно ли, нет он носит имя самого знаменитого смиренника русской литературы, которому его создатель предуготовлял бунт и эшафот). «Выброс из жизни» обозначен в тексте с не оставляющий сомнений дотошностью. Для начала, едва попав в армию, он оказывается единственным солдатом на полузаброшенном полигоне, где все время службы проводит в почти полном одиночестве, — его начальник мало того что приезжает не чаще, чем раз в неделю, так еще вдобавок и глухой. Когда служба окончена, полюбивший его (как свою что ли собственность?) начальник решает сделать ему подарок — золотой зуб, для чего отвозит в лазарет. По своей природной пассивной смиренности, Алеша служит и там — за поломойку, тексте как бы два покойника — один реальный, которому пластырем маскируют дырку во лбу, другой — живой, тот самый Алеша, как бы провалившийся в небытие (случайно ли, нет он носит имя самого знаменитого смиренника русской литературы, которому его создатель предуготовлял бунт и эшафот). «Выброс из жизни» обозначен в тексте с не оставляющий сомнений дотошностью. Для начала, едва попав в армию, он оказывается единственным солдатом на полузаброшенном полигоне, где все время службы проводит в почти полном одиночестве, — его начальник мало того что приезжает не чаще, чем раз в неделю, так еще вдобавок и глухой. Когда служба окончена, полюбивший его (как свою что ли собственность?) начальник решает сделать ему подарок — золотой зуб, для чего отвозит в лазарет. По своей природной пассивной смиренности, Алеша служит и там — за поломойку,маляра, прислугу вообще, начмед же, почувствовав вдруг неожиданно свалившуюся ему в руки власть над формально уже свободным, нарочно тянет и изгаляется. Тому и зуб-то не нужен, он ждет какого-то высшего распоряжения своей судьбой, поскольку сам не научился ей распоряжаться. И наконец, когда выясняется, что для покойного не приготовлена подходящая форма, с Алеши стаскивают его новенькую дембельскую и обряжают в гимнастерку убитого — с неотстиранным кровавым пятном на груди. С этого мгновения, кажется, в нем начинает происходить подспудное перерождение, которое должно привести к тому, чтобы из мертвого вновь сделаться живым. Тягостно жить. Жизнь становится бременем. Но и супротив того: жить-то человеку еще почему-то хочется. И кстати, все-таки не случайно Алеша выживает, несмотря на суровые испытания. Автор в финале «Карагандинских девятин», ничем не обнадежив читателя, все-таки останавливается в полушаге от Алешиной гибели, чтобы сохранить его для мира. (В пособии использовано интервью с Татьяной Бек) Произведения Олега Павлова, напечатанные в периодике Павлов, Олег. Баня : рассказ / О. Павлов // Лит. газ. – 1996. – № 47. – С. 5. Павлов, Олег. Беглый Иван / О. Павлов // Дружба народов. – 1998. – № 10. – С. 70. Павлов, Олег. В безбожных переулках / О. Павлов // Октябрь. – 2001. – № 1. – С. 3. Павлов, Олег. Великая степь : рассказы / О. Павлов // Октябрь. – 1998. – № 9. – С. 54. Павлов, Олег. Вниз по лестнице в небеса : рассказ / О. Павлов // Новый мир. – 2003. – № 1. – С. 121. Павлов, Олег. Дело Матюшина : роман / О. Павлов // Октябрь. – 1997. – № 2. – С. 23. Павлов, Олег. Задушевная песня : рассказ / О. Павлов // Лит. Россия. – 1998. – № 23. – С. 8. Павлов, Олег. Записки из-под сапога : рассказ / О. Павлов // Москва. – 1998. – № 6. – С. 24. Павлов, Олег. Запой, или Сказка о последнем казаке : рассказ / О. Павлов // Октябрь. – 1999. – № 5. – С. 78. Павлов, Олег. Земляная душа : рассказ / О. Павлов // Лит. газ. – 1993. – № 44. – С. 5. Павлов, Олег. Из нелитературной коллекции / О. Павлов // Октябрь. – 1997. – № 10. – С. 107. Павлов, Олег. Илья Перегуд : рассказ / О. Павлов // Лит. Россия. – 1996. – № 40. – С. 8. Павлов, Олег. Казенная сказка : повесть / О. Павлов // Новый мир. – 1994. – № 7. – С. 8. Павлов, Олег. Карагандинские девятины, или Повесть последних лет / О. Павлов // Октябрь. – 2001. – № 8. – С. 3. Павлов, Олег. Караульная элегия : рассказы / О. Павлов // Лит. обозрение. – 1990. – № 8. – С. 43. Павлов, Олег. Конец века : соборный рассказ / О. Павлов // Октябрь. – 1996. – № 3. – С. 3. Павлов, Олег. Летать : рассказ / О. Павлов // Лит. обозрение. – 1997. – № 3. – С. 35. Павлов, Олег. Митина каша : рассказ / О. Павлов // Новый мир . – 1995. – № 10. – С. 94. Павлов, Олег. Петушок : рассказ / О. Павлов // Лит. Россия. – 1998. – № 5. – С. 8. Павлов, Олег. Пионерская : рассказ / О. Павлов // Независимая газ. – 2005. – 29 сент. – С. 3 (прилож.). Павлов, Олег. Повесть последних дней / О. Павлов // Лит. Россия. – 2000. – № 27. – С. 8. Павлов, Олег. Рассказы / О. Павлов // Октябрь. – 1998. – № 2. – С. 88. Павлов, Олег. Сад : рассказ / О. Павлов // Лит. обозрение. – № 3. – С. 35. Павлов, Олег. Умри, замри, воскресни : рассказ / О. Павлов // Независимая газ. – 2005. – 29 сент. – С. 3 (прилож.). Павлов, Олег. Школьники : повесть / О. Павлов // Октябрь. – 1999. – № 10. – С. 95. Павлов, Олег. Эпилогия : вольный рассказ / О. Павлов // Октябрь. – 1999. – № 1. – С. 74. Павлов, Олег. Яблочки от Толстого : вольный рассказ / О. Павлов // Дружба народов. – 1997. – № 10. – С. 3. |
