Из интервью режиссера Андрея Тарковского
| Вид материала | Интервью |
- Гран-при III международного кинофестиваля имени А. Тарковского получил фильм "Полторы, 31.26kb.
- Втворчестве Андрея Тарковского, как всякого крупного русского художника, нравственная, 67.65kb.
- Моей "Последней лошади", 38.57kb.
- Историк Н. Н. Воронин о фильме А. Тарковского, 80.84kb.
- Статья опубликована в журнале «625», 63.01kb.
- Памятка по проведению интервью с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 93.4kb.
- Андрея Юрьевича Хржановского «Трилогия» по рисункам Пушкина, или оперу «Пиковая дама», 238.29kb.
- Лекции по кинорежиссуре Монтаж Лекция Андрея Тарковского о роли монтажа в кино, 1263.1kb.
- [Пер с ит и коммент. Ф. М. Двин, 287 с. 16 л ил. 21 см, М. Искусство 1984 Автобиография, 2559.33kb.
- 1. Вчем заключаются лучшие минуты жизни для князя Андрея, 9.8kb.
я
 и попугаи — священные животные. Их выражение — не образ. Бороро читают себя настоящими попугаями прямо сейчас. Современному человеку Непонятно, как можно одновременно быть человеком и птицей, а туземец ['удивится непонятливости европейца. Туземец из племени бороро одновременно человек и попугай, как гусеница — гусеница и почти бабочка. Первобытное мышление не боится противоречий. Именно поэтому трудно следить за ходом этого мышления.
и попугаи — священные животные. Их выражение — не образ. Бороро читают себя настоящими попугаями прямо сейчас. Современному человеку Непонятно, как можно одновременно быть человеком и птицей, а туземец ['удивится непонятливости европейца. Туземец из племени бороро одновременно человек и попугай, как гусеница — гусеница и почти бабочка. Первобытное мышление не боится противоречий. Именно поэтому трудно следить за ходом этого мышления.Что такое практическое мышление
С чего начинать психологический анализ мышления современного человека? Конечно, с образца. А чье мышление брать за образец? Большинство психологов принимает за образец мышление ученого. Но в ходе развития цивилизации первым появилось практическое мышление! Первым, кто среди отечественных психологов стал писать о возможностях изучения практического мышления, был Теплое.
Борис Михайлович Теплое (1896—1965)— советский психолог, профессор, действительный член АПН СССР. С 1946 по. 1953 год руководил кафедрой логики и психологии Академии общественных наук. С 1958 года главный редактор журнала «Вопросы психологии». С 1950-х годов в лаборатории в Институте психологии изучал основные свойства нервной системы человека. Эти исследования стали базой для развития дифференциальной психологии в нашей стране (дифференциальная психология изучает различия между людьми и группами людей). Все дальнейшие цитаты взяты из книги «Проблемы индивидуальных различий», 1965.
Теплов считал, что нельзя сводить практическое мышление до наглядно-действенного мышления. Наглядно-действенное мышление помогает нам решать задачи, глядя на вещи и манипулируя с ними. Да, человеческое мышление началось именно с этого мышления. Так мыслил первобытный человек, именно так мыслит и современный ребенок. Но практическое мышление не является простым манипулированием объектами. .
«Различие между теоретическим и практическим мышлением заключается в том, что они по-разному связаны с практикой: не в том, что одно из них имеет связь с практикой, а другое — нет, а в том, что характер этой связи различен, — пишет Теплов. — Работа практического мышления в основном направлена на разрешение частных конкретных задач: организовать работу данного завода, разработать и осуществить план сражения и т. п».
«Теоретик» отвечает лишь за конечный результат своей работы, «прак-Мгик» — за весь процесс мыслительной деятельности. «Теоретик» может бес-

 262 ПОПУЛЯРНАЯ ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ
262 ПОПУЛЯРНАЯ ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИк
 онечно долго проверять и отвергать гипотезы, «практик» — часто не имеет времени для проверок. Теплов считает, что думать — ум ученого «выше», чем ум полководца, заблуждение: «Ум Петра Первого ничем не ниже, не проще и не элементарнее, чем ум Ломоносова». Так как практическому мышлению психологи уделяли мало внимания, Теплов решает восстановить справедливость и пишет целую главу про ум полководца.
онечно долго проверять и отвергать гипотезы, «практик» — часто не имеет времени для проверок. Теплов считает, что думать — ум ученого «выше», чем ум полководца, заблуждение: «Ум Петра Первого ничем не ниже, не проще и не элементарнее, чем ум Ломоносова». Так как практическому мышлению психологи уделяли мало внимания, Теплов решает восстановить справедливость и пишет целую главу про ум полководца.Психолог уверен, что деятельность полководца предъявляет исключительные требования к его уму. В первую очередь полководцу нужны ум и воля — сложный комплекс психических свойств: энергия, упорство, мужество, решительность, сила характера. «Эта мысль совершенно бесспорная, — утверждает Теплов и продолжает свою мысль: — Наполеон в свое время внес в не"е новый важный оттенок: не в том только дело, что полководец должен иметь и ум, и волю, а в том, что между ними должно быть равновесие, что они должны быть равны. «Военный человек должен иметь столько же характера, сколько и ума». Если воля значительно превышает ум, полководец будет действовать решительно и мужественно, но мало разумно; в обратном случае у него будут хорошие идеи и планы, но не хватит мужества и решительности осуществить их».
Конечно, равновесие ума и воли встречается редко. Что лучше: нарушение равновесия в пользу ума или воли? История показывает, что воля важнее. Переход Суворова через Альпы был совершен почти на одной воле.
Большинство психологов считает, что придумывание планов — функция ума, а их исполнение — функция воли. «Это неверно, — утверждает Теплов. — Исполнение планов требует ума не меньше, чем воли. А с другой стороны, в деятельности полководца задумывание плана обычно неотделимо от его исполнения». Ум и воля неразделимы.
Еще Аристотель разделил все психические способности на два класса: познавательные способности и движущие способности. Он первым противопоставил ум и волю. Психологи прочно усвоили это разделение, но не заметили то, что у Аристотеля соединяет эти два понятия: душу. Именно душа, по Аристотелю, скрепляет волю и ум. Аристотель вводит новое в психологии понятие: «решение» или «намерение». Решение по Аристотелю.— это «стремящийся разум». Поэтому можно сказать, что единство воли и разума выражается в практическом мышлении, а ум полководца — одна из много-образнейших форм этого мышления.
Стихия, в которой протекает военная деятельность, — это опасность, считает Теплов. Почему же в ситуации опасности ум полководца не притупляется, а наоборот: качество и продуктивность мышления резко повышаются? «Повышение всех психических сил и обострение умственной деятельности в атмосфере опасности — черта, отличающая всех хороших полководцев, хотя проявляться она может очень различно, — говорит Теплов. — Бывают полководцы с относительно ровной и неизменной умственной работоспособ-
 ГЛАВА 7. ПСИХОЛОГИЯ МЫШЛЕНИЯ 263
ГЛАВА 7. ПСИХОЛОГИЯ МЫШЛЕНИЯ 263 остью: их ум производит впечатление работающего всегда на полной на-Ртрузке. Таковы, например, Петр Первый или Наполеон, но эта «ровность», конечно, лишь относительная. И у них обострение опасности вызывает повышение умственной деятельности». Историки пишут, что Наполеон становился тем энергичнее, чем больше была опасность.
остью: их ум производит впечатление работающего всегда на полной на-Ртрузке. Таковы, например, Петр Первый или Наполеон, но эта «ровность», конечно, лишь относительная. И у них обострение опасности вызывает повышение умственной деятельности». Историки пишут, что Наполеон становился тем энергичнее, чем больше была опасность.Полководцы, которые как бы «экономят» психические силы, в трудные моменты умеют мобилизовывать все свои психические ресурсы. Когда нет опасности, то они кажутся вялыми, равнодушными, неактивными. Это лишь поверхностное впечатление. На самом деле в них идет огромная подготовительная работа. «Таков был Кутузов, — пишет Теплов, — в спокойные минуты производивший впечатление ленивого и беззаботного». В минуту опасности Кутузов всегда был на своем месте — ив ночь штурма Измаила, и в Бородинском сражении.
Еще интереснее военачальники, которые обнаруживали свой военный талант лишь в минуту опасности. «Таков, по-видимому, был Конде, который «любил пытаться совершать невозможные предприятия», «но в присутствии противника находил такие чудесные мысли, что в конце концов все ему уступало». Таков был маршал Ней, о котором Наполеон писал: «Ней имел умственные озарения только среди ядер, в громе сражения, там его глазомер, его хладнокровие и энергия были несравненны, но он не умел так же хорошо приготовлять свои операции в тиши кабинета, изучая карту».
Все три типа военачальников опровергают известный психологический закон «Йеркса-Додсона»: сильная или очень слабая мотивация ведет к ошибкам в .деятельности. Перенапряженное внимание полководца должно мешать ему выигрывать сражения. На деле это не так. Почему? Возможно, этот закон действует не для всех людей: ум полководца является исключением?
Как мыслит полководец — конкретно: схватывая все целое единым Взглядом, или абстрактно: в виде смысла суждения, связывающего различные идеи? Теплов считает, что «во многих областях научного творчества представители обоих типов ума могут достигать больших, иногда — великих результатов, но в военном деле конкретность мышления — необходимое условие успеха». Великий военачальник — «гений деталей» и «гений целого».
Д
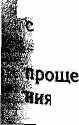 авайте рассмотрим более подробно, как происходит анализ предстоящего строения и как именно мыслит полководец. В первую очередь полководец анализирует сведения о противнике, которые зачастую являются противоречивыми, непонятными и непонятно как связанными друг с другом. Итак, :} главная особенность мышления полководца до сражения — колоссальная ложность материала, который необходимо проанализировать.
авайте рассмотрим более подробно, как происходит анализ предстоящего строения и как именно мыслит полководец. В первую очередь полководец анализирует сведения о противнике, которые зачастую являются противоречивыми, непонятными и непонятно как связанными друг с другом. Итак, :} главная особенность мышления полководца до сражения — колоссальная ложность материала, который необходимо проанализировать.В результате этого анализа возникает план сражения, причем чем он тем лучше. Вторая особенность мышления полководца до сраже-; — простота и ясность продуктов анализа: планов, решений, комбинаций.
 264
264ПОПУЛЯРНАЯ ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ

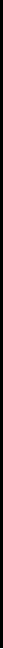

 «Превращение сложного в простое — этой краткой формулой можно обозначить одну из самых важных сторон в работе ума полководца, — пишет Теплов и добавляет: — Успешное разрешение в труднейших условиях войны той задачи, которую я условно назвал «превращением сложного в простое», предполагает высокое развитие целого ряда качеств ума».
«Превращение сложного в простое — этой краткой формулой можно обозначить одну из самых важных сторон в работе ума полководца, — пишет Теплов и добавляет: — Успешное разрешение в труднейших условиях войны той задачи, которую я условно назвал «превращением сложного в простое», предполагает высокое развитие целого ряда качеств ума».Во-первых, это способность к анализу. Во-вторых, умение одновременно
видеть целое и детали. «Здесь требуется синтез, — замечает Теплов, — осу
ществляющийся не с помощью. далеко идущей абстракции,— тот синтез,
1 I который можно видеть у многих ученых, особенно ярко у математиков и
I философов, а конкретный синтез, видящий целое в многообразии деталей. В
1 этом отношении ум полководца имеет много общего с умом художника». Ху-
дожнику и писателю также приходится создавать характер, анализируя поступки, речь и малейшие душевные движения героя. А ситуация, в которой действует герой, почти всегда исключительная.
«Он почти всегда берет самую исключительную действительность, ставит своего героя в самое исключительное положение, и с какой поражающей верностию рассказывает он о состоянии души этого человека!»
Ф.М. Достоевский об Эдгаре По
«Мой гений состоял в том, — писал Наполеон без несвойственной ему скромности, — что одним быстрым взглядом я охватывал все трудности дела, но в то же время и все ресурсы для преодоления этих трудностей; этому обязано мое превосходство над другими».
Чем сильнее, полководец, тем сильнее в нем равновесие между анализом и синтезом. Что представляет это равновесие с точки зрения психологии? В первую очередь это свобода и гибкость ума. «Ум полководца никогда не должен быть заранее скован и связан этими предварительными точками зрения. Полководец должен иметь достаточный запас возможных планов и комбинаций и обладать способностью быстро менять их или выбирать между ними. Человек, склонный превращать работу анализа в подтверждение заранее принятой им идеи, человек, находящийся во власти предвзятых точек зрения, никогда не может быть хорошим полководцем».
«Воля — целеустремленность, соединенная с правильным рассуждением...»
Платон
«Волю и желание нельзя смешивать... Я хочу действия, которое тянет в одну сторону, в то время как мое желание тянет в другую, прямо противоположную».
Д. Локк
 ГЛАВА 7. ПСИХОЛОГИЯ МЫШЛЕНИЯ 265
ГЛАВА 7. ПСИХОЛОГИЯ МЫШЛЕНИЯ 265И
 нтересно проследить, как Наполеон составлял планы сражений. Он никогда не вырабатывал детальных планов, а лишь намечал основные идеи, или «объективы», как он их сам называл. Важнее всего для него была хронологическая последовательность событий и пути, которыми придется двигаться. План корректировался и менялся непрерывно во время сражения.
нтересно проследить, как Наполеон составлял планы сражений. Он никогда не вырабатывал детальных планов, а лишь намечал основные идеи, или «объективы», как он их сам называл. Важнее всего для него была хронологическая последовательность событий и пути, которыми придется двигаться. План корректировался и менялся непрерывно во время сражения.Надо добавить, что Наполеон умел очень быстро «сочинять планы». У него от природы были сильно развиты воображение и комбинаторные способности. Он знал о них и развивал их непрерывно до уровня величайшего мастерства. Поэтому не стоит говорить, что Наполеон не имел подробного плана сражения, он имел и* несколько и располагал огромным количеством конкретных данных, которые служили материалом для выработки плана. Так что в минуту опасности Наполеон выбирал между несколькими планами сражения! Благодаря особенностям своего мышления, он имел огромное преимущество перед практически любым противником.
«Мы начали с утверждения: деятельность полководца предъявляет очень высокие требования к уму, — заканчивает анализ мышления полководца Теплое. — В дальнейшем мы сделали попытку доказать, развить и конкретизировать это положение. Теперь, подводя итоги, мы должны внести в него некоторое уточнение: для полководца недостаточно природной силы ума; ему необходимы большой запас знаний, а также высокая и разносторонняя культура мысли. Умение охватывать сразу все стороны вопроса, быстро анализировать материал чрезвычайной сложности, систематизировать его, выделять существенное, намечать план действий и в случае необходимости мгновенно изменять его — все это даже для самого талантливого человека невозможно без очень основательной интеллектуальной подготовки».
Суворов был одним из наиболее образованных русских людей своего времени, Наполеон выделялся образованностью среди окружавших его военных. И все-таки самая главная черта характера полководца — работоспособность.
«Работа —• моя стихия, — с гордостью говорил Наполеон. — я рожден и устроен для работы. Я знаю границы возможностей моих ног, знаю границы для моих глаз; я никогда не мог узнать таких границ для моей работы».
Тарле Е., «Наполеон»
Что такое визуальное мышление
Читатель легко узнает, как он мыслит, решив следующую задачу (очень
легкую) и проследив за процессом ее решения. «Сейчас 5 часов 40 минут.
Сколько времени будет через полчаса?». ■
 266
266ПОПУЛЯРНАЯ ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ


Первый вариант решения: вы складываете 30 минут и 40 минут, получаете 70 минут, потом от 70 отнимаете 60 и получаете 10 минут. Ответ: 6 часов 10 минут. Второй вариант решения: вы представляете круглый циферблат часов и две стрелки, одна из которых — минутная — стоит под косым углом на расстоянии двух пятиминутных делений от вертикали циферблата. 30 минут — это полкруга. Поэтому вы передвигаете минутную стрелку на половину циферблата, на противоположную сторону. Глядя на полученную картинку, вы говорите ответ: 6 часов 10 минут. При втором варианте решения читатель использовал силу своего «визуального» мышления. Этот термин ввел в психологию американский психолог Арнхейм. Рудольф Арнхейм (род. в 1904 году)— американский психолог, один из основоположников современной психологии искусства. Именно работы Арн-хейма положили начало современным исследованиям роли образов в мышлении. Арнхейм — ведущий специалист в области изучения особенностей визуального мышления. С 1968 года — профессор психологии в Центре визуальных искусств при Гарвардском университете.
Не только люди умеют мыслить визуально. Вспомните эксперименты ге-штальтпсихологов и бихевиористов с лабиринтами, в которых бегали крысы и несчастные шимпанзе, которые упорно доставали бананы с потолка клетки. Именно визуальное мышление помогало им представить последовательность поворотов или конструкцию из нескольких ящиков.
«Все и повсюду прибегают к визуальному мышлению, — пишет Арнхейм в своей книге «Визуальное мышление» (1969). — Оно направляет фигуры на шахматной доске и определяет глобальную политику на географической карте. Два ловких грузчика, поднимая рояль по вьющейся лестнице, пользуются визуальным мышлением, чтобы представить себе сложную последовательность подъемов, толканий, наклонов и разворотов инструмента».
Визуальное мышление так же трудно, как и логическое, абстрактное мышление. Мнение о том, что чувства лишь собирают информацию, а дальнейший ее анализ совершает голый, бесчувственный разум — ошибка. Чувства — не слуги интеллекта, а его соратники. «У тех, кто считает, что художники мыслят, — считает Теплов, — распространено мнение, что мышление, будучи по необходимости неперцептивным процессом, должно предшествовать созданию образа, так что, скажем, Рембрандт вначале интеллектуально раздумывал над убогостью человеческого бытия и лишь потом вложил результаты своих размышлений в свои картины. Если считать, что художники не думают только тогда, когда рисуют, то нужно понять, что основной спо-
 ГЛАВА 7. ПСИХОЛОГИЯ МЫШЛЕНИЯ 267
ГЛАВА 7. ПСИХОЛОГИЯ МЫШЛЕНИЯ 267к
 оторым художник пользуется, чтобы справиться с проблемами суще-твования, — это изобретение и оценка образов и манипулирование ими. Когда такой образ достигает конечной стадии, художник воспринимает в нем |исход своего визуального мышления. Другими словами, произведение изобразительного искусства является не иллюстрацией к мыслям его автора, а : конечным проявлением самого мышления».
оторым художник пользуется, чтобы справиться с проблемами суще-твования, — это изобретение и оценка образов и манипулирование ими. Когда такой образ достигает конечной стадии, художник воспринимает в нем |исход своего визуального мышления. Другими словами, произведение изобразительного искусства является не иллюстрацией к мыслям его автора, а : конечным проявлением самого мышления».Эта мысль Теплова делает более понятной роль наглядных материалов в обучении. Образ помогает объяснить свойства каких-либо объектов. Именно поэтому мы рисуем в начальной школе абстрактные круги, треугольники, квадраты — чтобы представлять наглядно общее понятие: «круг», «квадрат», «треугольник», которых нет в природе в чистом виде! «Иногда считают само собой разумеющимся, что простой показ картинок, изображающих определенного рода объект, позволит учащемуся подхватить мысль, как подхватывают насморк. Но никакую информацию о предмете не удается непосредственно передать наблюдателю, если не. представить этот предмет в структурно ясной форме!»
Нет вещей только абстрактных или только конкретных. Конкретны все вещи — и физические предметы, и умственные образы. Когда предмет перед глазами и мы им пользуемся, то мы мыслим «руками». Если же предмет физически отсутствует, то у нас есть память о нем. Память поставляет знания об этом предмете в образах. Когда мы мыслим абстрактно, то мы оперируем с этими самыми образами. Предмет и его образ — это то же самое, как человек и его фотография. Мы можем по фотографии представлять человека, разговаривать с ним, вспоминать, как мы общались, рвать фотографию в клочки.
Психологи конца XIX и начала XX века, как ни странно, считали, что существует мышление без образов. Это мнение выросло из того факта, что ни один испытуемый не мог внятно рассказать, что с ним происходит, когда он мыслит. Теплов считает, что ошибка психологов того времени произошла потому, что опыт не совпадал с понятием образа. Образ мыслился как нечто яркое, красочное, полное и верное. На самом деле образ чаще всего бывает бледным, неполным, незавершенным.
Беркли писал, что чаще всего воображает при слове «человек» человеческое туловище без конечностей. Один из испытуемых Коффки при слове-; стимуле «юрист» увидел лишь портфель в непонятно чьей руке. Предметы -■образы чаще всего возникают как бы висящими в воздухе, на пустом фоне, какого-либо окружения. А вот смысл образа ясен всегда! Любое слово чаще всего вызывает обобщенный образ. Испытуемые ффки видели слово «флаг» как «довольно темный», «развевающийся Трехцветный»; «поезд» — как нечто среднее между пассажирским и товарным; «монета»— в виде круглой монеты без определенного достоинства; рИеловек» — как схематическую фигуру без признаков пола. Нецелостность

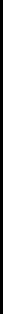
 268 ПОПУЛЯРНАЯ ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ
268 ПОПУЛЯРНАЯ ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИу
 мственного образа — не недостаток, а достоинство нашего мышления. Именно эта нецелостность помогает отличать образ от предмета!
мственного образа — не недостаток, а достоинство нашего мышления. Именно эта нецелостность помогает отличать образ от предмета!Нецелостность выделяет в предмете существенное (вспомните портфель юриста). «Например, холодность человека — это не отдельное автономное свойство, как если бы мы говорили о холодной печке или холодной луне, а общее качество, влияющее на многие стороны поведения этого человека».
Теплов выделяет два понятия — емкость и тип. Емкость — сумма свойств, по которым мы узнаем предмет — реальный или абстрактный. Тип — структурная основа предмета. Когда мы говорим, что лягушка — это маленькое холодное зеленое животное, которое умеет прыгать и плавать, то мы рассказываем о емкости «лягушка». Когда мы показываем фотографии нескольких видов лягушек, то в голове у зрителя формируется тип «лягушка». В творчестве писатель, художник, психолог пользуется преимущественно типами, а не емкостями!
Четыре типа темперамента — это типы, типажи Кречмера (см. главу
«Индивидуальная психология»)— тоже типы, оптимист и пессимист —
типы. Чтобы понять типажи Кречмера, надо их увидеть. Сам Кречмер от
мечал, что его типажи основаны на примерах «самых блестящих проявле-
' ний». Это классические случаи, счастливые находки, они не так-то часто
встречаются в реальной жизни.
Итак, абстрактный образ всегда конкретен и нецелостен. А может ли
I' ' умственный образ быть абстрактным? Психологи начала XX века считали,
'1 | что нет, потому что их испытуемые не могли описать свое мышление. Теплов
J считает, что да: «И все же я решаюсь предположить, что «абстрактное»
|1 воображение принадлежит к числу обычных орудий мозга». Наблюдатели
описывали свое мышление как абсолютно безобразное, потому что под об-
I разами они понимали подобие людей, животных и вещей. «Воспитанный на
реализме традиционной живописи, такой наблюдатель, возможно, был просто неспособен постичь «абстрактные» образы».
Как мы мыслим: словами или... мыслями? Что такое слово?
Еще Аристотеля и Платона волновала проблема отношения мысли к слову. Слово — это та единица мышления, которая далее неразложима (как молекула вещества) и которая содержит все свойства, которые присущи мышлению. Слово имеет личностный смысл для любого человека, свое значение.
«Следует сказать, — пишет Выготский, — прежде всего, что мышление и речь имеют генетически совершенно различные корни. Этот факт можно считать прочно уста-
J

