Актуальные проблемы современной литературы м. М. Голубков (Москва) парадигмы современной литературы
| Вид материала | Документы |
- Место современной художественной литературы в фондах библиотек, 50.32kb.
- Всероссийская молодёжная научная конференция «Актуальные проблемы современной механики, 112.69kb.
- Экспериментальные работы в тгу по внедрению сфо (практикоориентированных и активных, 36.89kb.
- Международная студенческая научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные проблемы, 172.34kb.
- «Актуальные проблемы современной экономики: теоретические и практические аспекты», 14.16kb.
- М. А. Бакулин (УглПК) жанрово-стилистические особенности современной массовой литературы, 106.85kb.
- Рабочая программа, 91.9kb.
- Программа дисциплины «Актуальные проблемы современной экологии» дополнительная квалификация:, 138.34kb.
- Учебно-методический комплекс по дисциплине бийск 2008, 895.16kb.
- Экзамен II семестр 3 ч в неделю в Iсеместре 2 ч в неделю во II семестре, 88.6kb.
СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ДРАМА НА ЧЕШСКИХ СЦЕНАХ
Современная русская драма переживает период, который можно без преувеличения назвать «расцветом». Этому соответствует должное внимание, уделяемое ей русскими театральными критиками и литературоведами. Поэтому настоящая статья задумана не как очередной анализ поэтики современных пьес (подобных работ в России неиссякаемое множество) — я постараюсь в ней кратко проследить, как современная русская драматургия воспринимается в Чехии. Дело в том, что современная русская драматургия в последнее время в чешской театральной среде все чаще становится предметом дискуссии среди специалистов и зрителей. После временного ослабления интереса к ней (это не касается классического репертуара, особенно пьес А. П. Чехова), вызванного общественно-политическими изменениями после бархатной революции (1989 г.), пьесы современных русских авторов начинают наконец-то проникать на чешские сцены. Можно без преувеличения сказать, что наступил своеобразный «бум» русской драмы на чешских сценах. Учитывая то, что объем моей статьи ограничен, я постараюсь отразить это явление в его основных чертах. Статья тематически разделена на две части. В первой части дается ретроспективный обзор постановок пьес современных русских драматургов на сценах Праги и других городов с начала 1990-х годов до настоящего времени. Вторая часть представляет собой краткий обзор пражских постановок пьес самого молодого поколения русских драматургов.
1. Ретроспективный обзор современной русской драматургии на сценах Праги и других городов.
Сценой, на которой современная русская драма прижилась раньше всех, является пражский театр «Divadlo na Zábradlí». Одной из причин указанного факта является, несомненно, и то, что этот театр всегда отличался, не исключая период после 1989 года, позитивным отношением к русскому, в первую очередь чеховскому репертуару.1 Театр «Divadlo na Zábradlí» одним из первых в Чехии начал в первой половине 1990-х годов показывать инсценировки пьес современных русских авторов. В 1993 году он представил чешскому зрителю пьесу Олега Юрьева (живущего в Германии) «Маленький погром в станционном буфете. Маленькая еврейская трагедия» в постановке режиссера Арношта Голдфлама (Arnošt Goldflam).2 Пьеса Юрьева, написанная в форме театра в театре, привлекла Арношта Голдфлама — драматурга, артиста и режиссера не только своей поэтикой, близкой поэтике его собственных драм, но и тематикой, которая является воспоминанием о его собственной еврейской судьбе.
В 1997 году в театре «Divadlo na Zábradlí» состоялась премьера инсценировки известным чешским театральным режиссером Антонином Питинским (Antonín Pitínský) 3 пьесы молодого русского драматурга Ольги Мухиной (*1970 г.) «Таня-Таня». Возникла специфическая, художественно и хореографически тщательно скомпонованная композиция, полная возвышенной поэзии мира влюблённых, где мы чувствуем, по словам Тани, что «в черной машине ездить по Москве, пить шампанское — это такое наслаждение».
После Питинского О. Мухина очаровала и других чешских театральных режиссеров: Филиппа Николлса (Filip Nuckolls) 4 из драматической студии «Činoherní studio v Ústí nad Labem», где была в 2003 году в чешской премьере показана ее пьеса «Ю». Последний, кто поддался очарованию пьес Оли Мухиной, — молодой режиссер родом из Словакии Марьян Амслер (Marián Amsler), 5 который с артистами новой пражской труппы «Divadlo Letí» 6 осенью 2005 года поставил в чешской премьере одноименную пьесу О. Мухиной «Летит».
По количеству премьер постановок пьес современных русских драматургов, показанных на пражских сценах и сценах других городов, можно «рекордным» считать 2004 год. В январе 2004 года пражским зрителям в театре «Divadlo Komedie» была представлена пьеса Александра Сеплярского «Третий Рим» в постановке режиссера Давида Драбка (David Drábek). Сеплярский относится к тем русским авторам, пьесы которых не могли быть во время тоталитарного политического режима в России поставлены. Его пьесы бескомпромиссные, критические, они используют очень современный, грубый язык и не страдают от недостатка сильных тем. Постановкой этой пьесы театр «Divadlo komedie» внес свой вклад в представление чешской общественности той части современной русской драматургии, которая у нас не очень известна. Пьеса с шокирующим сюжетом (инцест) является самобытной полемикой автора с парадоксами развития общества в современной России. Пьеса обращает внимание на кризис традиционных ценностей («если душа не наполнена любовью, она наполняется ненавистью») 7], она заинтересовала прежде всего молодую публику. Сквозь сюжет пьесы просвечивает картина современного мира, в котором что-то не в порядке.
Несколько с опозданием на чешские сцены постепенно проникает и драматургия Николая Коляды, хотя переводом его пьес никто из известных чешских переводчиков систематически не занимается. Впервые чешские зрители смогли познакомиться с творчеством этого драматурга, артиста и режиссера в одном лице 8] в 2004 году в театре г. Брно «Divadlo Husa na provázku», который поставил в апреле 2004 года пьесу «Мурлин Мурло». Несмотря на то, что Коляда по всем внешним атрибутам является «автором с мировым именем», на пражской сцене постановки его пьес появились только в этом году в театре «Švandovo divadlo na Smíchově». Вероятно, не является случайным то, что для представления Николая Коляды на своей сцене театр выбрал из огромного количества (почти ста) его драматических текстов именно пьесу со странным названием — «Курица» (1989). Позволю себе напомнить, что Коляда открыто признаёт влияние на себя только двух классиков: А. П. Чехова и T. Уильямса. В пьесе «Курица», думаю, их несколько. И они не менее известные — Михаил Булгаков и Николай Эрдман. Достаточно вспомнить „Багровый остров“ (1928) Булгакова — сатирический гротеск из театральной среды и гейзеры сатиры из легендарного «Самоубийцы» Эрдмана (1928). Хотя Коляда не направляет свою пьесу против всего общества, своими диалогами он воспроизводит атмосферу текста Эрдмана. Используемое Колядой обращение «товарищ», которое в конце 1980-х годов, к счастью, уже не употребляется, напоминает, что время «товарищей» еще не так далеко и что способ осознанного мышления в пустых фразах, несмотря на радикальные изменения в обществе, сразу из человека не исчезнет.
Для постановки пьесы «Курица» театр «Švandovo divadlo na Smíchově» пригласил русского режиссера Сергея Федотова, который уже несколько лет успешно работает в Чешской Республике. Федотов известен прежде всего как любитель классики. На вопрос, почему он взялся именно за пьесу «Курица», режиссер ответил: «Курица — это пьеса о театре, это пьеса о людях. Это интересная история. И сам Коляда чрезвычайно интересная личность, живет один и у него дома много кошек — для меня он загадочный человек. Помимо того, что он драматург, он также артист и директор театра, поэтому хорошо знает закулисную обстановку. Вся эта история из пьесы может произойти и в обычной жизни». Именно атмосфера — это то, чего старается достичь Федотов. Постановку хорошо дополняет работа со звуком и музыкой (необычное создание атмосферы России в прологе), концепцию режиссера удачно дополняет и сценография Адама Питры (Adam Pitra), создающая атмосферу советской действительности второй половины 1980-х годов.
2. Современная молодежная русская драма на пражских сценах в театральном сезоне 2004/2005 года.
Интересно, что после смерча так называемой «coolness» драматургии из Великобритании и Ирландии все чаще предоставляется слово драматургам того же поколения из России. Речь идет прежде всего об авторах, которых на родине называют представителями „новой драмы“ (В. Сигарев, И. Вырыпаев, братья Пресняковы…). В театральном сезоне 2004/2005 года пражские сцены буквально потрясли три пьесы современных русских авторов: «Черное молоко» и «Пластилин» Василия Сигарева (*1977 г.), а также «Кислород» Ивана Вырыпаева (*1974 г.). В трех указанных постановках видно отличие подхода молодого и старшего поколения создателей к тематике, народному характеру и местному колориту России. Режиссер Ян Качер (Jan Kačer) (*1936 г.) является представителем того поколения деятелей искусства, которое прожило значительную часть своей жизни при старом режиме. Он, разумеется, относится к русской драматургии иначе, чем современные студенты высших учебных заведений. В постановке Качера «Черное молоко», показанное на «Малой сцене» Национального театра в г. Праге («Národní divadlo»), подчеркивается слово «русское». В двух других постановках, реализованных на сцене театра «DISK» (театр студентов Академии театрального и музыкального искусства, далее в тексте чешское сокращенное название «DAMU») самым важным словом следует считать «современное».
Отличие явно заметно уже в самом выборе пьесы. Сюжет «Черного молока» Сигарева исходит из реальной жизни в России, из оторванности провинции от событий в центре и из вытекающей из этого неопытности, наивности и беззащитности местных жителей. Пьеса имеет классическую форму, действие происходит в реальное время, и в ней выступают реальные действующие лица. Студенты «DAMU» выбрали для себя «Пластилин» того же автора и «Кислород» Ивана Вырыпаева, тексты более свободной драматической структуры, которые предлагают более широкие возможности для постановки и интерпретации. Позднее к этим постановкам в театре «DISK» еще добавляется пьеса Ксении Драгунской — «Ощущение бороды». Если в «Черном молоке» современный российский антураж играет относительно принципиальную роль, то в «Пластилине» конкретное место не является слишком важным — действие может происходить в городе, в любой другой стране (не только в России) или в нейтральном месте.
Режиссер Ян Качер в своей постановке «Черного молока» создает на сцене реалии современного общества благодаря комментариям Рассказчика (зал ожидания на железнодорожной станции «Моховая»). О том, что мы находимся в России, нам сразу же «сообщают» детали, например, расписание поездов на деревянной доске, написанное по-русски, и объявление для пассажиров на русском языке. В постановке «Пластилина» в театре «DISK» действие пьесы разворачивается в белом кубе с подвижным потолком. Артисты выходят на сцену через помост, который с ним связан. Единственной кулисой является длинный белый деревянный ящик, символизирующий сначала гроб, потом писсуары в школе и, наконец, опять гроб. Еще заметнее отличие в подходе режиссера к тексту современной русской пьесы в постановке «Кислорода» Вырыпаева, где действие происходит на танцевальной вечеринке в клубе. На возвышенном месте, в задней части сцены находится музыкальный пульт, за которым стоит диск-жокей. Артисты (всегда мужчина и женщина) подходят к микрофонам, размещенным на подставках с краю сцены.
Различный подход к сценографии отражает, конечно, и различный стиль визуальной презентации действующих лиц во всех трех постановках. Самым лучшим примером является различие в изображении «русского человека» в обеих пьесах Сигарева. В этом, на первый взгляд, состоит главное отличие между постановками «Пластилина» и «Черного молока». В то время как Шура и Левчик (главные действующие лица пьесы «Черное молоко») своей одеждой эпатируют вкус чешской публики, главные действующие лица в обеих постановках театра «DISK» носят одежду, в которой можно их сверстников встретить на улице в любом городе Европы. В обеих студенческих постановках главную роль играет сюжет и его интерпретация, детали русской реальной жизни играют второстепенную роль; «что» их интересует больше, чем «где». Несмотря на то, что актерская составляющая обеих постановок театра «DISK» несколько проблематична (постановку обеих пьес осуществили студенты 4-ого курса, эти постановки скорее являются демонстрацией того, что отдельные артисты умеют, вне контекста с общим целым), этот студенческий проект привлек заслуженное внимание зрителей и критиков. В работах студентов «DAMU» чувствуется симпатичное желание что-то сообщить о современном мире, без акцента на то, идет ли речь о западном мире, восточном мире или неконкретном мире. Люди любят друг друга, ненавидят и умирают всегда одинаково.
Театральный сезон 2005/2006 года еще не закончился и поэтому пока его нельзя анализировать. На двух сценах — в пражском театре «DISK» и в драматической студии «Činoherní studio v Ústí nad Labem» — появилась еще одна русская пьеса: «Терроризм» братьев Пресняковых.
Что хочется сказать в заключениe? Отрадно наблюдать, что в чешской театральной жизни представление о русской пьесе перестает быть ограниченным только постановками пьес Гоголя и Чехова. Сегодняшние пражские сцены, на которых идет параллельно почти десяток пьес современных русских авторов (если бы мы учитывали менее известные клубы-театры и менее известные пражские сцены, мы бы насчитали их намного больше), а также театры других городов этот факт красноречиво подтверждают.
______________________________
1. Начиная с сезона 1993/94 г. до своей преждевременной смерти в 1999 г. здесь работал художественным руководителем Петр Лебл (Petr Lébl 1965 — 1999 г), несомненно, самый талантливый чешский театральный режиссер последнего двадцатилетия прошлого столетия. Среди одиннадцати постановок, которые он в театре «Divadlo na Zábradlí» создал, именно чеховские («Чайка», 1994 г. и «Иванов», 1997 г.) получили премию Альфреда Радока (Alfréd Radok) за лучшую постановку года.
2. Арношт Голдфлам (Arnošt Goldflam *1946 г.) — это брненский пишущий режиссер и режиссер-драматург, который в свои пьесы часто включает автобиографические эпизоды, из которых, вероятно, наиболее очевидным является его детство и еврейская судьба, однако ни один из них не имеет в текстах Голдфлама однозначно серьёзного значения. На фоне смерти автор смешивает высокое с низким, юмор с трагедией. В пьесах Голдфлама мы найдем отзвуки абсурдного театра, гротескное преувеличение, отрицание театральной иллюзии и амбивалентность толкования.
3. Ян Антонин Питинский (Jan Antonín Pitínský *1955 г., его родное имя Зденек Петржелка — Zdeněk Petrželka) — театральный режиссер, поэт, прозаик и драматург. Как режиссер он сотрудничает с десятками малых и больших сцен по всей Чешской Республике. Личность Я. А. Питинского является синонимом современного чешского театрального и драматургического творчества. Он является одним из первооткрывателей так называемого альтернативного театра.
4. Филипп Николлс (Filip Nuckolls *1979 г. в г. Усти-над-Орлици) — выпускник театрального факультета Академии театрального и музыкального искусства в г. Праге по специальности «режиссура». Главный режиссер театрального общества «Kašpar» в театре «Divadlo v Celetné». С 2005 г. он является членом драматической студии «Činoherní studio v Ústí nad Labem».
5. Марьян Амслер (Marián Amsler *1979 г.) — выпускник Института музыкального и театрального искусства в г. Братиславе по специальности «режиссура». Его режиссерским дебютом была постановка пьесы О. Мухиной «Таня-Таня» в 2003 г. в братиславской «Студии 12»; в том же году он поставил в новом братиславском театре «Aréna» другую пьесу О. Мухиной «Ю».
6. «Leti» — это новая пражская театральная труппа, состоящая из студентов – новых выпускников «DAMU».
7. Смотри беседу переводчицы пьесы с А. Сеплярским. «SAD» 1993/5.
8. Несмотря на то, что Коляда по всем внешним атрибутам является „автором с мировым именем“ (его пьесы переведены на многие языки мира, кроме России и всей Европы, идут в Австралии, США и Канаде), в чешской среде его знают лишь люди из немногочисленного круга русистов, театральная общественность и несколько режиссеров, которые в последние годы выбрали некоторые тексты Коляды для постановки.
Е. Е. Бондарева (Киев)
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ МОНОДРАМЫ:
ПОДВИЖНЫЕ РАМКИ ЖАНРОЛОГИЧЕСКОГО КАНОНА
Теоретических исследований, посвященных жанровой модели монодрамы, сегодня практически не существует. Только отдельные фундаментальные энциклопедические работы дают скудное терминологическое представление об этом жанровом варианте, обращая внимание лишь на некоторые его аспекты: монодрама рассматривается как одна из разновидностей драмы [12, с. 228] либо как «жанр лирико-драматического межродового образования, в котором посредством монолога-исповеди (движущей силы драматургического действия) происходит самораскрытие героя» [9, с. 411], «одноактное произведение, в котором действует преимущественно один персонаж» [2, с. 344], или вообще как «пьеса для театра одного актера», еще уже – «форма, распространённая на радио» [3, с. 225]. Ни авторитетный в Украине «Літературознавчий словник-довідник» (К., 1997), ни такой нормативный и этапный для европейской теории драмы труд, как «Словарь театра» Патриса Пави (М., 1991), не включают термин «монодрама» в свой тезаурус, что скорее есть правило, нежели исключение.
В теоретическом поле современных спорадических локальных разработок жанрового модуса монодрамы кардинальная функция отводится единственной и ключевой структурной единице монодраматического текста — монологу, что заставляет сначала рассмотреть его семиотические и дискурсивные свойства, а также переходные явления на стыке монолога и диалога (прежде всего скрытого) и факторы, обусловливающие момент перехода монологического речевого потока в диалогический или дискурсный. Монодраму как жанровый модус драмы логично интерпретировать и в едином типологическом ряду с монодрамой как разновидностью психодрамы в терапевтической практике (Я. Л. Морено и его школы) и дискурсивной практикой постмодернистской эстетики. Ведь и психодрама Морено (в том числе монодрама), и монологическая фактура новейшей литературы «потока сознания», и современная монодрама как разновидность («жанр») драматического рода художественной литературы имеют общую генетическую и философскую базу, а нередко — общую цель.
К традиционным жанровым признакам монодрамы В. Ершов [см.: 9, с. 411] относит только три следующие характеристики: в основе композиции монодрамы лежит многособытийная ассоциативная структура, упорядоченная системой лейтмотивов; в монодраме, как правило, выступает один персонаж, а если есть другие — то они активного участия в действии не принимают; монодрама строится как рассказ героя либо его разговор с бессловесным или отчужденно присутствующим персонажем. Как видим, исследователь сосредоточил внимание главным образом на оболочке анализируемой жанровой разновидности, выделив ее актуальные внешние параметры. Сущностное же наполнение монодрамы значительно глубже, а пьесы с идентичной архитектоникой нередко воспринимаются совершенно по-разному, что свидетельствует о недостаточности указанных характеристик для выявления жанровой специфики монодраматического произведения.
Техника психологической монодрамы, оттеснившая на второй план такое продуктивное клише, как Я-драма, доминирует уже в раннем творчестве Я. Л. Морено («Завещание отца», 1920 — 1922). Ученица Морено психодрамотерапевт Грете Лейтц [11, с. 6] настаивает, что в 50-е гг. ХХ века Я. Л. Морено актуализировал на практике два индивидуально-терапевтических метода монодрамы:
- собственно монодрама: психотерапевт работает с пациентом во время сеанса индивидуальной терапии, используя возможности специальных техник, — «это один исполнитель главной роли с режиссером-постановщиком и исполнение всех ролей для себя» (данный метод релевантен таким жанровым разновидностям монодрамы, как диалог с воображаемым собеседником, скрытый диалог, монодрама с несколькими действующими лицами — исполнителями второстепенных или вспомогательных ролей, функционирующими через субъективное восприятие действительности главным персонажем);
- аутодрама: протагонист сам дирижирует своей психодрамой с использованием нескольких вспомогательных Я — «исполнитель главной роли руководит собой и использует вспомогательные Я для завершения взаимодействия» (что применимо к лицам с тяжелыми личными конфликтами и корреспондирует с жанровыми аналогами монодрамы, основанной на внутренних монологах, потоке сознания, а также монодрамы, построенной на «конфликте монологов» и «конфликте интерпретаций»).
Монодрама как жанр опровергает драму как дискурсивную практику агонально-диалогической природы, вместо этого демонстрирует приверженность бинарии «я» / «другой», которой может передаваться не только персонажно позиционированная дихотомия, а прежде всего «образ внутренне расслоенного индивида, как, скажем, при психаналитическом подходе к расколотому субъекту» [14, с. 478]. Л. Ортис разделяет концепты этой бинарной оппозиции и, подчеркнув, что «я» мыслится как субъект собственного отражения или тени, апеллирует к разработанной Ж. Лаканом психоаналитической теории стадии зеркала в человеческом эмоциональном и общественном развитии: «При подобной концепции состояния «я» оно внутренне признает собственного другого внутри себя — именно такое самопознание и самооценка присущи постмодернистскому пониманию личности» [14, с. 478]. Аналогичная рецепция монодрамы как психотехники прочитывается в предисловии к книге «Монодрама: Исцеляющая встреча. От психодрамы к индивидуальной терапии», где монодрама концептируется как метод, имеющий эволюцию в историческом, философском и культурном (прежде всего театральном) контекстах. Психологическая методика монотерапии выводится из известных психодраме техник: внутреннего монолога, дубляжа, обмена ролями, техники «зеркала» и проч., при этом подчеркнуто, что монодрама предоставляет человеку возможность: вывести на сцену разные эго-состояния индивида; включить работу с символическим материалом (воображаемым и материализованным с помощью разных предметов); смоделировать собственный мир вокруг себя и стать его активным участником [7, с. 3 — 4].
Несомненно, монодрама как жанр и как интервенционная психотерапевтическая техника одинаково предполагают возможность спонтанного сценического действия и понимания благодаря удовлетворению «актантного голода» и высвобождению креативного потенциала протагониста: «Индивидуум создает для себя собственную, самостоятельную реальность в субъективном пространстве и благодаря этому получает возможность участвовать в формировании условий своей жизни. Иначе говоря, индивидуум живет в поле напряжения между собственной оформившейся реальностью и реальностью, определенной извне социальными, политическими и общественными факторами» [10, 82 — 83]; следовательно, цель терапии, как и жанровая миссия монодрамы, направлены на это «поле напряжения», чем, собственно, и моделируется возможность нового переживания конфликтного события. Не случайно К. Йорда саму сцену воспринимает как основной структурный элемент в процессе развития и разворачивания личностных систем и в конце концов, экстраполируя постулат «онтогенез есть сокращённая форма филогенеза» на монодраматический сеанс психотерапии, приходит к выводу, что «ролевое развитие в индивидуализации соизмеримо с ролевым развитием в процессе монодраматической работы» [10, с. 97].
Монодрама в большей степени, нежели другие жанровые модусы драматического рода, ориентирована на художественную условность. В принципе любой развернутый монолог, не адресованный собеседнику, неправдоподобен: ведь в жизни-то человек не выступает с развернутыми сентенциями, обращенными к себе самому; П. Пави не случайно акцентирует, что монолог воспринимается как определенная антидраматическая единица именно благодаря его «статичности» и «неправдоподобию»: «изображение персонажа, делящегося своими переживаниями с собственным Я, легко переступает грань комедийного, позорного, к тому же оно всегда ирреально и неправдоподобно» [15, с. 191]; в то же время монологу отводится важная содержательная нагрузка в драматургическом произведении, поскольку он способен концентрировать внимание на том, что человек в данном контексте остраннен (самоизолирован) либо же актер произносит вслух то, что на уровне внутренней речи происходит с его персонажем, то есть монолог апеллирует к условности театральной игры и условности организации театрального действа, а в монодраме это едва ли не единственный способ раскрыть образ персонажа и его контекст. Собственно говоря, на этом А. Юберсфельд выстраивает свою концепцию театрального говорения, опирающуюся исключительно на диалогичность, присутствующую даже в монологе: «Диалогичность эта определяется тем, что театральное говорение всегда порождается коммуникативной ситуацией, всегда обращено к кому-либо» [16, с. 218]. Аналогично мыслит А. Домашнев, замечая, что иногда диалог может протекать будто бы в форме монолога одного из собеседников, «но его присутствие в целом не позволяет этому высказыванию превратиться в монолог» [8, с. 261]. Монолог является структурным полем автокоммуникации (коммуникативная модель «Я» — «Я»), «особой разновидностью замкнутого на себя общения» [3, с. 255]. К оценкам, данным монологу в теоретическом корпусе П. Пави, близки и мысль М. Вороного, склонного рассматривать драматургический монолог как несовершенный по сравнению с диалогической формой «пережиток монодрамы», «ненатуральную и неблагодарную форму для интерпретации внутренних переживаний» [4, с. 167], и точка зрения Э. Бентли, убежденного, что монолог не есть драматический способ «создания индивидуального портрета», а выступает не более чем утонченным приемом, посредством которого автору удается изобразить отсутствующего персонажа так же реально, как если бы он находился на сцене, а в остальном продолжить развитие действия средствами «ортодоксальной драматургии» — то есть драматизируя отношения между людьми [1, с. 60 — 61]. Не лишне заметить, что в монодраме большую часть своих монологических историй персонажи рассказывают в предельно психологическом состоянии (сны, аффект, агония перед казнью либо самоубийством или откровенное сумасшествие) [6, с. 13]. Различные определения дефиниции «монолог» учитывают, что это «длительное, внутренне однородное и связное высказывание, принадлежащее одному субъекту и выражающее его мысли, осознанные или подсознательные переживания, рефлексии, чувства и акты воли» [13, с. 477], «речь одного персонажа, в которой он раскрывает душу в критический момент, размышляет, рассказывает о том, что происходит вне сцены, обосновывает целесообразность своих поступков, выражает сомнения, раскаяние» [17, с. 414], «долгий дискурс, созданный одним персонажем (и не адресованный другим персонажам)» [18, с. 70], «речь персонажа, не обращенная непосредственно к собеседнику с целью получить от него ответ» [15, с. 191]. Основные характеристики монолога можно вывести уже из определений процитированных авторов:
- монолог сам создаёт для себя контекст, являющийся определенной структурированной целостностью с четкой взаимосвязью компонентов;
- монолог замедляет развитие сценического действия, нередко вообще предельно редуцирует либо в принципе упраздняет внешнюю событийную линию, переводя действие в исключительно внутренний план, поляризуя при этом оппозиции «вербализованное» / «невысказанное», «невысказываемое»;
- монолог контаминирует в себе субъекта, адресата и ситуацию, то есть так или иначе потенциирован на диалогизацию (опосредованную, скрытую или непосредственную): «монолог, структура которого не предполагает ответа собеседника, устанавливает прямую связь между говорящим и ординарным представителем того мира, о котором он рассказывает» [15, с. 192]; в непосредственной живой речи монологическое высказывание нередко запрограммировано на диалогичность, ибо речевой акт рассчитан на слушателя — и именно поэтому «расхождения между диалогом и монологом нередко становятся размытыми, поскольку многие реплики содержат элементы как того, так и другого» [8, с. 261];
- монолог сценический (особенно монолог монодраматический), даже не окрашенный очевидной диалогической направленностью, все равно предполагает разные диалогические уровни:
а
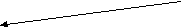

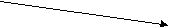 ктер, произносящий монолог
ктер, произносящий монологсоциум в целом сцена как собеседник «подслушивающий» зритель.
«Такой прямой выход на публику является одновременно и сильной, и слабой, «неправдоподобной» стороной монолога: вдруг возникает эффект присутствия актера и вместе с тем в его обращенном к себе дискурсе проявляется вся совокупность социальных связей в иконизированной и явной форме» [15, с. 192]. П. Пави не случайно ведет речь о так называемой «драматургии дискурса», разрушающей канонизированные стереотипы диалогического и монологического говорения.
Еще одно существенное замечание. Монодрама имеет довольно своеобразную актантную модель. Ее герой-протагонист одновременно вынужден перебирать на себя и другие функции, в том числе воплощать не только субъект-объектные отношения (он сам создает драматическую ситуацию и сам ищет пути выхода из нее), а и категориально-синкретические (охватывает своей сущностью все реализованные в пьесе комбинации характеров); он в определённой степени и отправитель, и адресат информации, он своим сценическим действием (вербальным или невербальным) может себе с одинаковым успехом помогать и вредить. Его положение усугубляется и тем, что он играет при этом не разных персонажей, а одну суперсложную монолитную психологическую либо депсихологизированную суперсистему, воплощенную, как правило, в одном человеческом индивиде. Таким образом, в монодраме, как ни в одном другом драматургическом жанровом модусе, выдержан статус кво:
синкретический актант = актер = протагонист.
Современная монодрама сравнительно с недавним этапом развития жанра (80-ми — началом 90-х годов ХХ века) существенно изменяет свои границы и казавшиеся незыблемыми жанровые характеристики.
Если взять за точку отсчета предыдущие яркие образцы этого жанра в украинской драматургии, созданные «традиционалистами» (драма «Стена» Ю. Щербака) и драматургами «новой волны» (трагикомедия «Синий автомобиль» Я.Стельмаха), то можно констатировать, что в 80-е структурирующей доминантой монодрамы был глубочайший психологизм, нашедший отражение в мощном лирическом начале внутренних монологов моногероя, существовавшего на сцене «кордоцентрично»; в обильной орнаментации стилистики внешней речи; в «оживании» на сцене воспоминаний и представлений (тогда драматурги прибегают к отмеченному еще Л. Якубинским «реплицированию» внутреннего монолога [19]); наконец, в неординарности, уникальности, «нетипичности» протагониста, наделенного необычайным внутренним и внешним лиро-драматургическим потенциалом. Монодраматические герои в этот период стремятся найти собственную идентичность, сохранить цельность своей личности, демонстрируют сопротивление личности раздвоению внутри себя — разделению на «я» и «другого».
У пьесы «Синий автомобиль» Ярослава Стельмаха есть авторское жанровое определение – «трагикомедия», хотя текст создан всецело как монодрама: заявлено единственное действующее лицо — писатель А (прочитывается «семантический палиндром» А-Я, за которым закодировано имя самого Ярослава). На первый взгляд, драматург стремится вывести на сцену обнаженный процесс писательского творческого акта — в печатную машинку заложен чистый лист бумаги, протагонист будто бы изобретает непосредственно перед нами невероятные сюжеты и загадочные перипетии, которые будут переживать его персонажи, и игра с читательским сознанием на паратекстуальном уровне первой ремаркой программирует, что «на наших глазах будет происходить синтез мысли». Но хаотичная коллизия «выстраивания» искусственного сюжета перерастает в беспрерывный, основанный на лучших традициях солилоквиума, речевой поток героя, в словесном обилии которого, среди плевел и квазихудожественной шелухи, мастерски сокрыто золотое зерно художественной правды о самом драматурге («Вся жизнь моя — бессмысленная книга, на каждой странице, где слово «счастье», я вижу: прочерк, прочерк, прочерк...»), о его сложной внутренней жизни, спрятанной от посторонних глаз даже близких ему людей, о его духовном одиночестве, лишённом романтического настроя, но не превратившемся в экзистенциальную пустоту лишь потому, что есть заветная точка отсчёта, короткий момент истины, когда моногерой таки был очень счастливим — далекий миг детства, когда ему подарили синий автомобиль, когда мечты на мгновение совпали с реальностью, а мир будто раздвинул привычные границы и навсегда стал более светлым. Даже формально собственно драматургические маркеры сведены в тексте пьесы на минимум: Я. Стельмах минимализирует ремарки, избегает внутреннего членения монологического текста — вся его пьеса является одним развёрнутым абзацем без дополнительной графической организации, сценические действия персонажа уступают речевым, иногда достигающим настоящих лирических вершин. Драматургический текст, выстроенный по аналогичным критериям, практически синхронно с Я.Стельмахом создает и австрийский драматург Т. Бернгард — имею в виду его «комедию» «Старые Мастера», которую украинский переводчик и комментатор Бернгарда Т. Гаврилив считает «монологом» или «рафинированной пьесой для одного актера» [5, с. 7]. Эта пьеса тоже состоит из единственного довольно пространного абзаца, хотя ее протагонист, в противовес моногерою Я.Стельмаха, говорит практически без пауз — то есть в пьесе совсем отсутствуют ремарки, ее текст состоит исключительно из развернутого монологического фрагмента, охватывающего события более чем тридцати лет, лирический накал монолога то нарастает, то нивелируется, а финал тоже остается открытым: следовательно, Я. Стельмах работал целиком в жанровом фарватере европейской драматургии 80-х, и его экспериментальные тексты не уступают в мастерстве сложнейшим жанрологическим экспериментам признанных западных мастеров.
Как видим, монодрама 1980-х — начала 1990-х гг. ХХ века воистину воспринималась как жанровый модус, граничащий с лирикой и драмой, пропорционально аккумулируя их родо-видовые признаки, ставя в центр неординарную личность протагониста, проживающего сложнейшую внутреннюю жизнь. В 1990-х годах ХХ века разрушению и деформации подлежат многие жанровые каноны, существенные подвижки и трансформационные процессы в жанровом моделировании ощутимы и в монодраматических текстах. Новейшие драматурги ставят и этот жанр в эпицентр экспериментов, размывая его структуру, разрушая его границы и прокладывая путь от монологического типа говорения-размышления (лирического откровения, исповеди, протокола внутренней жизни, сценического переживания биографического сюжета) персонажа до дискурсивного типа своеобразного сценического монолитного единства: в традиционные параметры жанрового модуса, пограничного между собственно драмой и лирикой, например, абсолютно не вписываются тексты А. Шипенко, Ю. Паскара, Е. Гришковца, как, кстати, и другие экспериментальные монодрамы современных украинских авторов-прозаиков, скажем, С. Пыркало и В. Дибровы.
Сегодня есть все основания говорить об актуализации категории содержательности жанровых форм в новейшей драматургии, в том числе и в жанровом модусе монодрамы. Помимо дальнейшей разработки традиционного русла углубленного лиро-психологизма, здесь актуализация имеет два вектора: с одной стороны, размывание жанровых констант на пути от монологической драматургии к драматургии дискурса, в которой «от самого дискурса, от его структуры зависит вся организация сцены» [15, с. 192], поскольку дискурс перестает быть речевым кодом, «вписанным» в изображение и сценическую речь, а становиться стержневой структурой театрального действа как целостности; с другой стороны, возобновлением жанровых границ, которые теперь учитывают достижения других пограничных родо-видовых структур, и прежде всего иных жанровых разновидностей внутри самого драматического рода, чем постепенно обогащается жанровый код даже в эпоху тотального разъятия эстетических форм и ревизионного пересмотра драматургической аксиологии.
________________________________
- Бентли Э. Жизнь драмы: Пер. с англ. / Э. Бентли. — М.: Искусство, 1978.
- Близнюк А. Монодрама / А. Близнюк. // Лексикон загального та порівняльного літературознавства. — Чернівці: Золоті литаври, 2001.
- Борев Ю. Б. Эстетика. Теория литературы: Энцикл. словарь терминов / Ю. Б. Бореев. — М.: Астрель-АСТ, 2003.
- Вороний М. К. Драма живих символів / М.К. Вороний. // Вороний М. К. Театр і драма: Зб. ст. / Упоряд., вступ. ст. О.К.Бабишкіна. — К.: Мистецтво, 1989.
- Гаврилів Т. Антиестетика Томаса Бернгарда / Т. Гаврилів. // Бернгард Т. Старі майстри: Комедія. Елізабет ІІ: Катма комедії: Пер. з нім. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1999.
- Генсіцька І. Сповіді «Відлуння» // Український театр. 2003. № 4.
- Горностай П. От редакции / П. Горностай. // Эрлахер-Фаркас Б., Йорда К. Монодрама: Исцеляющая встреча; От психодрамы к индивидуальной терапии: Пер. с нем. — К.: Ника-Центр, 2004.
- Домашнев А.И. К социологии языка драмы / А. И. Домашнев. // Литература. Язык. Культура: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Г.В.Степанов. — М.: Наука, 1986.
- Єршов В.О. Монодрама / В. О. Єршов. // Українська Літературна Енциклопедія: В 5 т. – Т.3. – К: Українська енцикл., 1995.
- Йорда К. Рецепционная теория с особым учетом сценического понимания // Эрлахер-Фаркас Б., Йорда К. Монодрама: Исцеляющая встреча; От психодрамы к индивидуальной терапии: Пер. с нем. — К.: Ника-Центр, 2004.
- Лейтц Г. Вступительное слово / Г. Лейтц. // Эрлахер-Фаркас Б., Йорда К. Монодрама: Исцеляющая встреча; От психодрамы к индивидуальной терапии: Пер. с нем. — К.: Ника-Центр, 2004.
- Монодрама // Литературный энцикл. словарь. — М.: Сов. энцикл. 1987.
- Монолог // Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І Ковалів та ін. — К.: ВЦ «Академія», 1977.
- Ортіс Л.М. «Я»/інший (selt/other) / Л. М. Ортіс. // Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч.Вінквіста та В.Тейлора; Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2003.
- Пави П. Словарь театра: Пер. с фр. / — М.: Прогресс, 1991.
- Поляков М. Я. В мире идей и образов: Историческая поэтика и теория жанров. – М.: Советский писатель, 1983.
- Современный словарь-справочник по искусству. — М.: Олимп, 1999.
- Ткачук О. М. Наратологічний словник. — Тернопіль: Астон, 2002.
- Якубинский Л. П. О диалогической речи // Русская речь. — Пг., 1923.
Л. Б. Сямёнава (Мінск)
