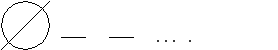Диссертация на соискание ученой степени
| Вид материала | Диссертация |
- Диссертация на соискание ученой степени, 3188.43kb.
- Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук, 1614.07kb.
- М. С. Тарков Математические модели и методы отображения задач обработки изображений, 17.1kb.
- Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 2079.82kb.
- Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук, 5248.42kb.
- Диссертация в форме научного доклада на соискание ученой степени доктора медицинских, 907.5kb.
- Диссертация на соискание ученой степени, 3924.03kb.
- Диссертация на соискание ученой степени, 2781.79kb.
- Диссертация на соискание ученой степени, 2577.32kb.
- Диссертация на соискание ученой степени, 2127.42kb.
Лингвистический статус зевгматических конструкций.
1.1.Из истории вопроса о зевгматических конструкциях. Дефиниции зевгматических конструкций.
Первые сведения о зевгме встречаются еще в античных риториках. Анаксимен в риторических рекомендациях «Желающему говорить кратко» определяет зевгму как сопряжение и советует ораторам чаще использовать в речах такие сопряжения [Античные теории языка и стиля, 1996, c.172]. Квинтилиан относит зевгму к фигурам кратким и оригинальным и отмечает, что в зевгме «к одному слову относятся несколько членов предложения, причём в каждом из них, взятом в отдельности, ощущалось бы отсутствие этого слова» [Античные теории языка и стиля, 1996, c.268]. Представляется целесообразным опираться на античную традицию. Это позволит избежать ошибок и неточностей при выявлении сути и особенностей языкового явления, именуемого зевгмой, поскольку данное явление впервые было отмечено, описано и именовано античными риторами. С точки зрения античных риторов, под зевгмой следует понимать сопряжение, а одним из важных свойств зевгмы является «отнесение к одному слову нескольких членов предложения». Отметим, что в переводе с греческого зевгма означает «связь», «сочленение». Современные определения зевгмы сходны в том плане, что за основу в определении лингвистического статуса данного явления берется именно связь, сопряжение, соединение элементов и отнесение данных элементов к одному, объединяющему их слову. Это слово исследователи называют по-разному (главное, опорное, ядерное).
Так, в Оксфордском словаре зевгма определяется как «Фигура, заключающаяся в том, что одно слово связывается с двумя или несколькими словами, а по смыслу относится только к одному из них или относится к ним в разных смыслах» [Цит. по: Береговская Э.М., 1984, с. 54].
В российской риторике и стилистике в настоящий момент под зевгмой понимается два различных языковых явления:
«1. Зевгма синтаксический приём экономии языковых средств, состоящий в том, что слово, образующее однотипные сочетания с несколькими разными словами фигурирует в высказывании только один раз – в начале (протозевгма), в середине (мезозевгма) или конце (гипозевгма): «Один ведерком черпает, другой шапкой, третий горстями»
2. Зевгма – фигура речи, создающая юмористический эффект в силу грамматической или семантической разнородности или несовместимости сочетаний, образующихся при соединении языковых единиц: «Он пил чай с женой, с лимоном и с удовольствием» [Ахманова О. С., 1966, с.158].
А. Квятковский рассматривает зевгму как отсутствие повтора, т.е. в первом значении, грамматическом [Квятковский А. П., 1998, с.20]. На грамматическом аспекте, давая определение зевгме, останавливает свое внимание Т. Г. Хазагеров, а объединение в высказывании двух или более членов, оформленных как однородные, но различаемых в грамматическом и синтаксическом отношении, называет силлепсисом [Хазагеров Т. Г., Ширина Л. С., 1999, с.267]. Большинство исследователей, основываясь на античной традиции, рассматривают зевгму как экспрессивную языковую единицу, воздействие которой основано на объединении семантически несовместимых компонентов в качестве однородных [Береговская Э. М., 1984; Лукьянов С. А., 1991; Скребнев Ю. М., 1975; Сковородников А. П., 2003].
Поскольку зевгма в первом значении дублирует термин эллипсис, при её рассмотрении как стилистического явления целесообразно отказаться от первого (грамматического) понимания.
Чаще всего зевгма становится предметом исследования в тех случаях, когда анализируются приемы и средства создания комического эффекта. Так, В. В. Виноградов, анализируя язык русских писателей, упоминал о «комически заострённом приеме неожиданной присоединительной сцепки слов разных грамматико-семантических категорий» [Виноградов В. В., 1981], но В. В. Виноградов не употреблял термин «зевгма». Л. А. Булаховский среди юмористических приемов Н. В. Гоголя выделял «неожиданное, противное логике, сочетание абсолютно по их природе друг к другу не относящихся понятий, внешне данных как параллельные, связанные» [Булаховский Л. А., 1954]. В. А. Соловьян отмечает, что зевгма создает комический эффект [Соловьян В. А.,1959]. С. А. Лукьянов рассматривает зевгму как явление, ориентированное на игру слов при создании комического эффекта [Лукьянов С. А., 1991, с.48] и иллюстрирует свое утверждение следующим примером: «Она принуждена была встать со своего ложа в негодовании и папильотках» (Ф. М. Достоевский).
М. П. Брандес, рассматривая фигуры неравенства, определяет зевгму как «фигуру языкового комизма», которая представляет собой синтаксическое объединение двух семантически несовместимых членов предложения [Брандес М. П., 1971].
Однако зевгма и другие зевгматические конструкции функционируют в текстах не только как фигуры, участвующие в создании комического эффекта. В лирических, драматических и трагических произведениях их использование драматизирует или трагедизирует повествование.
Характеризуя особенности структурной организации зевгмы, С. А. Лукьянов отмечает, что при их построении «одно слово конструкции связывается с двумя (или несколькими) словами грамматически, но по смыслу относится только к одному из них или относится к ним в разных смыслах, например, в абстрактном и конкретном». Исследуемые нами стилистические фигуры автор рассматривает как конструкции «с неоднородными связями подчинённых элементов с общим подчиняющим словом, создающие таким образом комический эффект <…> Зевгма имеет отчётливо выраженный характер каламбура, зевгматические единицы можно квалифицировать как построения каламбурного характера <…> » [Лукьянов С. А., 1994].
В качестве приёма, использующегося в юмористических и сатирических произведениях, зевгма рассматривается в диссертации Т. А. Буйницкой «Языково-стилистические средства юмора и сатиры в публицистике Э. Э. Киша». Рассматривая особенности зевгмы, Т. А. Буйницкая отмечает, что
«<…> приравнивание далеких и даже контрастных по своему смыслу слов и выражений создаёт комическое впечатление, но за внешней абсурдностью скрывается глубокий внутренний смысл, поэтому данным приёмом охотно пользуются многие писатели и поэты» [Буйницкая Т. А., 1967, с.87].
Ю.М. Скребнев, относя зевгму к фигурам неравенства, подчеркивает: «<…> в зевгме всегда имеет место неожиданное, логически неоправданное переключение на новый объект, на новый предмет речи <…>» [Скребнев Ю. М., 1975, с. 154].
В. П. Ковалев квалифицирует зевгму как « <…> прием, состоящий в том, что в ряд синтаксически однородных членов предложения сводятся слова, семантически разноплановые, в языке обычно не соединяемые, а наблюдаемые прежде всего в художественной речи». Давая определение описываемому приему, автор именует его окказиональным сочинением [Ковалев В. П., 1981, с.149].
В. З. Санников, рассматривая зевгму как разновидность языковой игры с использованием сочинительных конструкций, подчеркивает, что в «лексеме, подчиняющей сочинительную цепочку», объединяются разные значения и приводит следующий пример:
«Вместо него я получил золотую медаль и зонтиком по шее от его мамаши на выпускном вечере» (Ф. Искандер, по [Походня, 1989])» [Санников В. З., 1999, с. 129]. Необходимо отметить, что в «лексеме, подчиняющей сочинительную цепочку» не всегда актуализируются разные значения. Даже при условии, что в данной лексеме актуализируются лишь нюансы значений или одно значение, мы можем квалифицировать конструкции как зевгматические, если в цепочке однородных членов наблюдается семантическая неоднородность. На этом факте останавливает свое внимание и С. А.Лукьянов, отмечая, что в зевгме в ядерном (опорном) слове может актуализироваться одно значение [Лукьянов С. А., 1991, с.71]. Соединение семантически неоднородных членов предложения является основой воздействия при использовании зевгматических конструкций, за счёт которого в опорном слове в некоторых случаях могут актуализироваться разные значения.
Е. В. Клюев отмечает, что «зевгма <…> представляет собой один из наиболее «ошарашивающих» речевых приемов: она ставит конфликтующие понятия «лицом друг к другу», в самый близкий контекст, фактически сталкивая их значения» [Клюев Е. В., 1999, c. 206]. Однако нельзя согласиться с мнением Е. В. Клюева в том, что он относит зевгму к тропам, не принимая во внимание ее фигуративные признаки. Зевгма имеет определенную структуру, схему построения (один из основных признаков фигуры): опорное слово + цепочка семантически неоднородных членов предложения или цепочка семантически неоднородных членов предложения. Рассматривать зевгму как троп не вполне верно. Это стилистическое явление следует квалифицировать как семантическую стилистическую фигуру, поскольку воздействие зевгмы обусловлено и синтаксически (наличие определенной схемы построения) и семантически (нарушение семантической сочетаемости). В связи с этим необходимо отметить, что Ю. М. Скребнев, рассматривая зевгму в ряду фигур неравенства и описывая ее структурные особенности, отмечает: «<…> зевгму образует совместная встречаемость и формальная тождественность связи двух и более смысловых элементов (слов, словосочетаний) с одним и тем же близлежащим элементом при очевидной, бросающейся в глаза разнородности этой связи, поскольку параллельно сочетающиеся элементы либо образуют неодинаковые типы сочетаний с близлежащим элементом (фразеологическое и свободное, обстоятельственное и с предложным дополнением, различных типов обстоятельств и т.д.), либо выражают понятия, принадлежащие к отдаленным одна от другой семантическим сферам» [Скребнев Ю.М., 1975, с. 153]. «Любой пример зевгмы (как бы мы ни трактовали объем этого понятия <…>) представляет собой нарушение семантических запретов», – подчеркивает Ю. М. Скребнев.
«Употребление слова (или сочетания слов) в переносном значении», использующееся для «усиления изобразительности и выразительности речи» [«Лингвистический энциклопедический словарь», 1990, с. 520], присущее зевгме, указывает на её семантическую природу.
Отметим, что зевгму можно квалифицировать как фигуру, обладающую тропеическими признаками, т.к. при построении зевгмы происходит изменение собственного значения слова: опорное слово может одновременно выступать в двух или нескольких значениях. На тот факт, что троп характеризуется изменением собственного значения слова, указывал Квинтилиан: «Троп есть такое изменение собственного значения слова или словесного оборота в другое, при котором получается обогащение значения» [Цит. по: Лингвистический энциклопедический словарь, 1990, с. 520]. В энциклопедическом словаре-справочнике «Культура русской речи» троп определяется как «стилистический приём, заключающийся в употреблении слова (словосочетания, предложения) не в прямом, а в переносном значении» [Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник. М., 2003, с.718]. В зевгме слово может употребляться в прямом и в переносном значении одновременно.
Фигуративно-тропеическая сущность зевгмы так или иначе отмечается исследователями, освещающими проблемы экспрессивного синтаксиса: «Зевгма вместе с катахрезой и оксюмороном, которые обусловлены очень сильно и семантически, и морфологически, и структурно, образует как бы промежуточную группу между тропами и фигурами. Стилистический эффект зевгмы зависит именно от ее тройной обусловленности. Если разрушить это единство, стилистический эффект пропадет» [Береговская Э. М., 1984, с. 90–91].
Т. Л. Ветвинская при изучении приёма перечисления рассматривает группу комических описаний, воздействие которых основано на семантической неравноценности однородных членов: «в <…> случаях семантической неравноценности однородных членов предложения их смысловая разобщённость подчеркивается грамматической однородностью, что и создает комический эффект» [Ветвинская Т. Л., 1987, c.232]. «Семантическая разнородность членов сочетания, пишет в диссертации Т. Л. Ветвинская, может быть подчеркнута использованием при них обобщающего слова, которое собирает воедино разноплановые понятия <…>» [Ветвинская Т. Л.,1987, c. 208].
Е. В. Максименко, анализируя языковые средства создания комического в современной французской прозе, пишет: « Способность сцепливать слова, семантика которых относится к смысловым сферам, далёким одна от другой, а иногда и вступает в неожиданный контраст, делает зевгму синтаксическим приёмом, особенно благоприятным для создания комической стилистической экспрессии» [Максименко Е. В., 1983, c. 116].
И. М. Байбакова, рассматривая иронию как средство реализации речевой установки на материале англоязычной литературы, говорит о том, что «соединение разнородных понятий при перечислении порождает иронический эффект» [Байбакова И. М., 1987, c. 63].
А. Ю. Шашурина, раскрывая особенности игры слов во французском языке, относит нарушение законов сочетаемости слов (ложное сочинение) к острословию, а острословие рассматривает как один из способов создания комического эффекта [Шашурина А. Ю., 1988, с.17].
Е. А. Гаранина указывает на «распространённость зевгмы как стилистического приема создания комического» и анализирует функционирование зевгмы, наряду с другими средствами создания комического эффекта, в детской литературе [Гаранина Е. А., 1998, с.150].
Часто лингвисты, рассматривая конструкции, в которых так или иначе нарушается семантическое единство, не дают им определенного названия, однако указывают на механизм создания стилистического эффекта при использовании конструкций такого рода. Так, Е. М. Кагановская и Н. А. Мостовая, анализируя иронические средства, используемые М. Эме и М. Паньолем при создании характеристик персонажей, отмечают: «Рассмотрение отдельного вида иронии (затрагивающего уровень причинно-следственных связей) в пьесах М. Эме и М. Паньоля позволяет прийти к заключению, что ироническая характеристика персонажей создаётся прежде всего путем использования разнонаправленной и разноуровневой лексики <…>» [Кагановская Е. М., Мостовая Н. А., 2001, с.32].
Не только лингвисты, но и психологи обращают внимание на особую роль зевгматических конструкций в создании комического эффекта. Так, З. Фрейд в работе «Остроумие и его отношение к бессознательному» [Фрейд З., 1999], исследуя механизмы создания остроты и особенности воздействия остроты на сознание и подсознание адресата, упоминает о «техническом приёме присоединения» и именует описываемый приём «остроумным перечислением», при этом приводит следующий пример: «Вообще геттингенские жители разделяются на студентов, профессоров, филистеров и скот <…> Изображение при помощи противоположности служит работе остроумия», добавляет в этой связи З. Фрейд» [Фрейд З., 1999, с.76-77].
Несомненно, что в большинстве случаев использование зевгматических конструкций вызывает комический эффект. Однако в определенном контексте, например, в лирической поэзии, зевгматические конструкции могут становиться средством передачи различных эмоциональных состояний и создавать как драматический, так и трагический эффекты. Об этом писал В. П. Ковалев в исследовании, посвященном анализу языка и выразительных средств русской художественной прозы: «Принято считать, что окказиональное сочинение служит только или почти исключительно для создания комического эффекта. Однако это не совсем так. В произведениях многих писателей оно действительно применяется с установкой на смешное: «<…> проект преобразования России, основанный на превращении церквей в школы, а аршинов в метры» (Герц. «Доктор»), «Игнатов заметил с добродушным смехом, что она не только стихов, но и сахару не любит» (Тургенев. «Затишье»). Но чаще окказиональность однородных членов выражает разнообразные некомические коннотации: «Странно было видеть так рассуждающих людей, пропитанных водкой и злобой, иронией и грязью» (Горьк., «Бывшие»)» [Ковалев В.П., 1981, с.150].
Э. М. Береговская, определяя стилистическую роль зевгмы, также отмечает, что зевгма способна создавать не только комический эффект: «Когда речь идет о стилистической роли зевгмы, прежде всего приходит на ум обширная область комического, одним из словесных средств которого зевгма является. Но общеизвестное положение, что зевгма способна создавать комический эффект, нуждается в уточнении <…> » [Береговская Э. М., 1984, c. 79].
Анализ и сопоставление исследований, авторы которых касаются проблем лингвистического статуса и функционирования конструкций, построенных путем синтаксического уравнивания семантически неоднородных членов предложения, анализ фактического материала позволили нам выявить основные свойства зевгматических конструкций, определить механизмы, при помощи которых создается стилистический эффект, определить особенности построения таких конструкций и выделить их типы.
Опираясь на опыт исследователей стилистических ресурсов русского языка и на свои наблюдения, даём следующее общее определение зевгматических конструкций:
Зевгматические конструкции – стилистические фигуры, при построении которых наблюдается отступление от общепринятых норм русского литературного языка, выражающееся в том, что семантически неоднородные члены предложения, занимающие одинаковую синтаксическую позицию, объединяются как однородные:
«Индейцы босые, а если обуты, то во что-то не поддающееся ни чистке, ни описанию» (В. В. Маяковский).
При построении зевгматических конструкций в некоторых случаях наряду с семантической неоднородностью может наблюдаться грамматическая несочетаемость: «В молодости своей он был и капитан, и крикун, употреблялся и по штатским делам, мастер был хорошо высечь, был и расторопен, и щеголь, и глуп» (Н. В. Гоголь).
Наличие опорного слова не является обязательным признаком всех зевгматических конструкций.
Структурные варианты зевгматических конструкций можно представить следующим образом:
| Опорное слово, в котором актуализируется несколько значений или оттенков значения | + | цепочка семантически неоднородных членов предложения, занимающих одинаковую синтаксическую позицию. |
| Опорное слово, в котором не актуализируется нескольких значений | + | цепочка семантически неоднородных членов предложения, занимающих одинаковую синтаксическую позицию. |
| Опорное слово отсутствует | | цепочка семантически неоднородных членов предложения, занимающих одинаковую синтаксическую позицию. |
Графически это можно представить так:
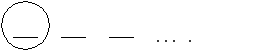
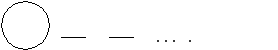
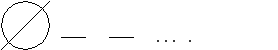
Семантическая неоднородность членов предложения, занимающих одинаковую синтаксическую позицию, – основной признак всех зевгматических конструкций. Помимо этого существует ряд дополнительных (факультативных) признаков, которые характерны для разных типов зевгматических конструкций. В зависимости от наличия или отсутствия факультативных признаков выделяются следующие типы зевгматических конструкций: зевгма, зевгматическое перечисление, зевгматический анаколуф, аккумуляция, зевгматическая градация, зевгматически трансформированный фразеологизм, зевгматическое сравнение, зевгматическое сопоставление, синтаксический коллаж. Анализ фактического материала также дал основание для выделения морфологических, синтаксических, семантических типов. Подробное описание выделенных типов дается во II–ой главе диссертационного исследования.
Зевгма – стилистическая фигура, состоящая из семантически неоднородных членов предложения, занимающих одинаковую синтаксическую позицию, и опорного слова, в котором за счёт семантической неоднородности элементов, объединяемых как однородные, могут актуализироваться разные значения или оттенки значений:
«Коньяк расширяет не только сосуды, но и связи» ( Шутка).
Графически это можно представить так:
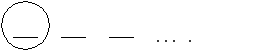
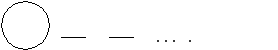
Опорное слово в зевгме может выступать в качестве субординатора, подчиняя себе семантически неоднородные члены предложения, формально представленные как однородные. Опорное слово и семантически гетерогенный ряд также могут находиться в отношениях координации, в том случае, если опорное слово является сказуемым, а семантически неоднородные члены предложения, относящиеся к нему, являются подлежащими. За счёт семантического несоответствия формально однородных членов предложения в опорном слове могут актуализироваться разные словарно зафиксированные значения:
«Звезды, знаменитости, которых узнают на улице, у которых рвут автографы и одежды» («Cosmopolitan». 1997. Июль-Август).
В опорном слове «рвут» актуализируются следующие значения: «1. Резким движением разделять на части; 2. Вырывать, выхватывать» [Ожегов С. И., 1978, с.618].
Однако стилистический эффект может достигаться за счет семантической неоднородности без вскрытия полисемии опорного слова:
«Толпа срывала зло на витринах и на милиционерах» (ТВК. «Скандалы недели». 18.06.2000).
Вскрытие полисемии в опорном слове служит дополнительным источником экспрессии, поэтому мы рассматриваем вскрытие полисемии как усилитель прагматического потенциала конструкции. Отметим, что конструкции, в которых опорное слово реализует два или более значений существенно отличаются от конструкций, в которых опорное слово используется в качестве структурно организующего компонента и реализует одно значение. Экспрессивный потенциал конструкций, воздействие которых обусловлено, в том числе и актуализацией многозначности, обычно сильнее. Сравните:
«Бандит не устроил её своим перстнем и родом деятельности»
(«Cosmopolitan». 1998. №6).
«Проглотил с обидой вместе, как всегда, сосиску в тесте»
(Е. Лаврентьева).
Во втором примере опорное слово под влиянием прикрепляемых к нему семантически неоднородных компонентов актуализирует разные значения (прямое и переносное), что усиливает комический эффект. В этой связи отметим, что полисемия, по мнению большинства исследователей комического, форм и способов его создания (Э. М.Береговская, А. П.Сковородников, В. З.Санников, С. А. Лукьянов и др.), является одним из наиболее употребительных приемов каламбурообразования.
Такие примеры, в которых комический эффект достигается за счет семантической неоднородности формально (синтаксически) однородных членов предложения и вскрытой полисемии, мы можем охарактеризовать как зевгматические каламбуры, в том случае, если контекст способствует созданию комического эффекта.
Отметим, что основными признаками, характерными для собственно зевгмы, являются следующие:
1. Наличие членов предложения, занимающих одинаковую синтаксическую позицию (два и более), которые, являясь семантически неоднородными (иногда грамматически несочетаемыми), объединяются как формально (синтаксически) однородные: «С 8.00 по московскому времени проснулась совесть, а потом и сам Брянников» («Крестьянка». 1997. № 3). Элементы конструкции, выполняющие одинаковую синтаксическую функцию, одинаково относятся к одному и тому же члену предложения (сказуемому, выраженному глаголом), связаны между собой сочинительной связью, а потому являются однородными. Возникновение стилистического эффекта обусловлено семантической несовместимостью членов предложения, занимающих одинаковую синтаксическую позицию.
2. Наличие опорного слова, в котором может одновременно актуализироваться несколько значений или оттенков значений в силу того, что зависимые однородные члены предложения, объединённые одинаковым отношением к опорному слову, являются семантически разноплановыми языковыми единицами: «Член совета принес извинения за прискорбный случай минувшей ночи и шикарную – метр на метр – коробку шоколада – для моей супруги» (В. Конецкий. «Последний раз в Антверпене»).
В представленном примере актуализация одновременно двух значений
(свободного и фразеологически связанного) усиливает комический эффект. Реализация в рамках микроконтекста прямого (свободного) и переносного (фразеологически связанного) значений создает условия для каламбурно-шутливого обыгрывания ситуации.
Анализ фактического материала показал, что актуализация нескольких значений или оттенков значений зависит от степени семантической неоднородности членов предложения, занимающих одинаковую синтаксическую позицию, и от способности опорного слова актуализировать различные значения. Резкая семантическая несовместимость, оппозитивность элементов формально однородного ряда способствует актуализации одного или нескольких значений:
Вот, Зина, вам совет: играйте,
Из роз веселых заплетайте
Себе торжественный венец –
И впредь у нас не разрывайте
Ни мадригалов, ни сердец
(А. С. Пушкин).
Актуализация в опорном слове «не разрывайте» прямого (свободного) и переносного (фразеологически связанного) значений обусловлена резкой семантической неоднородностью формально однородных элементов ряда: семантически разноплановые слова «мадригалы» и «сердца» можно противопоставить по типу «вещественное – человеческое». Семантически неоднородные члены предложения вступают в различные смысловые отношения с опорным словом, что способствует усилению стилистического эффекта.
Многозначность или наличие у опорного слова омонимов также является важным фактором актуализации в нем нескольких значений при соединении с семантически гетерогенным рядом:
«Дальше я понёсся не разбирая дороги – терпение лопнуло! А через пару минут и заднее колесо» («За рулем». 1999. № 5).
Наличие у опорного слова «лопнуть» нескольких словарно зафиксированных значений способствует тому, что при особом контекстуальном окружении (присоединение к ряду семантически неоднородных компонентов) оно реализует эти значения (прямое и переносное).
В тех случаях, когда слабая степень семантической неоднородности или ассоциативная близость компонентов семантически гетерогенного ряда не способствует актуализации нескольких значений, или опорное слово не является многозначным, или каждый компонент семантически гетерогенного ряда вступает в одинаковые смысловые отношения с опорным словом, опорное слово реализует одно значение:
1. «Есть у нас раскладушки, стол и бардак, устроенный Золотухиным» (В. Высоцкий).
2. «Не разлучат нас никогда коты, невзгоды и года» (Песня из мультфильма «Пёс в сапогах»).
3. «Любитель трубки, луны и бус, и всех молодых соседок» (М. Цветаева).
Воздействие зевгматических конструкций основано на соединении семантически несоединимых языковых единиц. Это дает основание рассматривать зевгму как семантическую аномалию. Структурная же организация зевгмы играет важную роль, как с точки зрения отграничения данного стилистического явления от других, смежных по тем или иным признакам стилистических явлений, так и с экспрессивно-изобразительной точки зрения. Особенности структуры зевгмы позволяют адресанту в сжатой форме предоставить адресату больший объем информации, одновременно внося в высказывание элементы комизма, трагизма, оценочности и т.д. (в зависимости от намерений автора). Таким образом, зевгматические конструкции попадают в круг стилистических явлений структурно-семантического характера, в связи с чем эти конструкции можно характеризовать как стилистические фигуры семантико-синтаксической обусловленности. Принадлежность зевгматических конструкций к стилистическим фигурам не вызывает сомнений по следующим причинам:
- Зевгматические конструкции принадлежат к «отклонённому» языковому состоянию (это один из первых признаков, по которому античная наука определяла принадлежность языкового явления к фигурам речи) [Лингвистический энциклопедический словарь, 1990, с. 542].
- Зевгма соотносится с «парадигматическим (выбор слов) и синтагматическим (размещение слов во фразе) уровнями» [Лингвистический энциклопедический словарь, 1990, с. 542].
Эмоциональность, экспрессивность, оценочность текста, оформленного зевгматически, усиливаются за счёт особой структурной организации, что можно рассматривать как доказательство принадлежности зевгматических конструкций к фигурам.
В. И.Корольков отмечет: «<…> фигура есть явление прежде всего синтаксическое, относящееся не к смыслу, а к строю речи, к словесной организации высказывания» [Корольков В. И., 1974, с. 60-93]. Зевгматические конструкции, представляющие собой определенную синтаксическую структуру, в рамках которой заключается информация, несомненно, относятся к классу фигур.
Отметим, что определение фигуры, а также определения риторической фигуры, стилистической фигуры, фигуры речи в лингвистике пока ещё не носят устойчивого характера. Об этом свидетельствует анализ исследований, посвященных стилистическим ресурсам языка и, в частности, тропам и фигурам. Энциклопедические издания также указывают на тот факт, что
«в языкознании нет исчерпывающе точного и общепринятого определения Ф.Р. (фигур речи). Сам термин употребляется в различных смыслах (чаще всего приблизительных). Однако есть тенденция к закреплению этого термина и к выявлению его лингвистического смысла» [Лингвистический энциклопедический словарь, 1990, с. 542].
Тем не менее, в убедительных с точки зрения аргументации и иллюстраций исследованиях Н. В. Арнольд, В. И. Королькова, А. П. Сковородникова, Ю. М. Скребнева, И. В. Пекарской отмечается, что отличие фигуры от всех других выразительных языковых средств заключается в особой синтаксической организации. Так, И. В. Арнольд, разграничивая понятия тропа и фигуры, пишет: «Стилистическими приемами являются также синтаксические или стилистические фигуры, увеличивающие эмоциональность и экспрессивность высказывания за счёт необычного синтаксического построения: разные типы повторов, инверсия, параллелизм, градация, многочленные сочинительные единства, эллипсис, сопоставление противоположностей и т.д.» [Арнольд И. В., 2002, с.88].
А. П. Сковородников и Г. А. Копнина, характеризуя фигуру как языковое и, в частности, стилистическое явление, отмечают, что существует широкое и узкое понимание стилистической фигуры: «В широком смысле к С.Ф. относят любые языковые средства, служащие для создания и усиления выразительности речи. При таком взгляде на С.Ф. в их состав включаются тропы (см.) и другие риторические приемы (см., например: Хазагеров Т. Г. Ширина Л. С., 1994). В узком понимании С.Ф. называются синтагматически образуемые средства выразительности (см. например: Скребнев Ю. М., 1997).
С точки зрения системного подхода к исследованию выразительных средств языка речи и их терминологическому обозначению, целесообразно рассматривать понятия С.Ф. и тропа в качестве гипонимов (разновидностей) по отношению к родовому понятию (гиперониму) стилистического приема.
Отличительной особенностью С.Ф. как «разновидности» стилистического приёма является её относительно формализованный характер (наличие синтагматической схемы, модели)» [Копнина Г. А., 2001].
Зевгма, несомненно, является фигурой, но фигурой, обладающей тропеическими признаками, т.к. семантический фактор в зевгме играет важную роль.
И. В. Арнольд отмечала: «Тропами называют употребление слов или словосочетаний в переносном, образном смысле» [Арнольд И. В., 2002, с.87]. Принадлежность элементов зевгматической конструкции к разным семантическим сферам, а также актуализация многозначности, употребление слова в переносном значении – признаки, по которым мы можем отнести зевгму к тропам.
Итак, зевгму следует рассматривать, как стилистический приём, обладающий признаками фигуры и тропа. Но при определении её места в системе стилистических ресурсов русского языка, зевгму следует относить к классу фигур, поскольку как троп зевгма реализует себя в рамках строго организованной языковой модели. Помимо этого, характеризуя зевгму как стилистический приём, следует отметить, что особого внимания заслуживают её морфологические особенности. Анализ языкового материала и изучение исследований, в которых зевгма рассматривается в разных аспектах, показал, что зевгма достаточно сильно обусловлена морфологически: в роли опорного слова чаще всего выступает глагол-сказуемое или слово, употребляемое в функции глагола. Подчиненные глаголу или находящиеся в отношениях координации с ним семантически неоднородные элементы конструкции, как правило, являются дополнениями, выраженными существительными:
«Предлагаю вам руку и сердце, курей и живность в придачу» (Из кинофильма «Ах, водевиль!»).
Подробнее вопрос о морфологической обусловленности зевгмы рассматривается во II-ой главе диссертационного исследования (2.2).
Собственно зевгму следует отличать от иных зевгматических конструкций: зевгматического перечисления, аккумуляции, зевгматической градации, зевгматически трансформированного фразеологизма, зевгматического сравнения, зевгматического сопоставления, зевгматического анаколуфа, синтаксического коллажа.
Зевгматическое перечисление – стилистическая фигура, состоящая из цепочки семантически неоднородных членов предложения, занимающих одинаковую синтаксическую позицию (при отсутствии опорного слова):
«Пустота. Чечня. Контузия в голову» («Афиша». 2001. №2).
«С Новым годом, с новым счастьем, с новым несчастьем, с новыми козлами, с новым яичным мылом, с новыми секретарями консисторий и с новым прошлогодним снегом!» (А. П.Чехов).