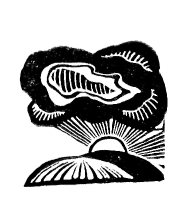На трассе северного полюса эаписки полярника
| Вид материала | Документы |
СодержаниеТикси — москва |
- Записки полярного летчика, 4968.09kb.
- Содержание: 2 Территориальное положение Канады, 683.59kb.
- Александр Попов: «Человек на Луне? Какие доказательства?», 4025.52kb.
- Организация и проведение городских (районных соревнований по спортивному ориентированию, 545.21kb.
- Информация о проведении Первенства России по автомоделизму в классах радиоуправляемых, 34.87kb.
- Итоги II окружного Фестиваля Северного административного округа города Москвы, 66.99kb.
- Выборгского района Санкт-Петербурга Освоение Северного морского пути. Вклад М. В. Ломоносова, 258.89kb.
- Альта самый крупный город в губернии Финнмарк. Это город северного сияния и белых ночей,, 43.94kb.
- Приказ №537 «10» ноября 2011 г о районном конкурсе «Лучшая организация Дня географии, 42.6kb.
- Правозащитный Центр «Мемориал», 418.72kb.
В полночь меня разбудили. Если бы не бурная качка, я, наверное, долго не смог бы понять, где нахожусь и почему около моей койки стоит незнакомец с характерным кавказским лицом.
— Кучерава, старший штурман, — отрекомендовал
ся он. — Прошу извинить за беспокойство. У меня к вам
большая просьба. Дело в том, что мы уже целую неделю
штормуем, и команда окончательно измоталась. А се
годня в довершение всего судно дало течь. Помпа у нас
не работает, значит, надо кого-то ставить на ручной на
сос... Вот я и хочу попросить...
— Зачем просить? Это наш долг.
Иван-царевич с Некшиным спали. Я разбудил их, и
они без всяких возражений отправились вместе со мной и Кучеравой в машинное отделение. «А Федорыч, должно быть, уже работает», — подумал я, спускаясь по узкой чугунной лесенке.
В машинном отделении стояла невыносимая духота, горько пахло перегоревшим маслом. Под потолком еле мерцала запыленная электрическая лампочка. Двигатель шумно пыхтел и стучал так, что разговаривать было немыслимо. Штурман показал мне на ручку насоса.
Но Федорыча в машинном отделении не было. Неужели спит где-то? Впрочем, нет, отлынивать от работы совсем не в характере «старого морского волка», как он любил называть себя. В чем же дело? А шторм, видимо, разыгрывался не на шутку — качка с каждой минутой становилась сильнее. Через каких-нибудь полчаса ко мне, пошатываясь, подошел Иван-царевич с позеленевшим лицом и с трудом проговорил:
— Больше не могу, Никита Никифорович! — И он
поспешно выбежал на палубу.
А скоро и я выглядел, кажется, не лучше. Во всяком случае Николай посоветовал мне тоже поскорее выбраться наверх.
— Лучше будет! По себе знаю. Страдал когда-то.
Я послушался и поднялся на палубу. Воздух над морем был больше чем свежий. И ветер в непроглядной темени казался особенно колючим. А волны то и дело перекатывались через палубу.
Кое-как придя в себя и приглядевшись к темноте, я различил у борта знакомую фигуру нашего радиста.
— Федорыч, что ж ты отстаешь? Идем-ка вместе...
Но Федорыч глянул на меня такими мутными глазами, что я сразу замолчал. Оказывается, и старые морские волки не застрахованы от морской болезни. Причем он страдал, видимо, больше нас. Мы с Иваном-царевичем хоть время от времени и выбегали на палубу, но все же работали, а Федорыч лежал пластом. Зато совсем не замечал качки наш второй морской волк — Нек-шин.
Однако все усилия небольшой команды бота и его пассажиров оказались почти напрасными. Когда утром штурман сориентировался в координатах, то выяснилось, что мы не только не приблизились к месту назначе-
ния, но оказались дальше от него. Нас отбросило к юго-востоку, и мы находились у берегов материка против мыса Святой Нос, неподалеку от знаменитой Меркуши-ной стрелки, где два столетия назад трагически погиб казак Меркурий Вагин со своим сыном.
Но шторм заметно притих, и к полудню волнение на море улеглось совсем. В такую погоду можно было идти полным ходом, и ровно через сутки «Прончищев» вошел в бухту Тикси.
Здесь нам все было знакомо. И как будто незнакомо. В глубине бухты по-прежнему, словно вечный памятник героическим русским землепроходцам, высились над водой мачты «Зари»; на рейде, как и прошлой осенью, стоял приписанный к порту бот «Темп», а рядом с ним бросил якорь наш «Прончищев»; у берега стояли три-четыре старые баржи... Но зато не узнать было берега! Вместо прежних двух-трех портовых построек вытянулась довольно длинная улица. Среди небольших рубленых домиков заметно выделялось высокое светлое здание столовой. Неподалеку стояло новое здание радиоцентра. Несколько новых домов окружало и полярную станцию.
Большим праздником для нас были новенькие кровати, чистые простыни, пододеяльники, наволочки и, конечно, баня. Мы не только как следует вымылись, но и с наслаждением попарились.
С работниками полярной станции мы познакомились в тот же день в столовой. Здесь же я, кстати сказать, впервые увидел научных работников-якутов.
С этими людьми нам предстояло не просто прожить некоторое время бок о бок, но и вместе поработать. Навигация, как мы уже знали, закончилась, и закончилась успешно; нам же предстояло ждать санного пути по Ле-
не, чтобы добраться на собаках до районного центра Булуна, а оттуда на почтовых оленях до Якутска. Сколько времени придется ждать — неизвестно. Не могли же мы сидеть, бездельничая!
А дела на станции было много, даже не считая большой программы научных работ. Надо было поставить столбы и повесить линию электропередачи, вырыть котлованы под парники: укрыть многочисленные грузы так, чтобы зимой не пришлось откапывать их из-под снега... Кому-то надо ухаживать и за свиньями, впервые привезенными сюда для столовой. Наконец, в районе станции не было источника пресной воды, и специальная бригада выкалывала в ближайших озерах лед, затем на тракторных санях отправляла его в поселок.
Словом, работы хватало всем.
Лишь Федорыча ничто не трогало. Ходил он какой-то понурый, опущенный. Несколько раз я пробовал заговорить с ним, но он отмалчивался.
Наконец как-то под вечер Федорыч сам пришел ко мне. Долго, ни слова не говоря, курил. И вдруг попросил:
- Разреши мне перебраться в порт.
- А чем тебе здесь не нравится?
- Да видишь ли... капитан порта просит... Им надо
отремонтировать радиоаппаратуру с зимующих ботов,
а специалистов нет.
Истинную причину неожиданной просьбы я разгадал несколько позже, когда посетил Федорыча в порту. Устроился он не ахти комфортабельно: в тесном кубрике баржи, вмерзшей в береговой припай. Жил вместе с водоливами, здесь же и работал. Но увидел я его веселым, деятельным, жизнерадостным. Оказывается, его соблазнила не столько работа, сколько спирт, шедро отпускав-
шийся для промывки деталей, причем контроль за его расходованием был возложен на самого Федорыча.
Тогда я этого не знал и, конечно, охотно дал разрешение перейти на злополучную баржу. И этим разрешением едва не потерял нашего радиста навсегда.
Случилось все в тот день, когда над Тикси разразилась особенно свирепая пурга. Ураганный ветер гнал с гор такие густые тучи снега, что даже у себя под ногами мы ничего не могли увидеть. А в порту был как раз банный день. Кто же в такую погоду рискнет выйти на улицу! Не рискнули, понятно, и водоливы с баржи. По этому случаю Федорыч достал спирт. Засели.
И вот один из водоливов, выглянув на минутку на палубу, объявил:
— Ужас что творится! Ведьмы шабаш справляют.
Пропала баня!
Этого оказалось достаточно, чтобы «завести» Федорыча, любившего побахвалиться.
— Ха, да разве это пурга! В такую погоду я на мы
се Желания капканы на песцов устанавливал. Не виде
ли вы настоящей пурги! Да я сейчас куда хотите пойду!
До смерти охота дружков на полярной станции наве
стить. К ним пошел бы, да помыться надо!
И Федорыч самым серьезным образом начал собирать белье.
Товарищи всячески пытались отговорить его, уверяли, что в такую пургу и погибнуть недолго. Приводили примеры. Но куда там! Наоборот, чем больше уговаривали, тем непреклоннее становился упрямый радист.
— Да я могу с закрытыми глазами идти! Баня-то
вон она! Надо только держаться так, чтобы ветер бил
в правую скулу. Не меняй направления и прямо ввалишь
ся в парную. А обратно ветер будет бить в левую скулу
и сам приведет на баржу. Зато уж попарюсь на славу! Один на всю баню! — И заливисто рассмеялся.
Но попариться Федорычу не пришлось. Едва он выбрался по скользкому трапу на берег, как порыв ветра вырвал у него из рук сверток с бельем. Федорыч бросился искать его, но, понятно, не нашел. Решил вернуться на баржу, но берег куда-то исчез... И с той минуты куда бы он ни двигался — под ногами оказывались только снежные сугробы, кочки, камни...
— Тундра!—с ужасом догадался Федорыч. Хмель из головы вышел.
Он круто взял влево в надежде добраться до берега и затем, шагая вдоль бухты, — до порта. Но под ногами неизменно оказывались те же сугробы, камни, кочки. Ветер швырял в лицо злой, колючий снег...
Федорыч уже выбивался из сил. А пурга не ослабевала. Оставалось одно: соорудить какую-то защиту от ветра и за нею пережидать разбушевавшуюся погоду. Кстати, камней вокруг было много.
Но, увы! Камни так прочно вмерзли в грунт, что не поддавались никаким усилиям. И Федорыч снова побрел по ветру, спотыкаясь на каждом шагу.
И вдруг, уже совсем отчаявшись, неожиданно наткнулся на какую-то стену. Не веря своему счастью, замерзающий путник обошел ее и увидел неяркий свет, еле пробивавшийся через заснеженное окно. Отчаянно застучал в раму. Оказывается, Федорыч попал на метеоцентр, расположенный на мыске довольно далеко и от полярной станции и от порта.
В общем, «морской волк» отделался легко: поморозил лицо, пальцы рук и ног. Но стоило ему пройти на несколько шагов правее или левее метеоцентра — и, пожалуй, было бы кончено все.
...И вот опять наступила полярная ночь, опять начались бесконечные метели и бури. Санный путь по Лене давно уже наладился, а мы все еще не могли попасть в Булун.
Между тем работа на станции шла своим чередом. Здесь, в далекой Арктике, мы в те дни впервые услыхали имена Стаханова, Дюканова, Виноградовых и других передовиков производства. Нашлись их последователи и среди полярников. В предпраздничном соревновании у нас особенно отличилась бригада, занятая на самой тяжелой работе — заготовке льда.
Интересный подарок коллективу к великой годовщине сделал самодеятельный скульптор — кок столовой порта, решивший вылепить снежную фигуру Ильича. Художника-энтузиаста не пугали ни морозы, ни метели. Завершив дела на кухне, он выходил на улицу и начинал лепить. Материалом служили только снег и вода. Постепенно в работу втягивались сотрудники станции, портовики, ремонтные рабочие... И к празднику скульптура была готова.
В день 7 Ноября все население Тикси со знаменами собралось на праздничную демонстрацию. Прошла она, как и на Большой Земле, торжественно и радостно. Необычно было лишь то, что над головами демонстрантов мерцали яркие полярные звезды.
А вечером, когда мы, побритые и празднично одетые, собрались в просторной столовой, разразилась опять пурга. Впрочем, праздника она не испортила. После короткого доклада состоялся самодеятельный концерт. Затем все расселись за столом.
Омрачало вечер лишь одно обстоятельство. За несколько часов до этого из Тикси на небольшой островок у мыса Борхая вышла собачья упряжка с подарками для
зимовавшей там группы полярников. Вел упряжку молодой каюр якут Ваня. Не успел он скрыться в глубине бухты, как поднялся резкий, холодный ветер, а затем и пурга.
Начальник станции Гонцов несколько раз справлялся, не вернулся ли Ваня с дороги, без конца подходил ко мне и озабоченно спрашивал:
- Как вы думаете, успел Ваня доехать? Ох, боюсь,
что пурга захватила его в дороге! Как бы не погиб па
рень! Замерзнет на льду.
- Положение серьезное, — соглашался я. — Но яку
ты хорошо приспособились к местным условиям. Будем
надеяться, что все обойдется благополучно.
- Будем надеяться, будем надеяться, — задумчиво
повторял Гонцов и на некоторе время успокаивался.
К счастью, все обошлось и в самом деле благополучно.
Пурга захватила Ваню действительно в пути. Встречный ветер чуть не опрокидывал собак, и они то и дело сворачивали в сторону, сбиваясь с дороги. Ваня в конце концов пошел впереди упряжки. Но снег слепил ему глаза, а собакам забивал ноздри. Тогда каюр поставил нарту поперек ветра, очистил рукавицей ноздри животным, плотно уложил их одну к другой и сам лег вместе с ними.
Двое суток свирепствовала пурга. Нарту и собак не раз засыпало снегом. В таких случаях Ваня вставал, разгребал сугроб и снова укладывал собак на снег. Сам же время от времени поднимался и начинал бегать, чтобы согреться, а затем снова ложился к собакам.
Когда ветер немного стих, Ваня откопал нарту и погнал собак вперед. Однако твердой уверенности в том,
что упряжка не сбилась с пути, у него не было вплоть до той минуты, когда за снежной пеленой вырисовались очертания знакомого острова.
Зимовщики совсем не ждали его, и тем радостнее была встреча.
На четвертый день Ваня вернулся на станцию и спокойно рассказал все подробности своей поездки.
- А ты очень боялся? — спросили мы с Гонцовым.
- Зачем бояться? — удивился Ваня. — Нет. Холод
но только было. Я все бегал, бегал. Уснуть боялся. Да и
покушать еще хотелось.
Только в десятых числах декабря мы смогли наконец собраться в дорогу: в Тикси неожиданно прибыл из оленеводческого совхоза, расположенного около Булу-на, караван за грузами, доставленными сюда в навигацию. Погонщики-якуты охотно согласились довести нас до районного центра.
Мы распростились с радушными хозяевами, и вот караван длинной цепочкой вытянулся вдоль единственной улицы поселка.
Старший погонщик положил на снег перед первой упряжкой длинную палку — хорей и прошел вдоль нарт, осматривая караван и переговариваясь с другими погонщиками. Когда он вернулся к первой упряжке, олени уже начали волноваться, однако стояли смирно. Но стоило убрать хорей, как они понесли нас по снежной тундре.
Около часа животные мчались громадными скачками и, только устав, постепенно выравняли бег.
Время от времени старший останавливал караван на отдых. Хорей снова оказывался перед первой упряжкой. Якуты собирались вместе и закуривали. А затем опять начиналась бешеная скачка.
Уже под вечер один из оленей моей упряжки вдруг рванулся в сторону, зашатался и упал. Нарта со всего размаху налетела на него. Караван остановился. Соскочив с нарты, я бросился к оленю. Он лежал, тяжело поводя потными боками и жадно хватая широко открытым ртом воздух.
Но происшествие почти не задержало нас. Погонщики оттащили обессилевшее животное на несколько шагов, впрягли вместо него запасного оленя и поехали дальше.
Остановились в полной темноте. Сняли с животных шлейки и отпустили их на волю. Только наиболее резвым надевали на шею хомуток с привязанной к нему палкой, затруднявшей движение.
Затем стали устраиваться на ночлег. Сняли с одной из нарт связку легких длинных шестов, три шеста соединили наверху кольцом так, что получилось нечто вроде треноги, и к ней приставили остальные. Одной полотняной полостью якуты ловко обернули шесты снизу, второй прикрыли верх, закрепив все сооружение бечевой. II чум был готов. В середине его разгребли снег, поставили железную печурку, а землю прикрыли оленьими шкурами. Сухие дрова погонщики везли с собой, и вскоре в чуме стало так тепло, что можно было снять малицы.
Я вспомнил об оставленном олене.
- Тот олень, наверно, совсем пропал?
- Зачем пропал? Мало-мало отдыхает, в совхоз
пойдет. Если волк не увидит. Если волк увидит, тогда
совсем пропал.
- А если диких оленей увидит?
— Тогда тоже не пропал, только сам дикий будет.
К утру температура в чуме ничем не отличалась от
наружной. Но спали мы хорошо — спасала теплая одежда. Теперь мы были одеты как и полагается на Крайнем Севере: теплое белье, костюм из барашковых шкурок и длинная, до пят, малица с капюшоном из собачьих шкур; на ногах — носки хлопчатобумажные, носки шерстяные, носки из собачьих шкур шерстью внутрь, оленьи торбаса и поверх всего этого что-то вроде галош из конской кожи; на голове — теплая шапка и шарф; на руках — шерстяные перчатки и медвежьи рукавицы до локтей, подшитые внутри песцовой шкурой. Правда, в таком костюме трудно было двигаться, зато мы легко переносили морозы, достигавшие пятидесяти, а затем шестидесяти градусов.
Из продуктов мы захватили с собой прежде всего свиной окорок, на который возлагали большие надежды. Но в пути выручали нас главным образом галеты, сахар и чай, а от окорока пришлось отказаться, так как его с трудом брали даже острейшие ножи якутов-промышленников. Впоследствии мы отдали окорок хозяевам одного из чумов, в котором ненадолго остановились. Те долго рассматривали незнакомый продукт. Слова «свинья» и «чушка» ничего им не говорили. Наконец один из якутов догадался, о чем я хотел сказать. Он придал своему лицу свирепое выражение, приставил к ушам ладони и довольно удачно начал имитировать свиное хрюканье. К общему удовольствию, я подтвердил догадку. Тогда несколько человек отрезали... по маленькому ломтику окорока и с опаской попробовали. Мясо пришлось по вкусу.
— Учугей! 1
Но вернемся к нашему путешествию. Утро началось
1 Учугей — хорошее.
с чаепития. Проводники затопили печурку и поставили на нее довольно внушительный котелок. А после чая несколько человек отправились собирать оленей, остальные занялись нартами. Мы же решили немного побродить по тундре.
Не успел я отойти от места ночевки, как мое внимание привлекли кедровые ветки, кое-где выбивавшиеся из-под снега. «Откуда они здесь?» — подумал я и потянул к себе ближайшую ветку. Она не поддалась. Покопавшись в снегу, я понял, что у меня под ногами расстилается настоящий кедровник.
С уважением посмотрел я на стелющиеся по земле искривленные деревца. И на минуту представил себе величественную картину бесстрашного наступления тайги на холодный Север. Почти до самого полярного круга движутся ее мощные колонны сомкнутым строем, и лишь здесь постепенно начинают отставать бойцы из тех, что послабее. Те же, что продолжают наступление, сопротивляясь невиданным морозам и ураганным ветрам, все ниже и ниже прижимаются к земле, пока, наконец, самые отчаянные смельчаки не начинают продвигаться по-пластунски, как здесь вот, ползком. Такое упорство заслуживает уважения!
Вскоре показались олени. Проводники, оставшиеся около нарт, и мы вместе с ними пошли навстречу животным, незаметно сбивая их в кучу. Затем якуты стали обносить стадо длинным ремнем, и когда круг был замкнут, олени покорно замерли перед этой своебразной «преградой».
Я предполагал, что мы сейчас же тронемся в путь, но проводники пригласили нас в чум, где был уже готов новый котелок чаю. Лишь покончив с ним, хозяева в несколько минут разобрали чум, сложили на особую
нарту шесты, полости, печурку, и олени снова помчали нас по снежной тундре при слабом мерцании неяркого, еле пробивавшегося на горизонте света.
Между прочим, мы выехали из Тикси в такую пору, когда в этих широтах дни становятся все короче и короче, но так как мы стремительно двигались с севера на юг, то для нас, наоборот, солнце с каждым днем поднималось выше.
К полудню началась поземка, которая через два-три часа завершилась самой настоящей пургой. Но караван не остановился, как я думал, а спокойно продолжал свой путь, словно никакой метели не было и в помине.
Уже совсем ночью я различил рядом с караваном какие-то крупные темные тени, которые внезапно растворились в темноте. «Пожалуй, дикие олени», — мелькнула мысль. Но тени появлялись снова и снова, а затем показался чум.
Караван остановился. Оказалось, что мы подъехали к стаду оленей булунского совхоза, которых выгнали, по местному выражению, на попас.
А утром перед моими глазами развернулась одна из тех картинок «Мира в рассказах для детей», которые на всю жизнь врезались мне в память. На беспредельной снежной равнине сбились в кучу чумы, а вокруг, насколько можно было видеть, паслись сотни оленей. Даже, пожалуй, не сотни, а тысячи. Животные легко разгребали крепкими копытами снег и, опустив головы в небольшие лунки, неторопливо щипали ягель.
В тот же день мы добрались до Булуна — первого на нашем длинном пути административного и культурного центра. В поселке было отделение Госбанка, телеграф, почта, которая принимала к перевозке не только посылки, письма, но и редких в те времена пассажиров.
Однако почтовые упряжки брали за один раз только двух человек, поэтому нам пришлось разделиться. В первую очередь я отправил Ивана-царевича и с ним Федо-рыча, которому наказал следовать прямо до Москвы, не дожидаясь меня.
А через день выехали и мы с Некшиным.
Много лет прошло с тех пор, но и сейчас весь этот долгий путь вспоминается, как фантастический сон. Ехали мы первобытно-девственной тайгой, не знавшей ни пилы, ни топора, без всяких дорог, по еле заметным тропам, иногда долиной какой-нибудь таежной реки, а чаще озерами, где не нужна и тропа.
Стояло самое холодное время года. Нас окружала изумительная первозданная тишина. Не шелохнулась ни одна ветка, ни одна хвоинка. И ни одного звука. Лишь от скрипа нарт в ушах стоял непрерывный серебряный звон на какой-то одной, очень высокой ноте.
В такую пору зимняя тайга сказочно красива, особенно в лунные ночи. Безмятежно дремлют вековые деревья-великаны, низко опустив к земле как будто усталые, причудливо заснеженные лохматые лапы. Под ними внизу или темные, почти черные тени, или же ослепительно яркие, вытканные серебром скатерти, в которых каждая снежинка кажется драгоценным камнем-самоцветом. Словно декорация в сказочной феерии! И ни одной живой души. Только где-то впереди по притихшему берегу мчится передовая упряжка, да и та, запорошенная инеем, кажется не живой, а игрушечной, только что снятой с новогодней елки.
Но вот олени вынесли нарту на перевал. Впереди крутой спуск. Нарты все быстрее скользят по твердому насту и бьют животных по ногам. Тогда олени, закинув рога за спины, мчатся вниз с невероятной скоростью.
И ты уже ничего больше не видишь, только плотнее обматываешь лицо шарфом, иначе при таком беге обморозишься в одно мгновение.
В тальниках по берегам озер нам попадалось несметное количество белых куропаток, а на деревьях мы повсюду видели стаи косачей, отшельников-глухарей, не обращавших на нас никакого внимания.
Зато на всем пути мы не встретили ни одного зверя.
Ехали мы с Некшиным каждый на своих нартах и поделиться впечатлениями могли только на коротких остановках.
— Смотри, Николай, — говорил я, — куда мы с то
бой попали! Как господь бог создал здешнюю землю,
так она и стоит с тех пор никем не тронутая. Сколько
здесь тетеревов, а какие глухари! Какая рыба в озерах!
И никто ее не ловит! Поставить бы палатку да пожить
хоть годик.
Некшин обычно только улыбался. А когда отмалчиваться было невозможно, нехотя возражал:
— Нет, я уж лучше на берегу Невы поживу. С ры
бой да глухарями куда проще знакомиться в ресторане.
И красоты никакой не вижу. Глушь! На Невском краси
вее.
Словом, разговоры на такие темы у нас явно не клеились.
Совсем редко попадались нам люди. В первые дни пути мы совсем не видели селений. Их заменяли почтовые станы, расположенные за пятьдесят — шестьдесят километров друг от друга. Да и они представляли собой в те годы тесные якутские юрты и эвенкийские чумы.
Как-то странно выглядело это одинокое примитивное жилье, со всех сторон стиснутое непроходимой тайгой. Войдешь в чум, а навстречу тебе с оленьих шкур подни-
маются ребята, с любопытством рассматривая приезжих. Сахар берут робко, но, освоившись, сами протягивают ручонки и что-то говорят. Спрашиваю мать: что им нужно?
- Табак просят, — просто объясняет женщина.
- Так они же маленькие. Им нельзя.
- Маленько-то можно, — спокойно возражает она
и, вынув изо рта трубку, сует ее сидящей рядом девочке.
...Первым городом на нашем пути был Жиганск. За ним начали изредка попадаться небольшие поселки. А между Вилюйском и Якутском стали встречаться и большие деревни. Где- то здесь мы и пересели с оленьих нарт на розвальни, запряженные лошадьми.
Слов нет, на розвальнях ехать много удобнее. И все-таки мне жаль было расставаться с неприхотливыми и быстроногими животными. На оленях за три часа мы проделывали путь, на который теперь у нас уходил весь день.
В Якутск мы попали перед самым Новым годом, причем Федорыча уже не застали: он с Иваном-царевичем укатил на попутной машине дальше. В то время от Якутска до золотых приисков, а от приисков до железной дороги как раз прокладывалась автотрасса. Она была еще не готова, но грузовые машины по ней ходили. Однако нам не повезло: никому не хотелось встречать Новый год в пути.
Впрочем, беды в этом не было. Мы помылись, отдохнули и даже посмотрели в театре «Платона Кречета», а Новый год встретили как гости местного Главсевмор-пути.
...Дальнейшей дороги не буду описывать. В Москву мы приехали во второй половине января. Иван-царевич и Федорыч уже поджидали нас.
В коридорах Главсевморпути в те дни стояла тишина. Ни толкотни, ни сутолоки, которые так обычны в дни отправки зимовщиков.
Начальник отдела кадров Полярного управления Савельев с удивлением посмотрел на нас.
- Да вы что это? Только с зимовки? Полярники все
давно уж по домам разъехались, отдыхают. Мы новые
смены комплектовать начинаем.
- Не беда, отдохнуть всегда успеем. Что нового?
— А мы тебя вспоминали. Знаешь, утвердили твою станцию.
- Какую станцию? — не понял я.
- Ту самую, о которой ты поднимал вопрос перед
отъездом на совещании в кабинете Иоффе, дрейфующую.
- Когда отправляться?
- Да отдыхать уж некогда. Надо браться за подго
товку.
Савельев испытующе посмотрел на меня. Я задумался. Полтора года не виделся со своими. Но и зимовка интересная.
- Ладно. Отдохнуть успею после. Назначайте!
- Нет уж, — рассмеялся Савельев. — Опоздал ты.
Начальником назначили Ивана Дмитриевича Папанина.
Так что явитесь в управление, сдавайте свои материалы,
получайте расчет и уезжайте отдыхать. Скоро начнем
вызывать для назначения на новую зимовку.