На трассе северного полюса эаписки полярника
| Вид материала | Документы |
СодержаниеБудни полярной станции В строю действующих |
- Записки полярного летчика, 4968.09kb.
- Содержание: 2 Территориальное положение Канады, 683.59kb.
- Александр Попов: «Человек на Луне? Какие доказательства?», 4025.52kb.
- Организация и проведение городских (районных соревнований по спортивному ориентированию, 545.21kb.
- Информация о проведении Первенства России по автомоделизму в классах радиоуправляемых, 34.87kb.
- Итоги II окружного Фестиваля Северного административного округа города Москвы, 66.99kb.
- Выборгского района Санкт-Петербурга Освоение Северного морского пути. Вклад М. В. Ломоносова, 258.89kb.
- Альта самый крупный город в губернии Финнмарк. Это город северного сияния и белых ночей,, 43.94kb.
- Приказ №537 «10» ноября 2011 г о районном конкурсе «Лучшая организация Дня географии, 42.6kb.
- Правозащитный Центр «Мемориал», 418.72kb.
В ночь на третье января на острове снова разразилась пурга. Ветер и выл, и стонал, и хохотал, поминутно сотрясая стены нашей избушки. Временами казалось, что она срывается с места и вот-вот полетит вместе с нами в холодную, белесую бездну.
Федорыч поднялся ни свет ни заря, кое-как умылся и отправился к себе в радиорубку. И почти сейчас же мы услышали его забористую брань.
- Что случилось, Федорыч?
- Не работает. Чертов ветер, кажется, антенну обо
рвал. Да это будет еще полбеды... С антенной как-ни
будь справимся. Вот ежели мачта сломалась, тогда хва
тит работенки!
Мы вышли на улицу проверить предположение радиста. Ветер сбивал с ног. Пурга разыгралась такая, что собственной руки не увидишь. Двигаясь гуськом, добрались до одной мачты, другой... Обе были на месте. Случилось, по выражению Федорыча, полбеды — оборвалась антенна, а это его не очень огорчило. Концов антенны в такой коловерти, конечно, не найти, и пришлось поневоле ждать.
Взялись было за книги, присланные шалауровцами, но читалось плохо: не терпелось узнать, что же случилось, почему замолчало радио.
К счастью, ветер стал стихать, и мы, наконец, выбрались из избушки.
В многолетней практике старого радиотехника обрыв антенны — далеко не редкий случай. И когда ветер слегка угомонился, Федорыч принял на себя коман-дование операцией, которую он называл холодной пайкой.
Первым делом пришлось спустить на тросике антенну. Затем мы с Федорычем принялись защищать и связывать концы оборванного медного провода, а Иван-царевич с Николаем тем временем растопили в избушке слиток олова. В нужный момент они бегом доставили расплавленный металл под мачты, и Федорыч опустил в него концы связанного тросика.
Повторив всю операцию еще раз, он так надежно спаял антенну, что ее можно было смело водрузить на место.
Заодно мы решили укрепить и мачты, хотя они держались как будто прочно. Якорями у нас служили вкопанные в землю и обложенные камнями толстые бревна, к которым были прикручены стальные оттяжки мачт. Сейчас мы на всякий случай добавили еще камней и залили их водой. Таким якорям не страшен никакой ветер. Лишь бы выдержали оттяжки!
Но через несколько дней радиостанцией нам пришлось заняться вновь.
— Слышимость упала, — пожаловался Федорыч. — А разряды в наушниках прямо глушат. Придется строить противовес.
Так нашлось у нас новое дело. На берегу бухты мы отрывали из-под снега плавник, резали его по определенному размеру и носили к радиомачтам. Затем соорудили козлы и поставили их между мачтами через одинаковые короткие промежутки, натянули в несколько рядов проволоку, истратив на это сохранившийся у нас круг. Сооружение напоминало проволочное заграждение, только вся проволока была натянута горизонтально.
И опять наша жизнь потекла заведенным порядком.
Первым с утра поднимался Иван-царевич и сейчас
же отправлялся проверять свои приборы. В хорошую погоду утренняя проверка занимала не так уж много времени. Хуже было при сильном ветре, а тем более при шторме. Бывало, от некоторых наблюдений лучше было совсем отказаться. Да и толку от них было бы мало. Например, при ветре свыше сорока метров в секунду наш флюгер выходил из строя. Иногда, даже в ясную погоду, ветер поднимал такую поземку, что снег забивал дождемерное ведро с верхом. В таких случаях растоплять снег для определения количества выпавших осадков просто не стоило: осадков-то не выпадало.
Возвратившись в избушку, Иван-царевич наскоро составлял радиограмму, подкладывал ее Федорычу на стол и снова забирался в спальный мешок отогреваться. За ночь избушка остывала так, что стены покрывались инеем, а в ведрах замерзала вода.
Вторым поднимался очередной дежурный (если им был, понятно, не сам Иван-царевич). Он приносил охапку дров, набивал ими плиту, обливал керосином и поджигал. Плита сейчас же отчаянно завывала, а минут через пятнадцать — двадцать начинали «плакать» стены.
Когда в избушке становилось более или менее тепло, вставал Федорыч и уходил в рубку на вахту. Так что к завтраку мы успевали узнать все последние новости, а иногда кто-нибудь из нас получал и радиограмму.
После завтрака каждый занимался своим делом.
На первый взгляд может показаться, что дел на полярной станции совсем немного — закончил наблюдения, передал их по радио, привел в порядок кают-компанию и все! Но это только на первый взгляд. На самом деле весь день зимовщиков полностью загружен. К примеру, раз или два в неделю, как я уже говорил, мы должны были всем коллективом выходить на море и там про-
бивать новую лунку для определения толщины льда. Раз или два в неделю надо было заряжать аккумуляторы, А это значило — сначала разобрать всю динамку, тщательно просушить каждую деталь над плитой, каждую протереть. А затем наступало самое неприятное, когда динамка начинала работать, мы, чтобы не перегреть ее, на несколько часов настежь распахивали дверь избушки. И зябли, конечно, невероятно. Сидели в шубах.
Словом, дела хватало.
Случались и непредвиденные, так сказать, внеплановые работы, вроде переделки заземления. С осени для заземления мы использовали ключ, впадавший в нашу бухту, но к середине января он промерз до дна, и медный стерженек с проводом надо было перенести дальше. Старый провод, тянувшийся от рубки Федорыча к ручью, уже не годился, и мы долго подыскивали ему замену — провод широкого сечения и такой длины, чтобы его хватило «до самого синего моря». Нашли, дотянули до бухты, а там пробили в зеленоватом льду еще одну лунку — дело привычное — и опустили заземление на морское дно.
Немало хлопот доставляло нам и домашнее хозяйство. Сколько возни, например, требовало одно только топливо! Надо было найти на берегу бухты подходящее бревно или целое дерево, поднять его наверх, к избушке, распилить, расколоть!
Водой мы пользовались на первых порах из того же ключика, впадавшего в бухту, а когда он промерз, стали долбить на воду ключевой лед, а иногда топили снег.
Главное, почти ничего у нас не было близко под руками. За бензином ходили на склад, доставшийся нам от неизвестных пилотов, а это — добрый десяток километров. Немногим ближе был и склад с продуктами,
оставленный экспедицией профессора Чирихина. К тому же, после каждого сильного ветра мы вынуждены были проверять, на месте ли брезент, прикрывавший продукты, снова натягивать его, обкладывать камнями,
Много времени отнимала починка пимов, одежды.
Короче говоря, к вечеру мы уставали порядком. Зато на вечер никакой работы никогда не оставляли. Это было время отдыха.
После встречи Нового года все набросились на библиотечку, доставленную Ергилеем. Жалели только, что не могли пользоваться электрическим освещением от аккумуляторов. Для нас это было бы роскошью не по средствам. Лампочка зажигалась лишь на время работы Фе-дорыча у аппарата. Однако от коптилок мы все же отказались, когда аккумуляторы стали работать, Федо-рыч передал нам свой запас свечей.
Иногда мы всей четверкой садились за домино. Мы с Иваном-царевичем были новичками в этой игре, а против нас выступали два «старых волка от домино», два бывших бравых матроса — Федорыч и Николай. Но, как это ни странно, старые волки чаще всего проигрывали. В таких случаях Федорыч до крайности сердился и набрасывался на своего партнера с упреками. Зато в случае удачи он радовался, как ребенок.
Имелись у нас и шахматы. Но ими по-настоящему увлекался только Некшин. Поэтому противника он находил далеко не всегда и нередко играл сам с собой. Интересно было наблюдать, как он с наисерьезнейшим видом переставлял то белые, то черные фигурки, создавал какие-то хитроумные комбинации и сам же разбивал их. Загнав в конце концов одного из королей в тупик, Николай обводил нас торжествующим взглядом и с глубоким удовлетворением произносил свое неизменное:
— Порядок!
Второй страстью Некшина было чтение. Читал он с одинаковым увлечением все, что попадало под руку: и приключенческую повесть, и случайно подвернувшуюся сельскохозяйственную брошюру...
Но самой большой привязанностью Николая был наш четвероногий друг Таймыр.
Впрочем, Таймыра любили мы все. Да и нельзя было не любить эту ласковую, красивую собаку с густой темно-серой шерстью и необыкновенно умными глазами.
Характер у Таймыра был на редкость добродушный, а привычки прямо-таки спартанские. Спал он всегда на снегу, свернувшись калачиком. В избушку мы не могли заманить его даже в самые лютые морозы.
Умный пес радостно встречал каждого из нас и непременно сопровождал на работу. Стоило появиться на горизонте Ергилею, как он начинал беззлобно лаять, оповещая нас о прибытии гостя.
Но иногда по ночам Таймыр поднимал и самый настоящий злобный лай. В таких случаях мы сейчас же выходили из избушки. Таймыр, вздыбив на загривке шерсть, беспокойно бегал вокруг домика, но от нас не отходил никуда. А утром мы непременно находили где-нибудь неподалеку следы медведя. Пожалуй, именно Таймыру мы и обязаны тем, что медведи ни разу не тронули наших запасов: бухту они обходили стороной.
Некшин немало гордился своей дружбой с Таймыром и ревниво оберегал свою «привилегию» — собственноручно кормить общего любимца. Он едва ли понимал, чем объясняется их особенная дружба. А объяснялась она просто: мы, трое, отправляясь на охоту, никогда не брали с собой собаку, не натасканную на птицу. Таймыр, прирожденный охотник, встречал нас и
наши трофеи бурным восторгом, но в глубине своего собачьего сердца, видимо, не мог простить нам нашего «вероломства». Некшин же никогда не охотился, и Таймыр сопровождал его в любых походах.
Большое разнообразие в нашу жизнь вносил репродуктор. Мы аккуратно слушали последние известия, концерты, литературные передачи...
Как-то в детстве мне довелось читать, что в полярную ночь сон легко одолевает людей, и они могут спать сутками. Не знаю, насколько это правильно, мои товарищи спали в ночные часы во всяком случае нормально, лишь иногда прихватывали часок и днем. Я же и в эту, и в последующие зимовки спал очень плохо. Доходило до того, что я старался «заработать» сон, изнуряя себя физическим трудом или уходя далеко в тундру на прогулку. К вечеру меня действительно одолевала дремота, но стоило лечь в постель, как сон улетучивался, и я засыпал только под утро.
Значительно лучше мне спалось при незаходящем солнце и совсем хорошо в те дни, когда солнце совершало над нашим островом более или менее нормальные суточные обороты.
Спали наши зимовщики все, кроме меня, в спальных мешках. Строго говоря, других спальных принадлежностей, если не считать простых серых одеял, у нас и не было. Мне же удалось сохранить одеяло из пестрых угольничков, купленное в Иркутске, и две простыни, так что я мог считаться «аристократом». Впрочем, на зимовке все лишнее было не в моде, и товарищи нередко посмеивались надо мной, пуская в ход довольно своеобразный аргумент:
— Спать в мешке тепло, а утром встал, набросил на него одеяло, и готово — постель убрана!
Так за будничными делами, за чтением, за игрой в домино и неторопливыми вечерними разговорами прошел январь. Станция наша работала бесперебойно. Фе-дорыч давно уже вошел, говоря языком спортсменов, в форму — часами возился у своего аппарата или помогал кому-нибудь из нас, безобидно подтрунивая и балагуря.
И вдруг в нашу избушку пришла нежданная, негаданная беда.
Как-то в самом начале февраля Терехов пожаловался на недомогание. Температура у него оказалась повышенной. К вечеру она, правда, спала и недомогание как будто прошло, но на следующий день все повторилось снова. А затем наш метеоролог слег по-настоящему. Ежедневные наблюдения пришлось поручить Некшину, а сам я занялся больным.
Днем Иван-царевич чувствовал себя, в общем, сносно, сидел в постели, говорил, а к вечеру температура резко повышалась, появлялся сильный озноб. Временами больного буквально подбрасывало на постели. Затем озноб сменялся жаром, выступал пот. Я накаливал плиту, укутывал Ивана Павловича всеми нашими шубами, но болезнь все же с каждым днем усиливалась.
В конце концов, мы совсем растерялись. Я составил радиограмму, в которой подробно описал все симптомы болезни и попросил врача бухты Тикси поставить диагноз, а также посоветовать, чем и как лечить больного.
Ответ пришел в тот же день:
«Не видя больного, диагноз поставить нельзя. Предположительно малярия. Рекомендуется строгая диета, хинин».
Все это хорошо, но что делать, когда у нас даже
хлеба настоящего нет, а все наши медикаменты покоятся на дне Ледовитого океана!
В избушку незаметно вползло уныние. Мы почти не разговаривали. Иван Павлович сильно температурил, часто терял сознание. В бреду метался по кровати, стонал, кричал...
Федорыч, не переносивший чужих страданий, скоро не выдержал, забрал свой спальный мешок, малицу и под благовидным предлогом переселился в нашу продуктовую палатку.
— Что-то душно в избе. А там, по крайности, воздух
свежий.
Воздух в палатке был несомненно очень свежий, но я не на шутку испугался, как бы у меня не появился второй пациент. Что бы я стал делать с моими весьма и весьма скромными познаниями в медицине! Хуже того, с болезнью Федорыча замолчала бы рация, и наш Киги-лях снова оказался бы надолго отрезанным от Большой земли.
Никогда я так внимательно не приглядывался к Фе-дорычу, как в эти дни. Но никаких признаков простуды не замечал. Старый полярный зимовщик, казалось, даже не чувствовал, что в палатке холоднее, чем в нашей кают-компании.
В конце концов, я отважился на одно из старинных домашних средств. Когда наступил очередной приступ малярии, я подал больному полстакана чуть разбавленного водой спирта.
— Выпей, Иван Павлович! Только сразу, залпом.
Средство так подействовало, что Иван Павлович сначала задохнулся, а потом его стало подкидывать почти на полметра от кровати.
— Все, товарищи! — заговорил Терехов, переведя ды-
хание. — Кончаюсь, Никита Никифорович! Запиши завещание... За год зарплату не получил... Имущество кое-какое есть... Распорядиться надо.
— Да ты что, Иван Павлович!—запротестовал я,
стараясь придать своему голосу непоколебимую уверен
ность, которой у меня в те минуты, сказать по правде,
совсем не было. — Я, друг, на Кубани жил, где кругом
плавни, и народ так болел малярией, что смотреть
страшно. И ни разу не было такого случая, чтобы от
этой болезни кто-нибудь помер.
На помощь мне пришел Федорыч. Он, само собой разумеется, тоже не знавал такого случая, чтобы от малярии кто-нибудь умирал. Тем более после доброй порции «старинного домашнего средства».
— Гарантирую!
Дахе молчаливый обычно Некшин не преминул вступить в разговор:
— Порядок, Иван Палыч! Полный порядок! Да от
такого лекарства и часа не пройдет, как поправишься.
Уж я знаю.
Больной понемногу успокоился.
Уж не знаю, то ли помогло домашнее средство, то ли еще что-нибудь, только к концу февраля Иван Павлович стал заметно поправляться. Приступы становились легче и навещали его реже. А в самый канун марта Федорыч переселился из своей «арктической» палатки опять в избушку.
С выздоровлением больного и на острове стало как будто светлее. В полуденные часы на горизонте все сильнее разгоралась полоска далекой, холодной, но яркой утренней зари. Казалось, вот-вот выглянет из-за горизонта долгожданное солнце.
До сих пор помню день, когда в избушку ворвался взбудораженный Некшин и с порога крикнул:
— Кто соскучился по солнышку, выходи на улицу,
полюбуйся!
И сейчас же скрылся опять.
Набросив на плечи полушубки, мы с Иваном Павловичем выскочили вслед за ним, а Федорыч выбежал даже в одной рубашке,
Над бескрайним простором тундры и в самом деле переливался червонным золотом краешек солнца.
— Вот оно, родимое!
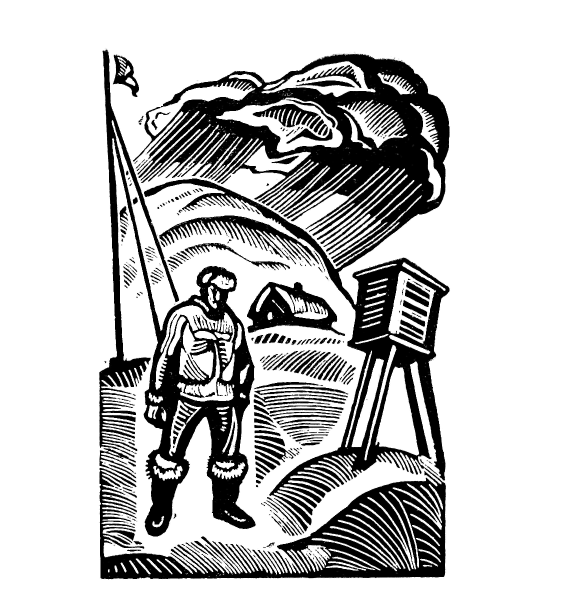
В СТРОЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ

ПРИМЕТЫ ВЕСНЫ
Как будто все оставалось по-прежнему — те же мощные, торосистые льды окружали молчаливый остров, те же глубокие снега неустанно стерегли нашу избушку... Так же подвывали ветры и мела пурга. Даже морозы почти не ослабли... Но вот стоило показаться краешку солнца, и на острове повеяло весной. Как бывало в первые дни зимовки, посыпались шутки, чаще раздавался смех. То один из нас, то другой заводил разговор о предстоящей навигации, о смене...
И только Федорыч время от времени напоминал с легкой усмешкой, что море Лаптевых — это не Черное и даже не Балтийское, что солнце на горизонте—еще не примета весны.
Впрочем, через день или два старый полярник сам же опроверг свои утверждения. Это было уже накануне марта. Сидим мы с Иваном-царевичем и Некшиным в избушке, о чем-то беседуем, вдруг дверь бесшумно приоткрывается, в щель просовывается голова Федорыча, и мы слышим его взволнованный шепот:
— Скорей, товарищи, ко мне! Только тихонько, без шума!
Выбравшись на улицу, мы настороженно оглянулись, но ровно ничего особенного не увидели. Тогда Федо-рыч показал глазами на груду беспорядочно сваленных дров. И в то же мгновение мы заметили, как среди поленьев что-то зашевелилось, подпрыгнуло раз, другой... Ба! Да это же пуночка! Полярный воробей!
Невзирая на мороз и вьюги, она с первыми лучами солнца возвратилась к себе на родину.
В начале марта я решил посмотреть, нет ли еще каких весенних перемен на мысе Кигилях.
Было холодно, совсем не по-весеннему. Тусклый солнечный диск еле виден за густой морозной дымкой. Куда ни глянь—знакомые голубоватые снега, снега...
Увы, тундра выглядела такой же белой пустыней, как и месяц, и два тому назад...
Я добрался до северной оконечности мыса и спустился на лед, мне хотелось вернуться домой другой дорогой — морем, вдоль берега. Солнце давно уже скрылось, но вечер выдался довольно светлый, и перед моими глазами широко развернулась опять-таки знакомая картина: слева — узкая полоса невысокого берега, справа—ломаная линия угрюмых торосов.
До станции оставалось совсем недалеко, когда я заметил в сугробе на пригорке какую-то неясную фигуру не то зверя, не то птицы. Неужели олень? И даже не один — рядом показались еще и еще фигуры... Но вдруг олени словно съежились, уменьшились в размерах и превратились в песцов. Только почему они бродят стаей? Может быть, начался гон?
Вспомнив про оптический обман, преследовавший меня в такие вот сумеречные часы у мыса Шалаурова,
я уже не удивился, увидев затем на пригорке не песцов и не оленей, а гигантских птиц, похожих на страусов.
С винтовкой в руке я начал ползком подниматься вверх по склону, а когда, по моим расчетам, цель была рядом, приподнялся и увидел прямо перед собой пятерку ослепительно белых куропаток. Птицы, напоминавшие своим зимним оперением да и повадками молодых леггорнов, усердно разгребали мохнатыми лапами снег, добираясь до прошлогоднего мха. Почуяв опасность, они на мгновение повернули головы в мою сторону, а затем, пробежав несколько шагов, легко оторвались от земли и полетели в глубь тундры.
— Ура! — крикнул я им вслед.
Охота на этих птиц спасала нас от постоянной угрозы цинги. К тому же надо было хорошенько подкормить Ивана-царевича. Да и нам не мешало попробовать свежего мяса. За зиму консервы нам так приелись, что к ним никто просто не притрагивался. Чераз силу мы глотали только суп, макароны и соленую треску, а главным образом налегали на оладьи, хотя и те изрядно надоели.
О свежих овощах, фруктах, о печеном хлебе даже мечтать было бессмысленно, а вот на свежее мясо мы теперь могли уже всерьез рассчитывать.
Когда я вернулся домой и рассказал о встрече с куропатками, мои товарищи пришли в неистовый восторг. И на следующий день в избушке остался один только Некшин, а мы все выбрались в тундру. Но... никто из нас не обнаружил даже следов куропаток. Та же история повторилась и завтра, и послезавтра... Товарищи уже начали подсмеиваться надо мной — вот, дескать, нашелся мастер охотничьих рассказов.
Теперь я уже думал не только о свежем мясе, но и о восстановлении моего охотничьего престижа. И я упор-
но обходил все лощинки, каменистые россыпи. Однако птиц не находил нигде.
— В чем же дело? — спрашивал я сам себя.
И когда к нам пришел Ергилей, которому наконец посчастливилось добыть голубого песца, я первым делом спросил его, где на острове могут быть куропатки.
— Куропатки, онако, есть за рекой Санникова,-
ответил старый охотник.
И не ошибся. Когда я на следующий день пришел к знакомой реке, то вскоре заметил копанки—места, где птицы разгребали снег в поисках особой разновидности мха, который здесь так и называется «куропачья трава». Вскоре я набрел и на куропатку, ставшую моим первым трофеем.
Прошло полчаса-час, и на солнечном склоне безымянного пригорка мне подвернулась уже добрая стайка птиц. Долго я подбирался к ним со всей осторожностью, на которую только был способен, — нельзя упустить такую добычу! Куропатки заметили меня лишь после того, как я поднялся во весь рост, вскидывая ружье на прицел.
С двух выстрелов мне посчастливилось выбить из стайки пять птиц. Добыча, пожалуй, была бы и больше, если бы патроны набить не «рубанцами» из свинцовых пластин аккумуляторов, а настоящей дробью. Но, увы, дробь исчезла еще на теплоходе.
Проследив полет куропаток, я начал их преследовать...
Кстати, я нашел и ответ на свой вопрос. В нашем районе куропатки действительно оказались случайно, в стаи они сбились на южных склонах мыса, где снежный покров тоньше и где легче добраться до корма. Северный ветер туда проникает меньше, а днем можно даже
погреться на неярком полярном солнце. Выходит, что птицы знали географию острова лучше меня!
Под вечер случилась еще одна интересная встреча. Я поднялся на высокий мысок, чтобы осмотреться. Птиц больше не было видно, но зато примерно в полукилометре от меня в неглубоком распадке, я заметил четверку мирно пасущихся оленей. Охотники поймут мое состояние, но что можно сделать с дробовым ружьем! К тому же день был на исходе и я изрядно устал.
К себе на станцию я вернулся только к полуночи. Однако товарищи еще не спали, поджидая своего охотника. Сколько было восторга, когда я торжественно опустил на пол богатую добычу.
А за ужином я вдруг почувствовал нестерпимую резь в глазах, казалось, что они засыпаны песком. По совету Федорыча я промыл их теплой водой, и резь как будто утихла. Но через несколько минут боль возобновилась, глаза стали усиленно слезиться. И тогда Федорыч решительно поставил диагноз: снежная болезнь. Нельзя было в ясный солнечный день так долго оставаться в тундре да еще высматривать на снежном фоне белых птиц.
Пришлось наложить на глаза повязку и прилечь.
Только на третий день я рискнул выйти из избушки. И как нарочно сейчас же увидел на льду нашей бухты довольно внушительную стаю куропаток. Сердце охотника, конечно, опять не вытерпело — я накинул полушубок, схватил ружье и побежал к бухте. Но стая уже поднималась в воздух.
Птиц было так много, что я решил не упускать их и прошел километра три-четыре в том направлении, в котором они улетели. Однако поиски оказались безрезультатными. А когда вернулся в избушку, в глазах снова появилась резь, хлынули слезы.
До лета снежная болезнь мучила меня еще несколько раз. Отполированный буйными ветрами снег так ослепительно блестел на солнце, что глаза не выдерживали. Защитные дымчатые очки помогали на охоте плохо: в них очень трудно было обнаружить птицу и еще труднее подстрелить ее. Между тем охота для нас была в те дни не прихотью, не спортом, а жизненной необходимостью.
Впрочем, куропаток с каждым днем появлялось все больше и больше. Веселыми стайками носились они по всей тундре и добывать их не стоило большого труда.
Разговоры за обедом приняли уже другой характер. Мы стали более взыскательными.
— Эх, хорошо бы ее сейчас с картошкой да с луч
ком!— вздыхал Федорыч, уписывая ножку куропатки-
— А я бы картошку и без куропатки поел, — откликался Иван-царевич.
Молчал только Некшин. Он все еще не мог простить нам своей недавней «охоты».
Вышло это так. Я как-то снял с куропатки кожу с пером, чтобы сделать чучело. Но кожа порвалась, и ее пришлось выбросить. Иван-царевич подобрал шкуру, набил ее разным тряпьем и поставил на видное место неподалеку от избушки. А потом ворвался к нам с самым расстроенным видом:
— Вот нахальная куропатка! Раз пять сегодня выбе
гал за ней. Как выскочу с ружьем — улетит, а уйду в из
бушку — сейчас же возвращается обратно. Вон опять си
дит, окаянная!
— Где она? — опросил Некшин. — У меня не улетит!
Он схватил мелкокалиберную винтовку и выбежал.
Иван-царевич с дробовиком последовал за ним.
— Подожди! — остановил его Николай. — Я сам ее
сниму!
И он сначала на четвереньках, потом на животе стал подбираться к цели. Наконец, вытянувшись плашмя, сделал несколько выстрелов.
Тогда к Некшину подобрался Иван-царевич и говорит:
— Она, видать, уснула. Хвати ее из дробовика. Толь
ко не спеши, целься хорошенько!
Николай взял дробовик и подполз к чучелу еще ближе, а полз он, надо сказать, в одной рубашке. Но вот грянуло два выстрела, и «куропатка» повалилась на бок.
— Порядок! — крикнул торжествующе Некшин, бро
сился вперед и схватил трофей, из которого посыпались
старые носки и тряпки.
Почти неделю после этого Некшин ни с кем из нас не разговаривал.
...Незаметно прошел март, наступил апрель. Солнце взбиралось все выше и выше, день стремительно прибывал.
И чем светлее становилось в тундре, тем мрачнее выглядела наша кают-компания. Пробудешь на солнце каких-нибудь пятнадцать минут, а вернувшись домой, долго ничего не можешь разобрать, не видишь даже, кто сидит за столом. Нужно было переждать десять — пятнадцать минут, пока глаза не привыкнут к скудному свету, кое-как проникавшему к нам через единственное окошко.
Поэтому к майским дням мы решили навести порядок в избушке. Начали с того, что вынули из старой рамы еще одну секцию и прорубили в стене второе окно. Стало светлее, но сразу бросилась в глаза скопившаяся после Нового года грязь. Пришлось пустить в ход не только горячую воду, мыло, но и топоры. Мы вырубили из-под кроватей не меньше десяти ведер льда.
В те же дни мы пережили и нечаянную беду — поте-
ряли Таймыра. Случилось это так: отправляясь на склад авиационного бензина, Некшин, как обычно, взял с собой нашего четвероногого друга, но вернулся, против обыкновения, один.
— Где Таймыр? — спросил кто-то из нас.
Николай крайне удивился:
— А разве Таймыр не дома? От меня он давно убе
жал...
Мы отправились на поиски и выяснили, что непоседливый пес, которому наскучило ждать, когда Некшин нальет бензин, отправился в тундру на разведку. Соблазнившись запахом приманки из пасти, настороженной на песца, забрался в нее и был задушен.
В остальном на станции все шло своим чередом.
...Пуночки давно обжились около нашей избушки и попадались на каждом шагу. Частенько проносились над головой и стайки куропаток. Когда началось токование, можно было совсем близко видеть, как то в одном, то в другом месте поднимается в воздух петух и возбужденно кричит свое «ко-ко-ко-ко», а затем, спустившись на землю, уже спокойнее добавляет «квок-квок». Хлопотливые птицы строго соблюдали раз навсегда установленный ре-жим: рано утром вылетали на кормежку и на тока, днем отдыхали где-нибудь в каменистых россыпях, к вечеру снова вылетали на кормежку, а ночью — как бы она ни была светла — спокойно спали в укромных уголках. На наших глазах петухи начали терять зимнюю окраску — на шее появились бурые перья, но курочки долго еще оставались белыми.
К концу апреля солнце перестало заходить совсем, и, хотя морозы продолжали свирепствовать, жизнь на мысе Кигилях становилась полнее с каждым днем, с каждым часом. Прилетели чечетки, нарядные турухтаны, поляр-
ные совы... Парили в воздухе первые чайки. Из-под снега один за другим выбирались мыши севера — лемминги, Появились и песцы. Зимой мы их не видели ни разу, а сейчас хитрые зверьки, как будто зная, что их линяющая шкура никому не нужна, даже днем подходили к самой избушке.
Но снег лежал еще плотной голубоватой массой; над морем и тундрой разыгрывались белесые метели. Морозы не ослабевали. В день Первого мая, помню, были минус двадцать пять.
— Это еще по-божески, — заметил Федорыч, посмотрев на градусник.
Светлый весенний праздник прошел у нас дружно и весело. По установившейся традиции я произнес небольшую речь, вспомнили Москву, родину, близких, выпили за их здоровье. Поворчал немного один только Федорыч, которому на этот раз не пришлось заняться своей "химией", а красное вино он, по собственному признанию, употреблял только в аварийных случаях.
Но скоро и он повеселел. Как и под Новый год, приехал Ергилей с подарком — большим куском свежего мяса: ему таки посчастливилось убить крупного оленя. Может быть, одного из тех, которые встретились мне в первый день охоты на куропаток.
Словом, праздничный обед и теперь удался на славу. А после обеда все отправились погулять и пострелять в цель (авось пригодится при встрече с оленями!)
Перед отъездом домой Ергилей принялся уговаривать меня навестить его семью и, кстати, прокатиться на собаках. Я охотно согласился, мне и самому давно хотелось осмотреть берега нашего острова севернее урасы Ергилея, а заодно поохотиться там на непуганых куропаток.
Четверка собак бежала и в самом деле споро, причем старик ни разу не пустил в ход палку, Когда собака начинала отставать, он подбадривал ее веселым окриком:
- Мальчик! Кисса, кисса!1
- Бусый! Таба, таба!2
Мальчик или Бусый настораживались, затем бросались вперед, увлекая за собой всю упряжку.
К концу дня ветер начал крепчать, помела поземка. Похолодало. Мы с Ергилеем все чаще соскакивали с нарты и бежали следом за ней, стараясь согреться. А там и вовсе разыгралась пурга.
Но мы к тому времени уже сидели в урасе за низеньким столиком, пили чай и ели пироги с олениной. На коленях Ергилея примостилась любимица его — младшая дочурка Аэлита. Остальные ребятишки, получив конфеты, немедленно забились в уголок. Жена хозяина усиленно потчевала нас, однако сама, соблюдая правила якутского этикета, ничего не пила и не ела.
Уснул я в ту ночь сразу и спал крепко, без сновидений. Проснулся, когда через окна уже пробивался яркий свет, похожий на дневной. Но в урасе было тихо.
«Сколько же сейчас времени?» —подумал я. Однако без часов ориентироваться не рискнул. «По всей вероятности, поздно. Может быть, хозяева вовсе и не спят, просто не хотят беспокоить гостя».
Так и не решив задачи, я снова закутался в теплое заячье одеяло. Но когда проснулся во второй раз, в урасе по-прежнему стояла невозмутимая тишина. Только старик осторожно поднялся и стал подбрасывать в печурку дрова.
1 Кисса — песец.
2 Таба — олень.
- Сколько сейчас времени, Ергилей?
- А сколько ты думаешь?
- Не знаю. Пожалуй, много. Обед скоро.
Ергилей рассмеялся:
- Онако, нет. Семь часов скоро.
Меня всегда поражала эта способность северян безошибочно ориентироваться во времени. Любой из нас, приезжих людей, в те дни, когда небо затянуто мглой и не видно ни солнца, ни звезд, без часов очень легко разошелся бы с календарем. А вот местные жители всегда точно знают, какой сегодня день и который, примерно, час.
К полудню пурга немного стихла, но об осмотре берега в такую погоду ,не могло быть речи, И я засобирался домой.
Ергилей хотел было отвезти меня, но я решительно отказался.
— Замерзнешь, онако, — покачал головой Ергилей,
взглянув на мой ватник.
Потом он что-то сказал жене по-якутски, и та достала из-под изголовья большой меховой сверток. Старик раскатал его, встряхнул, осмотрел и подал мне.
— Меряй, как будет.
У меня в руках оказалась кухлянка, которую я сейчас же и примерил.
- Ничего?
- Лучше некуда.
Пыжиковая, отделанная песцовыми оборками кухлянка была и в самом деле превосходна: легка, удобна на ходу. В такой не замерзнешь.
— Вот и хорошо! Бери себе, память ради.
Я оторопел. Красивая, добротная шуба наверняка была самой ценной вещью в урасе Ергилея. Как я мог
взять ее? И отказываться неудобно, старик уже начал хмуриться. Мне ничего не оставалось, как сердечно поблагодарить радушных хозяев...
...В тундре все еще мела поземка, но в пыжиковой кухлянке идти было не так уж трудно. Я довольно быстро обогнул северную оконечность мыса, прошел склад, оставленный профессором Чирихиным. И лишь когда попутный ветер изменил направление, начала сказываться усталость. Вдруг совсем близко от меня сорвалась с места крупная птица. Я даже не рассмотрел ее как следует, подхваченная ветром, она сейчас же потерялась в тучах снега.
«Гусь!» — сообразил я наконец. Видимо, птица отбилась от косяка и осталась здесь пережидать непогоду.
Эта неожиданная встреча словно придала мне силы, и я увереннее зашагал к своей избушке. Раз прилетели гуси — весна не за горами. Значит, пора браться за подготовку доклада о работе нашей станции, за отчет о материальных ценностях, которые мы израсходовали. Конечно, самым подходящим временем для такой работы была долгая зимняя ночь, но меня отпугивала коптилка, и составление отчета со дня на день откладывалось.
На первый взгляд, имущества у нас было немного, но когда я начал перечислять его на бумаге, откуда-то набежали сотни наименований. Учет осложнялся еще и тем, что часть грузов была нами получена в Москве, часть приобретена в Иркутске, кое-что в Якутске, в бухте Тикси, даже на борту теплохода... Наконец, изрядное количество грузов нам оставила экспедиция профессора Чирихина. Много материалов мы израсходовали, много их пришло в негодность (я уже не говорю о продуктах). И все это нужно было учесть, а порчу и расход оформить документами.
Словом, работы было достаточно, и я надолго погрузился в нее.
Между тем весна действительно приближалась. В се-редине мая морозы заметно ослабели. Однако метели продолжали бушевать, и мы по-прежнему отсиживались в кают-компании. Впрочем, занятый отчетом, я не замечал метелей и лишь изредка бросал бумаги, чтобы поохотиться.
...А высоко-высоко над островом один за другим пролетали дальше на север караваны гусей. Однажды мы спугнули громадную стаю чаек, а чуть подальше, на выступах отвесных скал, заметили остроносых чистиков. Оказывается, по соседству с нашей станцией располагается настоящий птичий базар.
Но когда же все-таки на Кигиляхе наступает лето?
