На трассе северного полюса эаписки полярника
| Вид материала | Документы |
СодержаниеБольшой ляховский На кигиляхе |
- Записки полярного летчика, 4968.09kb.
- Содержание: 2 Территориальное положение Канады, 683.59kb.
- Александр Попов: «Человек на Луне? Какие доказательства?», 4025.52kb.
- Организация и проведение городских (районных соревнований по спортивному ориентированию, 545.21kb.
- Информация о проведении Первенства России по автомоделизму в классах радиоуправляемых, 34.87kb.
- Итоги II окружного Фестиваля Северного административного округа города Москвы, 66.99kb.
- Выборгского района Санкт-Петербурга Освоение Северного морского пути. Вклад М. В. Ломоносова, 258.89kb.
- Альта самый крупный город в губернии Финнмарк. Это город северного сияния и белых ночей,, 43.94kb.
- Приказ №537 «10» ноября 2011 г о районном конкурсе «Лучшая организация Дня географии, 42.6kb.
- Правозащитный Центр «Мемориал», 418.72kb.
Подошло, наконец, 16 сентября — день отъезда. Погода стояла тихая, пасмурная и морозная. На море полный штиль. Крупными хлопьями валил густой снег. Невесело, но плыть можно.
С утра мы и зимовщики мыса Шалаурова, наши будущие соседи, с помощью тиксинских полярников перешли со всеми своими грузами на «Первую пятилетку».
Почти сейчас же на палубу поднялся машинист теплохода, насмешливо глянул на наше имущество и спросил вахтенного:
- А этих погорельцев куда везем?
- Не погорельцев, — поправил вахтенный, — а ро-
бинзонов. На Кигилях.
Во второй половине дня теплоход выбрал якорь.
Теперь мы могли спокойно отдохнуть от треволнений последних дней.
Впрочем, неприятные сюрпризы продолжали обнаруживаться и на борту теплохода. Мы брали две бутыли с серной кислотой для зарядки аккумуляторов — в одной из них оказался нашатырный спирт. Не хватило канатика для антенны. Бесследно исчезла, уже на корабле, дробь...
Время от времени я спускался в камбуз, чтобы посмотреть, как там выпекается хлеб для нас. Хотелось запасти его возможно больше, хотя бы на первый, самый трудный период островного бытия.
Впрочем, после того как мы перебрались на «Первую пятилетку», все неприятности казались уже пустяками.
Ночь мы провели, по сравнению с предыдущими ночами, превосходно.
Утром на горизонте показались смутные очертания Большого Ляховского острова. Но так как теплоход шел самой серединой пролива и низкие берега острова почти сливались с морем, то рассмотреть там что-нибудь нельзя было даже в бинокль. Да и погода стала портиться.
Когда мы подошли к мысу Шалаурова, разразилась самая настоящая пурга. Капитан заспешил. Речной теплоход, не приспособленный к морским переходам, начинало швырять по волнам все сильнее и сильнее.
Команда быстро спустила кунгас, погрузила скромные продовольственные запасы полярной станции и сменщиков. Поехал с ними и я. Обратным рейсом мы захватили зимовщиков, возвращавшихся на Большую землю.
На берегу я успел осмотреть только расположение
станции, построенной Н. В. Пинегиным, участником экспедиции Седова. На остальное не хватило времени.
«Первая пятилетка» развернулась и направилась к нашему мысу.
Мы уже начали потихоньку готовиться к высадке, когда меня вызвал к себе начальник каравана Земцов, поехавший с нами на остров.
- Мы решили следовать прямо в Тикси, не заходя
на Кигилях.
- Как в Тикси? — не понял я. — Вы же нас должны
высадить!
— Высаживать не будем. Подумай сам: уже начались морозы, остров покрыт снегом... Что вы сейчас сможете сделать? А выбросить вас на явную гибель мы не имеем права. Начальник полярной станции мыса Шалаурова мне прямо сказал, что это не экспедиция, а чистая авантюра... А он не новичок в Арктике.
Мне нестерпимо захотелось встать, грохнуть кулаком по столу и выругаться. Столько положено трудов, столько пережито волнений, и вот теперь, когда мы у самой цели, все должно рухнуть! Неужели мы пройдем мимо нашего мыса и вернемся в Москву, не выполнив задания?
— Что ж ты молчишь? — продолжал Земцов.
Я постарался ответить возможно спокойнее:
— Может быть, я и в самом деле сумасшедший, но
мои товарищи рискуют точно так же, как и я. Поэтому
я сначала посоветуюсь с ними. На бессмысленные дейст
вия мы во всяком случае не пойдем.
Через несколько минут мы были уже в сборе. Я передал товарищам все, что сказал мне Земцов. Не скрыл и отзыв начальника станции мыса Шалаурова.
— Если у кого-нибудь есть хоть малейшее сомнение,
говорите. Еще не поздно отказаться от прежних планов и вернуться назад, в Тикси.
Ответом было долгое молчание. Первым высказался Иван Павлович Терехов:
— Мне приходилось зимовать в палатке, да еще в
Оймяконе, а это самое холодное место в нашей стране.
Так что зимовки я не боюсь Для оборудования гидро
метеостанции есть все, хоть завтра могу начать наблю
дения. А вот радиостанция в палатке работать не будет.
Это вам надо учесть заранее, ведь отвечать-то за ра
боту придется вам. И за работу, и за нас...
Тогда заговорил Федорыч, к мнению которого я прислушивался с особым вниманием.
— Перезимовать — не шутка, — сказал он, — но и
на рожон лезть не надо. Работу мы выполним, но сна
чала надо построить дом. А есть ли на мысе плавник —
мы пока не знаем. Чирихин говорил, что на острове его
много, да ведь на мыс бревна не понесешь. Посмотрим
на месте. Если плавник на Кигиляхе есть, то и дом по
строим и работу выполним.
Так я и доложил начальнику экспедиции. Он как-то неопределенно взглянул на меня, пожал плечами.
Что это могло значить? Согласие? Отказ? А может быть, предстояло еще одно совещание?
Ночь я провел без сна. Опять мучила неизвестность. Не радовала и погода: снег, правда, перестал сыпаться, но ветер свирепствовал по-прежнему. Неужели совсем впустую была вся эта нелегкая дорога от Москвы до бухты Тикси? Стоило мчаться по железной дороге, лететь по воздуху в стареньком самолете, плыть по далекой сибирской реке и даже по Ледовитому океану только для того, чтобы, не осилив нескольких километров до места назначения, вернуться обратно!
А утром капитан вызвал меня на мостик и, притворно хмурясь, отрубил:
— Ну, робинзон, показывай, куда вас высаживать!
И уже с улыбкой протянул мне девятикратный морской бинокль.
Пароход огибал знакомую мне по карте и по рассказам профессора Чирихина гору Столовую. Где-то в районе этой горы нам и предстояло обосноваться. Я стал жадно всматриваться в пустынный берег. Еще день назад остров выглядел бурым, а сейчас лежал перед глазами совершенно белым. Белым и пустынным. Хоть бы какое-нибудь живое существо! Хоть бы кустик! Куда ни глянешь — суровые, холодные обрывистые берега.
Я попросил было капитана провести судно дальше к северу, но навстречу нам сердито рванулись такие крутые волны, что теплоход снова, словно щепку, зашвыряло по морю.
Спрятаться под берегом капитан не решался: промеров у него не было, и мы рисковали налететь на подводные гряды. Пришлось нам, к несчастью, ложиться на старый курс.
И снова я всматриваюсь в неприветливые берега, в бесконечные обрывы.
Наконец, бинокль нащупал что-то похожее на бухточку.
Капитан скомандовал бросить якорь, спустить катер.
Бухта оказалась действительно совсем небольшой, ее образовал впадающий в море шумный ручей. Очень обрадовали нас и пологие берега. А главное — всюду виднелись кучи плавника.
Решено: будем высаживаться.
Мы отправили катер к теплоходу за нашим грузом, а сами, не теряя времени, пошли обследовать окрестности бухты.
Федорыч и Терехов двинулись на юг к Столовой горе, а мы с Некшиным — на север, чтобы посмотреть, нет ли более удобного места для нашей будущей базы и как там с плавником. Условились встретиться ровно через час.
Когда катер с нагруженным кунгасом втянулся в бухту, мы были уже на берегу. Лучшего места для выгрузки не обнаружилось, а плавник оказался везде. Совсем неподалеку мы нашли и запас продовольствия, оставленного нам экспедицией профессора Чирихина. Тщательно прикрытый брезентом, он лежал в полной сохранности.
Пока мы разгружали кунгас, снова посыпал снег, покрепчал ветер. Матросы заторопились: на теплоходе еще оставалось наше имущество. В последний рейс с катером отправились и мы, зимовщики.
Недавние споры с начальником экспедиции были забыты, и расстались мы очень тепло. Земцов даже подарил нам хорошую килевую шлюпку, патефон и два десятка пластинок.
Короткий сентябрьский день уже кончался, когда мы отвалили от теплохода. Плыть пришлось на свет громадного костра, предусмотрительно разведенного в бухте матросами с кунгаса.
— Счастливо оставаться, робинзоны! — кричали с
борта теплохода. — Ни пуха вам ни пера!
...Оставшись одни, мы присели на бревно.
- Вот и все!
- Сейчас бы горячего чайку! — мечтательно прого
ворил Федорыч.
— Нет уж, — отозвался я. — Ты как хочешь, а я спать.
Мы разостлали брезент, уложили в ряд четыре спальных мешка, прикрыли их сверху другим концом брезента и улеглись.
Уже в полусне я услышал долгий прощальный гудок «Первой пятилетки», возвращавшейся на Большую землю
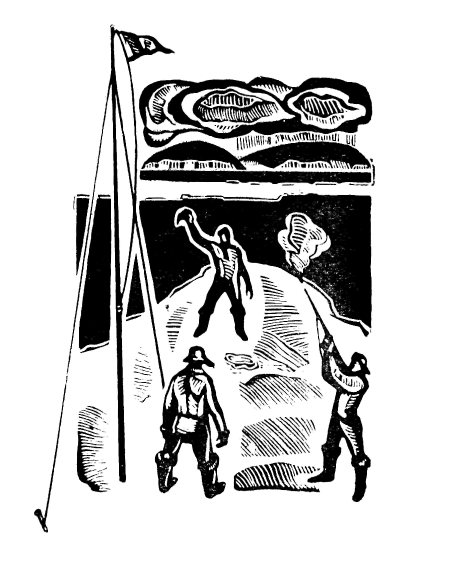
ЗИМА
НА КИГИЛЯХЕ

РОБИНЗОНЫ И ПЯТНИЦА
Разбудил меня веселый птичий щебет. Чуть приоткрыв глаза, я увидел полосу девственно чистого снега... Где я? Бывало, когда выпадал первый снег, у нас во дворе так же задорно чирикали воробьи. Но вот до моего слуха долетел ровный и тяжелый гул. Ледовитый океан! Я окончательно проснулся и поспешил выбраться из спального мешка. С брезента, прикрывавшего наши грузы, сорвалась стайка пуночек — полярных воробьев.
Товарищи крепко спали; будить их было жалко, и я решил еще раз осмотреться на незнакомом берегу.
За дальней горой, которая носила имя Санникова, неторопливо поднималось позднее сентябрьское солнце. Освещенные его лучами, качались среди камней ярко-фиолетовые головки цветущих маков. Было странно видеть их здесь, за полярным кругом, рядом со снегом.
В глубине бухты, жалобно повизгивая, жались к воде наши собаки. Можно было подумать, что они поджидают, не вернется ли за ними катер.
Я спустился к ручью, умылся, набрал полный чай-
ник воды и, свистнув собак, вернулся вместе с ними к нашему биваку. На душе было на редкость спокойно: ни с кем больше не нужно спорить, никому больше не нужно ничего доказывать. Хорошо!
Первым нашим делом, после того как все встали и позавтракали, было приготовить из плавника в глубине бухты настил, уложить на него все имущество. Работали дружно, с шутками.
— Шевелись! — подгонял Федорыч. — Здесь на ма
му не надейся, нос вытирать некому.
На сложенный груз натянули брезент, концы которого надежно закрепили веревками, да еще привалили плавником. За работой не заметили, как надвинулась темнота,—в Заполярье сентябрьские дни совсем коротки. Кое-как разбили палатку, установили в ней железную печь, кровати... Зато ужинали уже в тепле, при свете «летучей мыши». А потом распаковали подарок начальника Ленской экспедиции — патефон с пластинками и с гордостью слушали, как впервые на этом неприветливом берегу Федор Иванович Шаляпин затянул свою изумительную «Блоху», а вслед за ним украинская капелла спела «Реве та стогне Днипр широкий»...
Спать легли пораньше, так как с утра предстояло браться за главное — за строительство дома. Я уже и площадку облюбовал. Лежала она под обрывом, на берегу ручья, защищенная с трех сторон высоким берегом от ветров... И вода рядом, и дров сколько угодно! Словом, лучшего места не найти!
Терехов и Некшин шумно одобрили этот выбор, а Федорыч слушал меня молча, густо попыхивая папироской и улыбаясь.
— А ты, Михаил Федорович, что же молчишь? — об
ратился я, наконец, к нему.
— Для охотников и рыбаков — ничего не скажу — хорошее место. Лучше и не найти. А вот нам оно совсем не годится. Ты знаешь, почему полярников ветродуями зовут? Потому, что им от ветра бегать не приходится, наоборот, они сами его ищут: метеорологическую станцию надо ставить так, чтобы флюгер мог ловить ветры всех румбов! А где вкапывать радиомачты, чтобы слышимость была лучше? А откуда море будет шире просматриваться? Кому-кому, а уж нам-то надо лезть на бугор.
Я мельком взглянул на Терехова, нашего официального гидрометеоролога. Бедный Иван Павлович, он же Иван-царевич!
Хоть и жаль облюбованного места, хоть и не хотелось никому таскать в гору тяжелые бревна, однако спорить с бывалым полярником было бы нелепо. Мы покорно поднялись на пригорок, выбрали новую строительную площадку... Я отмерил пять шагов в длину, столько же в ширину, и Федорыч, поплевав, как заправский землекоп, на ладони, принялся рыть ямы под столбы. Иван-царевич остался с ним за подручного, а мы с Николаем Некшиным спустились к морю на «лесозаготовки».
Нашей обязанностью было выбирать в кучах плавника подходящие бревна, опиливать их по размеру и доставлять наверх, плотникам. Толстые обрубки тащили вдвоем, легкие носили в одиночку. Работали молча. Николай был глуховат и поэтому не особенно разговорчив.
Так на мысе Кигилях началось «жилищное строительство».
Погода, к нашей радости, установилась ясная, теплая. Солнце успевало даже за короткий осенний день
так согревать остров, что снег понемногу подтаивал. То здесь, то там выбивались из-под него бурые пятна потемневшего мха, увядшей травы и гораздо веселее покачивались на ветру цветущие полярные маки. Нас так и тянуло побродить по безмолвной тундре. Но где уж тут!
Мы прерывали работу только на обед. Да и с обедом поторапливались: благо, консервы еще не приелись, а что касается аппетита, то его было и вовсе не занимать, тем более после стакана доброго вина.
Впрочем, однажды я все-таки не выдержал. Товарищи легл'И спать, а я взял винтовку и отправился в поход.
Ночь выдалась лунная и тихая. Даже океан не шумел, как обычно, не ворчал, а спокойно, умиротворенно плескался.
Пошел я по направлению к невысокой каменной гряде, расположенной в северо-восточном углу нашего мыса. Она с первых же дней заинтересовала меня своим неровным, зубчатым хребтом.
Первые пять-шесть километров пришлось подниматься в гору, и подвигался я медленно. К тому же путь то и дело пересекали овраги. Но когда подъем наконец закончился, передо мной развернулся пейзаж, который и до сих пор остается в моей памяти во всей его первобытной красоте. Представьте себе безмолвную, зеленоватую в лунном свете пустыню и на самом ее краю развалины древнего восточного города — зубчатые стены старой крепости, полуразрушенные башни, легкие, устремленные ввысь, минареты...
В довершение всего где-то совсем рядом глухо залаял потревоженный песец.
...А время торопилось. Дни становились еще коро-
че, ночи — не только длиннее, но и морознее. Приближался октябрь. Но торопились и мы. К концу сентября каркас нашего домика подошел под крышу, и мы принялись обшивать его изнутри и снаружи фанерой. Простенки плотно завалили дерном и мхом, как следует утрамбовали.
Оставалось настлать потолок и пол. Так как потолок у нас должен был служить и крышей, мы уложили на готовые стены несколько рядов жердей, закрыли их брезентом, а брезент залили раствором глины. Венчал эту своеобразную крышу внушительный слой дерна.
Пол тоже был выложен жердями, затем покрыт сверху дерном и, наконец, фанерными листами.
Труднее было с окнами. Ни стекла, ни алмаза у нас не было, зато мы предусмотрительно захватили с собой уже сколоченную и застекленную раму. Чтобы сохранить в избушке побольше тепла, мы использовали раму лишь частично: вырезали одно звено и вставили в стену, обращенную к морю.
На дверь пошел найденный на берегу трап. Правда, дверь получилась грубая, массивная, но плотная. Навесили ее на ремнях.
Завершающим этапом строительства явилась установка плиты. Дело как будто совсем нетрудное, однако затащить на гору чугунное сооружение оказалось не так просто.
Вместе с домом постепенно росли и «производственные помещения». По нашему плану, один угол избушки отводился под радиорубку и один под машинное отделение. А так как двигатель ставить прямо на землю или на пол нельзя, то пришлось сначала выдолбить в вечной мерзлоте яму, уложить в нее толстые чурбаки, которые и сыграли роль фундамента.
Не составило большого труда и оборудование метеостанции: бревна для установки флюгера и дождемерно-го ведра находились под рукой. Зато с радиомачтами мы долгое время не знали, как быть. Подходящие бревна отыскались, но скрепить их мы не могли.
...Новоселье было отпраздновано 16 октября, когда морозы по ночам стали переваливать за двадцать градусов и не шутя выживали нас из палатки.
Первым номером праздничной программы была горячая баня (в последний раз мы по-настоящему мылись еще на Большой земле).
Теперь можно было вплотную браться и за наши прямые обязанности, но бытовые неурядицы все еще не оставляли нас в покое. Например, кончились запасы хлеба, выпеченного на теплоходе, и, следовательно, предстояло открывать собственную хлебопекарню. А как ее открыть без русской печи и даже без духовки?
Выпечь хлеб прямо в плите вызвался Иван-царевич.
Увы, опыт закончился печально: на стол Иван Павлович подал обугленные сверху колобки с начинкой из самого настоящего теста. Глядя на них, я вспомнил горьковского «Коновалова» и сказал:
— Нет, товарищи, так дело не пойдет. Здесь совершенствоваться всем коллективом нельзя. Давайте уж лучше Максимом Горьким буду я один.
Однако и на следующий день к обеду была подана примерно такая же несъедобная продукция.
Тогда я решил реконструировать плиту — покрыть низ ее толстым слоем глины, чтобы дольше и равномернее сохранить жар. По моим расчетам, глина должна была превратиться в кирпич.
Эксперименты проводил я довольно долго и в конце концов вызвал протесты Федорыча: я доводил темпера-
туру в его радиорубке, к которой примыкала плита, до того, что на проводах начинала плавиться изоляция.
И все же кое-каких успехов я добился: хлеб у меня стал получаться более или менее пропеченным. Но вкуса настоящего хлеба все-таки не было. Потом, когда я уже вернулся на материк, жена долго смеялась надо мной:
— Какой же у тебя мог получиться хлеб, если дрожжи ты добавлял в тесто перед тем, как сажать хлебы в печь? А добавлять их нужно с вечера...
Впрочем, был у нас выход из положения. Очередной дежурный заводил утром кастрюлю теста, примешивал к нему яичный порошок, сгущенное молоко, сахар и затем готовил к завтраку и к ужину оладьи. Жаль только, что оладьи эти скоро приелись нам и стали надоедать не меньше, чем консервы и сушеные овощи.
Спускаясь за чем-нибудь к бухте, я наблюдал, как время от времени над водой появлялись головы тюленей. Но поохотиться на них не хватало времени.
Встречались на острове и куропатки. Готовясь к отлету на материк, они уже сбивались в стаи и были, как всегда в эту пору, очень осторожны. Кормились обычно на открытых возвышенностях, выставив во все стороны часовых... Стоило приблизиться к стае, как часовые вытягивали шеи, приглядываясь к охотнику. А через мгновение стая перелетела на другое место.
Но однажды, в сильную пургу, когда куропатки укрывались от ветра по оврагам и котловинам, мне удалось без труда подобраться к ним и двумя выстрелами выбить из стаи пять птиц. Повезло в этот день и Федо-рычу: он на берегу бухты подстрелил трех куропаток. Всю свою добычу мы определили в неприкосновенный запас.
С наступлением полярной ночи куропатки покинули остров до весны.
В те же дни в нашей жизни произошло интересное событие. Проверяя как-то свои приборы, Иван-царевич вдруг остановился и стал пристально вглядываться вдаль.
- Что там такое? — спросил Федорыч, которому до
всего было дело.
- Вроде как человек идет, — удивленно отозвался
Терехов.
Мы присмотрелись тоже. По тундре в самом деле легко продвигался человек, без оружия, в рыжей куртке.
— Вот к робинзонам и Пятница идет, — пошутил я.
Пятница действительно направлялся прямо к нам.
Через несколько минут мы уже хорошо могли рассмотреть его лицо — типичное лицо северного охотника.
Подойдя совсем близко, незнакомец поздоровался, протягивая руку каждому из нас по очереди.
- По-русски говоришь? — спросил Федорыч.
- Говорю маленько.
- Откуда пришел сейчас?
— Из ураса. Живу здесь. Онако недалеко, кило
метров двадцать, пожалуй.
Это было для нас полнейшей неожиданностью. Мы даже не подозревали, что на Кигиляхе живет еще кто-то.
- И давно живешь?
- Онако, скоро двадцать год.
- Один?
— Зачем один! Жена, два дочка, два сын...
Время подходило к обеду, и мы пригласили гостя к
себе в избушку. Расспросы продолжались и за столом.
— Не случалось тебе видеть на острове приезжих
людей?
— Нет. Только Пинегина видал, онако. Слыхал Бе-
гич, Колчак... Летом был Чирихин.
— А где сейчас Колчак, не слыхал? Гость улыбнулся.
— Слыхал. Он был злой начальник в Сибири, а
большевик его кончал.
Мы узнали, что наш гость — якут Ергилей Бочка-рев — старейший житель Большого Ляховского острова. Работает промысловиком охотничьей станции. Запасы продовольствия в этом году на станции оказались довольно ограниченными и своих охотников она снабжала плоховато, а для охоты на оленей у них не было времени. И помощников в семье пока мало — старшей дочери только что исполнилось пятнадцать лет, а младшей всего три года.
- Здесь на острове было сложено продовольствие.
Ты разве его не видел?
- Зачем не видел! Видел. Ветер маленько брезент
снял, так я снова его положил, сверху палка привалил.
- Почему же не взял себе немного?
- Как можно взял? — удивился Ергилей. — Продо
вольствие хозяин есть.
Разговор у нас затянулся до поздней ночи. Мы узнали, что промысловый район нашему собеседнику достался большой, но что промысел в этом году неважный: песца почему-то мало. К тому же у Бочкарева не было ни оленей, ни собак, и настороженные пасти он обходил пешком. А это отнимает много времени и, конечно, отзывается на добыче.
...Утром, провожая гостя в дорогу, мы положили ему в мешок в подарок жене и ребятам сахару, муку и масло. А когда растроганный Ергилей совсем уже собрался в путь, Федорыч шепнул мне на ухо:
— Давай отдадим ему двух-трех собак. Нам они ни к чему, а ему польза.
Так и сделали. Одну собаку оставили себе, остальных отдали Ергилею.
Словом, в этот день робинзоны Кигиляха нашли на своем «необитаемом» мысе если не Пятницу, то во всяком случае верного и надежного друга.
