Всероссийская научно-практическая конференция «Укрепление национальной безопасности России: демографические и миграционные аспекты»
| Вид материала | Документы |
СодержаниеПечерских Н.А.ЭТНЕОГЕНЕЗ В УСЛОВИЯХ ДИАСПОРИЗАЦИИ |
- Сообщение для сми 9 апреля 2010 года, 26.78kb.
- Всероссийская заочная научно-практическая конференция современные аспекты в сфере, 54.86kb.
- Программа ижевск 2012 Всероссийская научно-практическая конференция, 581.44kb.
- Программа ижевск 2012 Всероссийская научно-практическая конференция, 574.46kb.
- V-я всероссийская научно-практическая конференция «метрологическое обеспечение весоизмерительной, 51.17kb.
- 1-я Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Механизмы регулирования, 122.06kb.
- 12-я Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов, 68.08kb.
- Ii всероссийская научно-практическая Интернет-конференция «Модернизация национальной, 106.84kb.
- Всероссийская научно-практическая конференция, 39.98kb.
- I всероссийская научно-практическая (заочная) конференция Москва, 1 3 февраля 2010, 44.46kb.
Печерских Н.А.ЭТНЕОГЕНЕЗ В УСЛОВИЯХ ДИАСПОРИЗАЦИИ
Ижевский государственный технический университет
I
Диаспора, рассеяние этноса среди других народов, известна уже со времен античности. В истории это явление существовало непрерывно, но либо для отдельных народов, либо для небольшой части этноса, проживающей в колониях. ХХ век порождает новые явления. Процесс выхода в колонии сменяется процессом взаимного переселения. Универсализация хозяйственной жизни порождает не только глобальные ТНК, но и значительные отряды иностранных рабочих, причем не только в Европе или США, но и в нефтедобывающих арабских странах, ЮАР и др. Постсоветская Россия стала страной-реципиентом миграционных потоков еще до того, как в экономике стали заметны позитивные сдвиги. Кроме того, русский этнос и в составе СССР, и ранее, постоянно существовал во взаимной диаспоре с тюркскими и финноугорскими народами.
Диаспора лишь увеличивает межнациональные контакты, но не может сама по себе служить причиной межнациональной напряженности. Диаспоризация, например, приводит к вопросу: чьи интересы выражает государственная автономия «национального меньшинства на собственной территории», - «титульного» этноса или большинства-«мигрантов»,- но не сама по себе, а лишь вместе с «государственным» вопросом, лишь вместе с вопросом о власти. Нет борьбы внутри элиты, не будет и вопроса, чьи интересы она представляет: «всего народа». Нет правящей элиты – нет и трайбализма. Первобытные племена могут воевать за землю, но не за национальное превосходство. Этнические беспорядки во Франции и других странах Западной Европы – на самом деле этносоциальные. Диаспора оказалась изолированной от принимающего социума; беспорядки – лишь ответ на отсутствие перспектив быть принятым в сообщество.
Реальное социальное бедствие состоит в том, что процесс диаспоризации в ХХ веке наложился на процессы раскрестьянивания и деградации рабочего класса. Процесс раскрестьянивания не нов – он идет в Европе со времен первоначального накопления, и он перманентно порождал буржуазный индивидуализм, пауперизм, социальный нигилизм и всякого рода фетишистское сознание. У патриархального крестьянина и мелкого городского производителя нет будущего в модернизирующемся обществе, раскрестьянивание шло – и сейчас идет вне стран «золотого миллиарда» – не как развитие крестьянской собственности и культуры, а как разрушение этой собственности и культуры. Свободный крестьянин мог стать только пролетарием, наемным рабом капитала, а этот последний мог сохранить свою личность, только участвуя в «социальной революции». Но вот в 70-е годы и эта лазейка для «маленького человека» захлопнулась: начался процесс вымывания промышленного рабочего класса. Автоматизация производства делает промышленный рабочий класс излишним. Для России, например, вместо 35-40 миллионов человек рабочего класса 70-х годов, современная промышленность и сельское хозяйство могут дать работу и надлежащую оплату труда едва ли 5-7 миллионам рабочих. Политическая катастрофа государства рабочего класса есть лишь выражение социальной катастрофы самого этого класса. В Западной Европе представителям этого класса дана была перспектива «общества массового потребления» на основе социального накопления собственности в виде пенсионных и разного рода других фондов. Иметь постоянную работу в крупной корпорации – престижно и надежно. Но и не иметь такой постоянной работы – хотя и не надежно, но в Западной Европе не опасно. Можно заниматься всякого рода художественным самовыражением, и такое самовыражение будет профинансировано через полу обобществленные фонды. Хуже тем, кто не имееет закрепленного отношения к этой накопленной распределенной национальной собственности, тем кто не приобрел еще полных прав гражданина в данном государстве и культурной идентичности в данном обществе,- мигрантам. Но в России – это проблема и тех 30 миллионов человек, которых если и может впитать российская промышленность, то только в устарелых, неконкурентоспособных формах. А тут еще – диаспоризация, миграция... В Западной Европе социальная база этнополитического экстремизма – 5-15% населения, часть недавних мигрантов (в 1-2 поколении), но в России к ним добавляются еще и «ксенофобы», «внутренние эмигранты», те 40% населения, прежний «советский» образ жизни которых безвозвратно сломан, и у которых нет доступа ни к собственности, ни к труду в их современных формах.
Смена социального статуса группы, её хозяйственно-экономического уклада и образа жизни может происходить естественно, путем развития изнутри, путем органического усвоения новых форм деятельности, новых средств и новых ценностей,- но может происходить и путем «великих переломов», путем социальной деградации, пролетаризации и люмпенизации социального слоя. Естественный и органический путь развития порождает идеологию прогрессивного класса – класса, верящего в свои собственные силы, в прогресс, в науку и творческие перспективы человечества. «Великие переломы» порождают веского рода фетишистское сознание – религиозно-пессимистическое, мистически-эсхатологическое, и, среди прочих форм,- национально-фетишистское, во всех его разновидностях, от шовинизма до ксенофобии, и от национального нигилизма до расизма и трайбализма.
II
Уже простое описательное исследование диаспоры требует введения ряда новых понятий. Диаспора есть проживание представителей данного этноса вне мест его коренного обитания, и количественно его можно оценить долей лиц данной национальности, проживающих вне мест коренного обитания. Реально, однако, в истории каждого этноса можно проследить несколько волн миграции различной давности, и поэтому само понятие «мест коренного проживания» проблематично. С некоторой условностью, диаспоризацию можно оценить долей лиц данной национальности, проживающих вне территории своего национально-государственного образования. Условность здесь политического происхождения: многие народы вообще не имеют своих государственных образований, границы устанавливаются государственной властью и державной силой, и в этническом отношении всё равно будут столь же законными, сколь и произвольными. Так например, диаспора удмуртов, измеренная как доля удмуртов, проживающих за пределами Удмуртии, по данным переписи населения СССР 1989 г. составляла 33,5%, а с учетом национальных групп в местах традиционного проживания за пределами Удмуртии (в Башкирии, Кировской области и др.) - 22,8%. В то же время, в Татарии проживало всего лишь 26,6% всех татар (диаспора – 73,4%), а в Чувашии 49,2% всех чувашей. При этом в Башкирии проживало 1121 тыс. татар и всего 764 тыс. башкир (в самой Татарии – 1765 тыс. татар). Гораздо легче измерить показатель внутренней диаспоризации, «разбавления» данного народа на территории его обитания (не обязательно коренного).
Непосредственно сравнимы в таблицах 1 и 2 только данные по внутренней диаспоризации этносов. Для башкир, например, большое значение имеет внешняя диаспора в Казахстане (до 50 тысяч человек, или 3-5% численности этноса), а для татар – диаспоры не только в СНГ и Балтии, но и в дальнем зарубежье. При этом резкий прирост численности башкир и снижение внутренней диаспоризации этноса в Башкортостане объясняется не только (а может быть и не столько) возвратной миграцией, но и тем, что многие лица, указывавшие во время переписи 1989 г. другую национальность, в 2002 г. выбирали принадлежность к титульной нации. Внутренняя диаспоризация марийцев, мордвы, татар, удмуртов и чувашей практически не изменилась. Для сравнения – внутренняя диаспоризация русских на территории всей Российской федерации составляла в 1959 г. 26, 7%, к 1989 г. возросла на 1,8% и составляла 28, 5%, а по данным переписи 2002 г. составила 31,2 % (прирост 2,7%).
Табл. 1. Диаспоризация некоторых этносов в Волжско-камском регионе,
по данным переписи населения СССР 1989 г.
| Этнос | Внешняя диаспора, % от численности этноса | Внутренняя диаспоризация, % других этносов в населении титульного государственного образования | Считают родным язык др. народов, % | Численность этноса в СССР, тыс. чел. |
| Башкиры | 40,4 | 78,1 | 27,7 | 1449 |
| Марийцы | 51,7 | 56,8 | 19,2 | 671 |
| Мордва | 72,8 | 67,5 | 33,1 | 1154 |
| Татары | 73,4 | 51,4 | 16,9 | 6649 |
| Удмурты | 33,5 | 69,0 | 30,2 | 747 |
| Чуваши | 51,8 | 32,4 | 28,8 | 1842 |
Табл. 2. Диаспоризация некоторых этносов в Поволжском федеральном округе РФ, по данным переписи населения 2002 г.
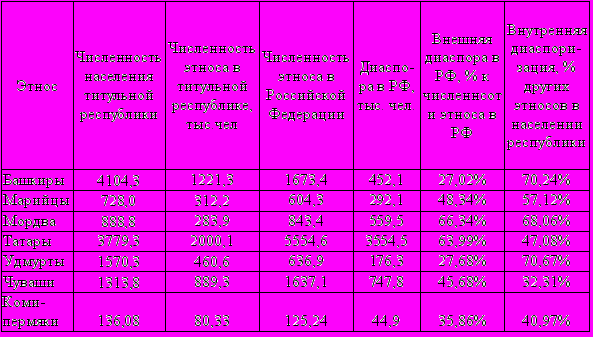
III
Внешняя диаспора создает «груз» для развития этноса: возникают проблемы, связанные с поддержанием единства национальной культуры разделенного народа, ослабляются внутренние связи национальной культуры, внешние общины попадают в поле разнонаправленных этногенетических сил. Внутренняя диаспоризация так же есть сложно действующий фактор: возрастают межнациональные контакты и заимствования, расширяется возможность и практика межнациональных браков. Ассимиляция этноса невозможна без его предварительной диаспоризации.
Но диаспоризация сама по себе не есть причина деградации национальных культур. Евреи смогли сохранить самобытную культуру в течение тысяч лет диаспоры даже без «коренного» местообитания и государственности. Диаспора лишь создает иллюзию, что причина деградации национальной культуры – воздействие другой культуры. Деградация культур – явление не национальное, а транснациональное, проблема не менее грозная, чем загрязнение окружающей среды. Главная проблема татарской культуры – не во взаимодействии с русской, а в том, что русская культура деградирует, и наоборот. Проблема не в том, что приезжают мигранты, а в том, что и мигранты, и коренные жители, только что пережившие очередной «великий перелом», являющиеся носителями деградирующей культуры и фрустрирующего самосознания, готовы порождать всякого рода фетишистские формы общественного сознания, в том числе и фетишистские формы национального самосознания.
Культура есть система духовных ценностей, интересов и потребностей людей, целей действия и материальных благ, выступающих средствами деятельности и удовлетворения потребностей людей. Каждый индивид имет свой набор потребностей и свой набор форм деятельности. Индивид испытывает потребности в еде и одежде, в жилище и отдыхе, в общении и признании. Индивид осуществляет профессиональную деятельность, продает и покупает, просит и дарит, занимается хобби и политикой. Присущую индивиду конечную систему форм деятельности и потребностей можно назвать индивидуально-культурным типом. «Культурная специализация» индивидов (наборы форм деятельности и потребностей) более или менее легко поддается типизации – в малочисленных обществах в силу традиционности, в индивидуализированных обществах в силу многочисленности населения. В любой русской деревне можно было найти своего деда-Щукаря, мельника-колдуна, богатыря-кузнеца, своего «крепкого мужичка», своего книжника и т.п. Любое общество – прежде всего набор индивидуально-культурных типов.
Чем боле дифференцированы потребности, чем более упорядочена система ценностей, чем многообразнее освоенные индивидом формы деятельности, следовательно, чем полнее освоение мира,- тем выше развитие индивидуально-культурного типа. И при всем том, любой индивидуально-культурный тип может оказаться как гармоничным, так и дисгармоничным в зависимости от внешних обстоятельств. Гармоничным он будет, если при данных внешних обстоятельствах результаты деятельности индивида удовлетворяют его главные потребности, и если удовлетворение вновь развивающихся потребностей не противоречит сложившейся системе ценностей. Наоборот, если результаты деятельности индивида при данных условиях систематически не удовлетворяют его потребностей, или если развивающиеся новые потребности не могут быть удовлетворены без отказа от принятых индивидом ценностей, внутренняя культура данного типа становится дисгармоничной. Гармоничный тип решает свои проблемы сам, он готов к действию с «опорой на собственные силы», оптимистичен и разделяет мировоззрение прогресса. Дисгармоничный тип фрустрирует, лишен внутренней перспективы и готов выступить сторонником всякого фетишизированного сознания; не имея внутренней гармонии, он нуждается в иллюзорной компенсации.
Индивидуально-культурный тип есть минимальный элемент этнической системы. Индивидуально-культурный тип встраивается в культуру с помощью своей функции – социальной роли, но к ней не сводится. Социальная роль есть проявление открытости индивидуально-культурного типа, проявление несовпадения результатов собственной деятельности индивида и его потребления. Индивид данного культурного типа нуждается в индивидах других типов, как булочник, пивовар и мясник у А.Смита нуждались друг в друге для удовлетворения своих потребностей – с той только разницей, что, удовлетворяя потребности друг друга, индивидуально-культурные типы не обязательно обмениваются равными стоимостями.
Рассмотрение этноса как системы индивидуально-культурных типов позволяет снять противоречие между двумя рядами этнических категорий: традиционного для советской литературы ряда «исторических общностей» (племя, союз племен, народность, нация) и предложенного Л.Гумилеваым ряда «консорция – конвиксия – этнографическая группа – этнос – суперэтнос». Эти ряды идут как бы поперек друг друга. Ряд «исторических общностей» отражает историческое развитие формы ведущих этносов: племя было высшей формой развития этноса в эпоху доклассовых обществ, до XVIII века высшей формой развития этноса были народности, с XVIII века – нации, в конце XX века – многонациональные общности. Но в каждую эпоху внутри этносов (как ведущих, так и отстающих) существовали субэтнические общности (консорции, конвиксии, этнографические группы), а сами этносы объединялись в суперэтнические группы. Как бы ни менялся статус этноса, - превращается ли союз племен в народность или в несколько народностей, развивается ли нация из нескольких народностей или из одной народности развиваются несколько наций,- этнос всегда остаётся иерархически организованной системой. Казахский этнос состоит из трех жюзов, мордва – из этнографических групп эрзя и мокша. Эти субэтносы прослеживаются на протяжении всей истории соответствующего этноса. Конвиксия сохраняет устойчивость на протяжении нескольких поколений (порядка трехсот лет). Это община, скрепляемая совместной деятельностью и родственно-семейными связями. Консорция – это община «в первом поколении», скрепляемая только совместной деятельностью. Консорции и конвиксии возникают и исчезают, этнос всегда бывает мозаичным.
При развитии по цепочке «племя - народность - нация» меняется способ интеграции индивидуально-культурных типов в этническую систему. Племя интегрируется семейными связями, народность – политическими связями (государственной общностью), нация – экономическими связями (общим рынком). Между прочим, погоня за национальным суверенитетом ведет лишь к тому, что политическая интеграция доминирует над экономической, даже осуществляется в ущерб последней. Следовательно, ранг народа понижается от нации к народности.
| Структура этноса | ||||||||
| Племя | | Союз племен | | Народность | | Нация | | Многонациональная общность |
| | ||||||||
| | | | | | | | | Этнические диаспоры |
| | ||||||||
| | Субэтносы – этнографические группы («племена») | | Субэтносы – этнографические группы | | Субэтносы – этнографические группы | |||
| | Конвиксии – местные общины | | Конвиксии – местные общины | | Конвиксии – местные общины | | Конвиксии – местные общины | |
| Консорции – дру-жины отдельных вождей | | Консорции | | Консорции | | Консорции | | Консорции |
В истории каждого народа можно проследить время, когда этот этнос был конвиксией, и предположить,- а иногда, если хватает данных,- и проследить исторически время , когда этот этнос был консорцией. Естественно, не каждый субэтнос становится самостоятельным этносом, не каждая конвиксия становится субэтносом, не каждая консорция становится конвиксией. Здесь действует отбор, и Л.Гумилев дал название принципу отбора. Это – пассионарность этнической системы. Но содержание этого понятия требуется переосмыслить. У Гумилева оно определено только эмпирически: в пассионарном этносе много пассионарных индивидов, и поэтому этнос расширяется, впитывая в себя даже иноэтнический материал. Почему индивиды пассионарны? В конце концов получается – потому, что этнос пассионарен (Л.Гумилев говорит: этнос получил пассионарный толчёк). Вспомним, однако, про ранее введённое различение гармоничных и дисгармоничных типов. Если пасионарий и не всегда материалист и атеист по своим философским убеждениям, то он всегда оптимист. Фрустрирующий дисгармоничный тип – всегда субпассионарий. А уж что касается этнической системы, то либо в ней индивидуально-культурные типы достаточно гармоничны относительно друг друга, либо нет. И если в этносе индивидуально-культурные типы гармоничны, то этнос будет впитывать в себя и перерабатывать под свою структуру даже и иноэтнический материал (а пассионарии для этой работы найдутся). А если нет, то материал данной этнической системы рано или поздно будет ассимилирован более пассионарными соседями. Гармоничный образ жизни, когда возникающие в ходе деятельности потребности результатами этой же деятельности удовлетворяются, сам по себе привлекателен. Достаточно даже, что бы он был всего лишь более гармоничным, чем у соседей,- и этнос оказывается пассионарным.
IV
Следует рассмотреть так же роль диаспор в развитии этнической общности на «принимающей территории». Миграции автоматически создают «многонациональные общности», просто механически перемешивая, заставляя народы взаимно диаспоризировать друг друга. И перспектива «плавильного котла», соединяющего диаспоры в единую нацию на «принимающей территории» отнюдь не всегда является не только привлекательной, но и реальной. Мы сами в поволжском федеральном округе обречены жить в многонациональной общности, причем никак не меньше, чем в предстоящие лет 300.
Во-первых, следует выделить доминирующие диаспоры, относительная численность которых в составе местного населения на порядок превосходит численность других национальностей. Таковы русские во всех регионах поволжского округа; татары, удмурты, марийцы, чуваши, мордва, коми-пермяки на территориях их национально-государственных образований. Особый случай представлен на территории Башкортостана: здесь сразу три народа представляют доминирующие диаспоры (русские, башкиры и татары). Пограничный случай – татары в ульяновской области, составляющие 12,2% населения, что в 6 раз меньше, чем доминирующая здесь русская община (72,65%), и в 1,5 раза больше, чем чувашей (8,05%). Доминирующих диаспор может быть на данной территории 2-3. Впрочем, диаспора совершенно не обязательно должна быть доминирующей, что бы определять «лицо» населения: евреи в России никогда и нигде не превышали нескольких процентов в составе населения, но были широко представлены в составе творческой интеллигенции и в свободных профессиях. Аналогичную роль сегодня играют узбеки и таджики в строительстве и ЖКХ в Москве и Санкт-Петербурге, и некоторые другие диаспоры (во всем мире). Диаспору, занимающую доминирующие позиции в какой-нибудь специальной области деятельности, можно назвать определяющей.
По темпам изменения численности диаспоры можно подразделить на прогрессирующие (численность общины возрастает как в относительном, так и в абсолютном отношении), стабильные (изменение численности общины в диапазоне от абсолютного до относительного роста) и редуцируемые (абсолютное и относительное сокращение численности общины). Так, русские были стабильной диаспорой во всех регионах поволжского округа – между переписями 1989 и 2002 г. их численность в абсолютном выражении возрастала, но доля в населении не изменялась либо медленно сокращалась. Башкиры в Башкирии были прогрессирующей диаспорой – возрасла как их численность, так и доля в населении. Наконец, немецкая и еврейская диаспоры в некоторых случаях редуцировались (особенно в 1989-1995 годах) – их численность сокращалась как в относительном, так и в абсолютном выражении за счет эмиграции из России.
В качестве показателя «этнического самочувствия» общины в диаспоре можно использовать долю лиц данной национальности, считающих родным язык другой национальности. Смена языка – первый шаг к ассимиляции. Этот же показатель отражает ассимиляционную ориентацию – на одной и той же территории, бок о бок друг с другом, одна малая диаспора может тяготеть к одному доминирующему этносу, другая – к другому.
По данным переписи населения 1989 г. в Казахстане было 2 доминирующих диаспоры (русские и казахи) и 23 определяющих диаспоры. Из определяющих 6 диаспор (узбеки, уйгуры, турки, дунгане, таджики и курды) имели благополучные показатели этнического самочувствия (доля лиц, считающих родным язык другой национальности менее 10%), 10 диаспор (немцы, татары, корейцы, азербайджанцы, чеченцы, греки, башкиры, молдаване, ингуши, армяне) показывали опасный уровень от 10% до 50%, и для 7 диаспор (украинцы, белорусы, поляки, мордва, чуваши, евреи, удмурты) показатель «этнического самочувствия» был катастрофическим – свыше 50%. Доминирующие русские и казахи имели уровень вполне благополучного национального самочувствия.
Роль русской и казахской общин гораздо резче различалась при сравнении ассимсиляционной ориентации малых диаспор. Лишь 1,6% лиц, назвавших родным язык другой национальности, указывали казахский язык, а 96,5% - русский. Почти полная ассимиляционная ориентация малых общин на русскую в 1989 г. - специфика Казахстана. Во всех других республиках СССР в 1989 г. были заметные группы, ассимиляционно ориентированные на коренной этнос. Даже в Татарии, где башкирская диаспора имела опасный уровень этнического самочувствия, башкиры были в большей степени ассимиляционно ориентированы на татар, чем на русских. Ассимиляционная ориентированность не на коренной этнос, а на какую-то другую диаспору должна быть выделена особо и может быть названа параллельной диаспорой.
V
Какова перспектива этногенетических процессов в регионах Поволжского федерального округа? Как строить политику межнациональных отношений в сложившихся условиях?
Как уже говорилось, сегодняшнее наше состояние – многонациональная общность, и никакой «плавильный котёл» не изменит положения кардинально в ближайшие 300 лет. Миграции будут снова и снова воспроизводить положение взаимной диаспоризации. Если вдруг и удастся «переплавить» в единый этнос славянский, татаро-башкирский и финноугорский материал (за последние 400 лет этого не произошло), то всё-таки будут расти «новые» диаспоры – армян, азербайджанцев, таджиков, узбеков, а в перспективе – вьетнамцев и китайцев (интересно, что по данным переписи 2002 г. вьетнамская община раза в три превосходила китайскую во многих регионах поволжского округа, и ни в одном не была меньше).
Судьба диаспор на «принимающей территории», особенно если здесь сложилась ситуация с несколькими доминирующими диаспорами, радикально зависит от пассионарности общин. Если пассионарность одной из доминирующих общин (или группы диаспор, взаимно ассимиляционно ориентированных) резко доминирует, то малые диаспоры ждет ассимиляция. Если доминирующие диаспоры показывают равную и высокую пасионарность – их ждет территориальное размежевание. Но вполне возможна и такая ситуация, когда высокую пассионарность показывает «многонациональная общность» - система взаимно поддерживающих друг друга диаспор с низкой взаимной ассимиляцией. В этом случае национальная политика должна строиться по экстерриториальному принципу, например, на основе культурно-национальной автономии, предложенной О.Бауэром. Каждый этнос в пределах каждой административно-территориальной единицы (муниципального образования, региона, округа) составляет самоуправляемую общину, «корпорацию», имеющую с вой бюджет и за счёт своего бюджета строящую свою систему образования, культурной работы, библиотек и т.п. Распорядителем средств на социальную инфраструктуру должны быть национальные корпорации, а не центральное правительство и не государственные органы; даже не местное самоуправление. За государство остается только определение размеров финансирования и контроль за стандартами образования и социальной инфраструктуры.
Не было бы счастья, да несчастье помогло. В отличие от Западной Европы, национальные проблемы и конфликты в России порождаются не внешней иммиграцией, а «внутренней эмиграцией». Выстраивая систему социального элеватора для своих низших слоёв (в том числе, и с национальной окраской), Российское общество поневоле выстроит и систему инкорпорации в общество для новых мигрантов.
ЛИТЕРАТУРА
Всероссийская перепись населения 2002 года. Итоги переписи. Национальный состав населения. // is2002.ru/index.phpl?id=11
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. - М., 1990
Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. - Л., 1990
Гумилев Л.Н., Иванов К.П. Этнические процессы: Два подхода к изучению. // Социс, 1992, №1
Национальный состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. - М., 1991
Печерских Н.А. Диаспора и этногенез. // Серебряные горы, 1992, №1
