Иркутский государственный лингвистический университет
| Вид материала | Монография |
| Глава ii. особенности когнитивной категории 1. Уровни категоризации в синтаксисе 2. Концептуальная основа когнитивной категории в синтаксисе 3. Форматы знаний в синтаксисе |
- «Иркутский государственный лингвистический университет», 363.03kb.
- Педагогические науки, 198.02kb.
- Функционально-семантическая категория understanding в современном английском языке, 327.33kb.
- Остроумная коммуникативная личность в комическом дискурсе: гендерный аспект, 537.42kb.
- Репрезентация концепта drinking в современном английском языке, 429.63kb.
- Отглагольные имена в категоризации таксисной семантики предложения в английском языке, 341.23kb.
- Методологические особенности концепции активной грамматики льва владимировича щербы, 382.65kb.
- Ценностные смыслы repentance и forgiveness в английской языковой репрезентации, 436.17kb.
- Когнитивный механизм метафоризации цвета (на материале фразеологизмов с колоративами, 255.22kb.
- Концептуальные пространства маскулинности и фемининности (на материале фразеологизмов, 340.05kb.
В СИНТАКСИСЕ
Фурс Л.А.
В русле когнитивной парадигмы научного знания в фокусе исследовательских интересов находится когнитивная функция языка, рассмотрение которой сопряжено с выявлением различных способов структурирования знаний, их сохранения и передачи средствами языка. В этой связи категоризация как способ познавательной деятельности человека и формирования знаний предполагает, с одной стороны, владение структурами знаний и их характеристиками, а с другой, процесс отнесения различных объектов к той или иной категории, который получает репрезентацию в языке. Фактически, в актах познания мира человеком каждый раз осуществляется на основе механизмов сравнения отнесение воспринимаемых объектов к тому или иному классу (категории).
Что касается области синтаксиса, то здесь до определенного времени в основном описывались грамматические категории на основе грамматических значений языковых единиц. Мысль Р. Джекендоффа о том, что несмотря на сложность и тонкость отношений, наблюдаемых в синтаксисе, эта сфера не является хаотичной, в ней выделяются определенные принципы, организующие многочисленные факты в систему (Jackendoff 1995), является исключительно важной, так как подтверждает возможность когнитивного моделирования синтаксиса и соответственно выделения в этой области когнитивных категорий.
Важным в вопросе установления когнитивных категорий в синтаксисе является определение концептуальной основы этих категорий, а также выделение уровней категоризации. Данные направления позволяют наметить структуру исследования.
1. Уровни категоризации в синтаксисе
Для осмысления уровней категоризации в области синтаксиса следует отметить некоторые концепции, позволяющие раскрыть методологическую основу процессов категоризации. Во-первых, была доказана необходимость разграничивать весь словарный массив по характеру упорядоченных и неупорядоченных наборов семантических признаков в словарном толковании. Упорядоченный набор признаков называется «конфигурацией» и представлен глаголами, а неупорядоченный набор признаков обозначен в виде «пучка» и соотносится со словами других частей речи (Вейнрейх 1981). Во-вторых, был поставлен акцент на то, что в семантике лексических единиц языка нужно вычленять синтаксические признаки, которые спроецированы на структуру предложения. В целом, семантическое пространство языка было охарактеризовано как неоднородное, так как представлено словами с «референционным индексом» и словами, семантика которых содержит указания на «реляционные» компоненты (Бирвиш 1981). Данные положения получили дальнейшее развитие по различным направлениям исследовательских интересов. Так, в работах Ю.Д. Апресяна было намечено моделирование перехода от словарных толкований к глубинно-синтаксическим структурам (Апресян 1995). В его концепции семантические валентности слова определяются анализом обозначаемой им ситуации. Например, толкование лексического значения глагола «красить» соотносится со смыслом потенциального высказывания: «кто, что, чем (средство), во что (результат)», а значение глагола «резать» задает следующую глубинно-синтаксическую структуру высказывания: «кто, что, чем (инструмент), на что (результат)» (там же, с. 134).
Исходный семантический язык в сфере синтаксиса в виде системы «актантов» предлагается В.Г. Гаком (Гак 1998). Соотношение между структурой высказывания и структурой действительности В.Г. Гак показывает посредством моделирования системы реальных актантов и синтаксических актантов. Модель управления слова Ю.Д. Апресяна, как и «актантная» модель В.Г. Гака, имеет черты сходства с системой глубинных падежей Ч. Филлмора. Те содержательные проблемы в плане взаимоотношений семантики и синтаксиса, которые были выдвинуты в концепциях вышеназванных авторов, работающих в русле семантической теории языка, по значимости превзошли себя, так как первоначальной их целью было семантическое моделирование языка и разработка основных принципов семантической репрезентации. Фактически, была представлена попытка обращения к мыслительному уровню формирования смысла предложения и был поставлен вопрос о существовании глубинного уровня в семантике синтаксической конструкции, что, в конечном итоге, и стало началом для выработки критериев выявления грамматических и семантических обобщений. Данные обобщения служат основой для формирования когнитивных категорий в синтаксисе.
Когнитивная обработка знания, получаемого человеком из реального мира, будучи отраженной в знаках языка, свидетельствует о возможности представления знания целостно или в расчлененном виде. Глубокий смысл в этом отношении имеет высказывание Н.Н. Болдырева о том, что денотативная ситуация может быть репрезентирована как нерасчлененно, так и расчлененно. В нерасчлененном виде ситуацию репрезентирует глагол, являясь носителем обобщенных грамматических и семантических смыслов в проекции на пропозицию предложения, в расчлененном виде – структура предложения, актуализирующая категориальные значения глагола и пропозицию. Языковая репрезентация денотативной ситуации в расчлененном виде предполагает наличие общего семантического компонента, обусловливающего синтагматическое связывание слов в рамках структуры предложения (Болдырев 1995). Следовательно, соотнесенность логико-денотативных, лексико-семантических и лексико-синтаксических аспектов включается в семантику глагола в статичном виде и относится к уровню языковой системы как потенциальное значение, а реализация конструкцией этих аспектов в конкретном предложении-высказывании относится к уровню языкового функционирования как актуальное значение (подробнее о потенциальном и актуальном значении см.: Halliday 1976, 16). Поэтому не случайно в семиологической грамматике Ю.С. Степанова предлагается строить таксономию синтаксиса на основе более простой системы – таксономии предикатов (Степанов 1981, 4).
Признавая, что общее категориальное значение класса глаголов представляет собой максимально обобщенный смысл в проекции на денотативную ситуацию и семантическую структуру предложения (например, класс глаголов движения, действия и т.п.), следует допустить возможность различных вариантов актуализации этого общего категориального значения. Обусловлена эта возможность необходимостью реализации задач коммуникации. Данная мысль созвучна идее матричных глаголов, которой придерживаются Л. Талми и А. Голдберг при интерпретации типа денотативной ситуации, отражаемой структурой предложения. На основе матричных глаголов be, move, cause объясняются основное событие и сопутствующее событие, в совокупности формирующие семантический комплекс (Goldberg 1995, Talmy 2000). Например, концептуальная структура предложения The ball rolled down the hall выглядит так: the ball MOVED down the hall WITH-THE-MANNER-OF (the ball rolled). В этом случае концептуальная структура демонстрирует структурирование события как композита двух четко выделяемых типов движения: движение мяча вперед по прямой горизонтальной линии и движение как вращение мяча относительно определенной точки в пространстве, повторяющееся с определенной периодичностью. Первый тип движения формирует основное событие и репрезентируется матричным глаголом “move”, второй тип характеризует движение с точки зрения манеры передвижения, передается сопутствующим событием и схематично в структуре предложения обозначается смысловым блоком “with-the-manner-of”. Данные смысловые блоки инкорпорированы в глагольную семантику (Talmy 2000, 36). На наш взгляд, такой анализ подтверждает два важных допущения: во-первых, возможность делимости когнитивных структур на автономные смысловые компоненты; во-вторых, закрепление за матричными глаголами определенных когнитивных опор в интерпретации типовой ситуации и формировании будущей пропозиции.
Закрепление за глаголом функции формирования прообраза пропозиции представляется важным с точки зрения определения разных уровней категоризации в преломлении к синтаксису. В теории Э. Рош двумя центральными понятиями при категоризации являются прототип и объект базового уровня. Как указывает Е.С. Кубрякова, «поскольку каждый объект может быть охарактеризован по-разному, в зависимости от точки зрения на него, а также может получить несколько названий, эту особенность классификации можно трактовать как видение объекта то с позиций более «высокой» (абстрактной) категории, в которую он входит, то, напротив, с позиций той более «низкой» (конкретной) категории, члены которой ему подчинены» (Кубрякова 1997, 100). Выделение разных уровней категоризации представляется в виде базового, вышестоящего и нижестоящего уровня (Rosch 1973; Лакофф 1981, 2004; Кубрякова 1997, 2004; Болдырев 2000).
Вслед за Э. Рош, Дж. Лакофф разъясняет наибольшую психологическую значимость базового уровня в процессах категоризации на основании следующих отношений: 1) по линии восприятия отмечается единый ментальный образ, целостно воспринимаемый внешний вид и быстрая идентификация; 2) по линии функционирования присутствует общая двигательная программа; 3) по линии коммуникации это первый уровень, на котором слова входят в язык и осваиваются детьми в первую очередь; 4) по линии организации знаний отмечается, что именно на базовом уровне хранится в систематизированном виде бóльшая часть наших знаний (Лакофф 2004, 72).
Следует отметить, что на лексическом уровне выделение таких осей категоризации является вполне устоявшимся процессом и, как правило, сводится к определению родо-видовых отношений. Например, имена существительные «млекопитающее», «собака», «ищейка» согласно этой уровневой категоризации распределяются так: вышестоящий уровень – млекопитающее; базовый уровень – собака; нижестоящий уровень – ищейка. По мнению Дж. Лакоффа, в объектах базового уровня максимально сконцентрированы релевантные для человека свойства. В отличие от вышестоящего уровня они имеют зрительные прототипы. По сравнению с нижестоящим уровнем объекты базового уровня являются «психологически» базовыми, так как человек может и не знать всех разновидностей собак, но опора на зрительный прототип позволяет классифицировать объект по базовым характеристикам (Лакофф 1981, 357; 2004, 71-72).
В сфере синтаксиса отсутствует четкий подход к выделению объектов вышестоящего, базового и нижестоящего уровней. На наш взгляд, на основании того, что глагол своей семантикой и валентностной рамкой фиксирует в нерасчлененном виде пропозицию как мыслительный образ денотативной ситуации, он является носителем модели пропозиции, которая, в свою очередь, служит единицей вышестоящего уровня (абстрактной категории). Единицей нижестоящего уровня (конкретной категории) является конкретный тип предложения, актуализованная в речи конструкция. Объектом базового уровня в синтаксисе является конструкция, представляющая своей структурой пропозицию в виде позиций именных актантов и типа отношений между ними в абстрагированном виде. В поддержку этого положения приведем мнение сторонников пропозициональной формы репрезентации знаний. Будучи своеобразными ментальными структурами, отражающими типовую ситуацию и характер отношений ее участников, пропозиции организуют всю информацию, поступающую в память человека (Арутюнова 1976). Подход к пропозиции как особой оперативной структуре сознания или особой единице хранения знаний характерен для когнитивной лингвистики. В рамках этого подхода отмечается, что «слова могут взаимоассоциироваться лишь при условии, что соответствующие им понятия входят в закодированные в памяти пропозиции. С когнитивной точки зрения долговременная память человека представляет собой огромную сеть взаимопересекающихся пропозициональных деревьев, каждое из которых включает некоторый набор узлов памяти с многочисленными связями» (Панкрац 1992, 88-89). Фактически, расчленённое видение ситуации уже является актом пропозиционализации, в ходе которого устанавливаются реляционные отношения между выделенными объектами.
Продемонстрируем вышесказанное на следующем примере: He knocked the table three times (CODCE). На вышестоящем уровне категоризации события задействован глагол knock, который относится к классу глаголов действия. Своей семантикой данный глагол проецирует расчлененное видение ситуации: деятель – действие – объект воздействия. Единицей базового уровня категоризации выступает двухактантно-акциональная конструкция. Приведенный пример демонстрирует конкретный тип предложения как средство актуализации названной конструкции. Сирконстанты не проецируются семантикой глагола, но, указывая на различные характеристики действия, позволяют выразить их значимость для говорящего при описании ситуации. Таким образом, в процессах отражения денотативной ситуации средствами синтаксиса задействованы различные уровни категоризации. Единицей базового уровня выступает конструкция, передающая в расчлененном виде знание о ситуации.
Учитывая данные положения, необходимо подчеркнуть, что перед синтаксисом стоит сложная задача максимально эффективно репрезентировать знания об отношениях между объектами реального мира. В этой связи человек одновременно ориентируется на категории событий и на языковые категории средств репрезентации этих событий. При этом событие понимается как некоторое «положение дел», ситуация действительности (ЯБЭС 1998, 393).
Согласно Н.Н. Болдыреву, любая категория по способу формирования – это объединение объектов на основе общего концепта (Болдырев 2009, 28). Представляется поэтому возможным определить особенности когнитивных категорий в синтаксисе на основе описания концептов, которые служат основанием для объединения объектов в одну категорию.
2. Концептуальная основа когнитивной категории в синтаксисе
В лингвистике уже наметилась тенденция представлять язык глубинных структур предложения в виде идеальной семантической записи предложения (М. Бирвиш, Ю.Д. Апресян, Е.В. Падучева, О.Н. Селиверстова и др.), в терминах реляционных отношений падежных ролей (Ч. Филлмор, Ф. Палмер), в виде «субстантных обобщений», заслуживающих грамматикализации (А. Вежбицкая), в виде типовых пропозиций (Г.А. Волохина, З.Д. Попова). Следует отметить и значимость положений концептуальной семантики Р. Джекендоффа (Jackendoff 1991, 1996, 1997). В этой концепции не просто ставится вопрос о взаимодействии семантики и синтаксиса; этот вопрос переносится в другую, более глобальную плоскость – плоскость соотношения лексически и синтаксически репрезентируемых концептуальных структур. По мнению ученого, «концепты, репрезентируемые предложением, могут быть описаны на основе определенного набора ментальных примитивов и определенного набора принципов комбинирования этих примитивов. Вместе они составляют грамматику синтаксически репрезентируемых концептов (sentential concepts)» (Jackendoff 1991, 9; Jackendoff 1996, 23-24).
В этой связи важной представляется также мысль Р. Джекендоффа о том, что словарь обеспечивает говорящего системой понятий, а за синтаксисом закреплена система «конфигураций», которые организуют эти понятия в коммуницируемые формы (Jackendoff 1997). Если сопоставить синтаксическую структуру предложения John ran into the room и его концептуальную структуру в свете положений теории концептуальной семантики, то намечается корреляция между онтологическими категориями, частями речи и концептуальными характеристиками. Синтаксическая структура включает именную группу (John), глагольную группу (ran), предложную группу (into), вторую именную группу (the room). Концептуальная структура репрезентирует событие «движение» посредством сочленения следующих концептуальных признаков: объект (John), направление (to), местоположение (in), объект (room). В проекции на глубинную семантическую структуру предложения ситуация «движение» интерпретируется так: одушевленная сущность намеренно совершает перемещение своего тела в пространстве, контролируя результаты этого действия (см. подробнее: Jackendoff 1991). В словарном толковании глагола “run” вычленяются синтаксические признаки, позволяющие представить денотативную ситуацию в расчлененном виде посредством конструкции: “when you run, you move more quickly than when you walk, for example because you are in a hurry to get somewhere, or for exercise” (CCEDAL 2001, 1359). Согласно словарной статье определяется тип события, которое отражает семантика глагола, – движение. Движение квалифицируется как направленное (to get somewhere), при этом дается ссылка на манеру передвижения (more quickly than when you walk) и причину (in a hurry). Таким образом, онтологические категории демонстрируют членение объективного мира по направлениям, значимым для человека с точки зрения осознанного опыта (объект, движение, направление движения, конечная точка движения, манера передвижения). Части речи являются результатом языковой категоризации с точки зрения представления опыта человека в языке (за именем существительным закреплена категория объекта, за именем прилагательным и глаголом – категория признака объекта, за предлогами – вектор направления и т.п.). Фактически, исследователи в этих случаях обращаются к выделению обобщенных смысловых компонентов, подлежащих репрезентации синтаксическими средствами.
Однако методика вычленения обобщенных смысловых компонентов, репрезентируемых предложением, должна отвечать критериям объективности, что предполагает следующее:
1) данные смысловые компоненты должны носить унифицированный характер;
2) они должны быть максимально отвлеченными от семантики языковых единиц;
3) при их установлении должны учитываться показатели когнитивных систем человека (системы восприятия, памяти, механизмов мышления и т.п.);
4) обобщенные смысловые компоненты должны быть сориентированы как на неязыковые, так и на языковые знания.
В этой связи важным моментом при выявлении такого рода обобщений является определение ряда организующих принципов, создающих основу для названных выше критериев объективности. Одним из таких принципов является прием редукционизма. По поводу редукционизма как методологического принципа, создающего основу для концептуальной унификации, одобрительно высказался Р. Лэнекер. Редукционизм, по его мнению, не должен быть сведен к набору грамматических примитивов. Напротив, атомарные смысловые компоненты выводятся на основе механизмов категоризации и схематизации. Аналогичная операция имеет место при описании состава воды в виде конфигурации атомов водорода и кислорода. Представление данной сущности в таком виде не означает, что ее свойства, относящиеся к более высокому уровню (такие как влажность, способность к изменению состояния и химические свойства), перестают существовать. Знание атомарного состава воды помогает эксплицировать эти свойства (Langacker 1999, 25).
Значимым является и принцип концептуальной унификации. Будучи системообразующим принципом, концептуальная унификация опирается на процедуру выделения ядерных грамматических отношений и их прототипических признаков. На этой основе впоследствии вычленяются базовые концептуальные характеристики.
Другим организующим принципом является опора на прототип как такой когнитивный прием, который дает возможность интерпретировать бесконечное множество стимулов. Опора на прототип в концептуальном анализе позволяет выработать гибкую систему концептуальных признаков, структурирующих концептуальное пространство синтаксиса, и создать основу для вычленения в нем когнитивных категорий.
В этом направлении значимыми являются следующие достижения. Обоснованы универсальный характер и ведущая роль субъектно-предикатно-объектных отношений в формировании смыслового ядра предложения-высказывания (Кацнельсон 1972, 193; Лакофф 1981, 357; Данеш 1988, 80; Гак 1998, 267; Fillmore 1977, 65; Palmer 1977, 151; Palmer 1994, 8-9), разработаны критерии базисных структур (Алисова 1971; Ковалева 1985; 2008) и определено, что тип конструкции (переходная или непереходная) идентифицируется на основе таких базовых в функциональном отношении ролей, как агенс и пациенс, что дает основания признавать данные роли прототипическими. Предложения с агенсом-субъектом и пациенсом-объектом в прототипичном использовании должны разделять, по мнению Дж. Лакоффа, следующий набор свойств:
существует агенс, который делает нечто;
- существует пациенс, который претерпевает переход к новому состоянию;
- изменение пациенса является результатом действия агенса;
- действие агенса является намеренным;
- агенс управляет своим действием;
- агенс несет основную ответственность за то, что происходит (свое действие и результирующее изменение);
- агенс является «источником энергии» действия, пациенс – объектом (целью) этих «энергетических затрат» (то есть агенс направляет свою энергию на пациенса);
- это единое событие; существует пространственное и временное пересечение между действием агенса и изменением пациенса;
- существует один определенный агенс;
- существует один определенный пациенс;
- агенс использует свою руку, свое тело или какой-то инструмент;
- изменение пациенса наблюдаемо;
- агенс смотрит на пациенса и наблюдает это изменение (Лакофф 1981, 357-358).
В данной характеристике прототипических субъектно-предикатно-объектных отношений вычленяются следующие базовые смысловые компоненты, которые имеют первостепенное значение для говорящего при осмыслении действительности: ориентированность на действие, ориентированность на деятеля, ориентированность на объект воздействия, ориентированность на свойство объекта, ориентированность на состояние объекта, ориентированность на результат воздействия, ориентированность на инструмент воздействия. Из свойства унитарности события логически выводимыми являются такие смысловые параметры, как ориентированность на существование объекта, ориентированность на временные характеристики, ориентированность на пространственные характеристики.
Ввиду того, что унитарность события предполагает дополнительно отмеченные смысловые блоки, они часто предстают невербализованными в структуре предложения. В тех случаях, когда фокус внимания говорящего при категоризации действительности смещается на данные параметры, это проявляется и на языковом уровне посредством выбора наиболее оптимальных для передачи этого смысла конструктивных возможностей синтаксиса.
Все выделенные обобщенные компоненты смысла не сводимы к индивидуальным значениям лексических единиц, более того, они отражают необходимый уровень абстракции для отнесения их к глубинному уровню, являются далее нечленимыми и позволяют охватить анализом все ступени многоаспектной структуры предложения. Эти смысловые компоненты представляют собственно мыслительный аспект семантического содержания синтаксиса и являются поэтому базовыми в представлении структуры синтаксически репрезентируемых концептов.
Принимая во внимание существующие подходы к объяснению природы концепта, мы понимаем под синтаксически репрезентируемым концептом некоторый понятийный субстрат (максимально абстрагированные компоненты смысла), концентрирующий в структурированном виде знания о мире и о языке и сориентированный на репрезентацию этих знаний синтаксическими средствами (в пропозициональной форме). Благодаря своим абстрагированным характеристикам, синтаксически репрезентируемый концепт опосредует связь между экстралингвистическими сущностями, демонстрирующими различные типы взаимоотношений, и лексическими единицами, которые интегрируются в структуру предложения. Одновременная обращенность синтаксически репрезентируемого концепта к миру реалий и миру языка объясняет его основополагающую роль в речемыслительной деятельности. Следует отметить, что концептуальная картина мира, которой владеет человек как разумное существо, формируется на протяжении всей жизни. В своей познавательной деятельности человек категоризует реалии объективного мира на основе концептов, которые представляют собой идеальные, абстрактные единицы, своего рода опоры в познании и мышлении. Упорядочение всей поступающей извне информации на основе концептов является важным моментом в осознании общих принципов человеческой когниции. Синтаксически репрезентируемые концепты обеспечивают умение человека ориентироваться в мире событий, создавая базу для категоризации отношений, в которые вступают различные объекты действительности.
Первостепенным по важности в моделировании синтаксически репрезентируемого концепта является прием когнитивной доминанты, который позволяет учесть креативность человеческого мышления и динамический характер речемыслительных процессов. Данный прием согласуется с принципами когнитивной семантики как теории значения, в которой ведущая роль в формировании значения языкового знака отводится антропоцентрическому фактору. Данный фактор предполагает учет параметров когнитивных систем человека – создателя конкретного предложения-высказывания. Среди них особо отметим функционирование системы восприятия и значимость интенций как определенных волевых актов говорящего субъекта. Так, на уровне восприятия первичная обработка информации, поступающей из внешнего мира, осуществляется согласно мобильным и статичным характеристикам объектов (по типу «фигура – фон») (см. подробнее: Talmy 2000, 2000a). Фигура характеризуется мобильностью во времени и пространстве, фон ассоциируется со статичностью.
Что касается интенциональных параметров, то в этом случае демонстрируется способность человека как разумного существа членить поступающую информацию на значимую и незначимую с точки зрения задач коммуникации. Язык же, с одной стороны, функционируя как знаковая система, обеспечивает объективацию любых структур знания; с другой стороны, функционируя как когнитивная система, призван репрезентировать и способ структурирования этого знания. Иными словами, интенции говорящего, так же как и результаты осмысления информации на уровне восприятия, получают репрезентацию посредством выбора слов и синтаксических конструкций.
Важно подчеркнуть в этой связи, что если система восприятия обеспечивает естественное доминирование мобильных объектов над статичными, то благодаря приему когнитивной доминанты статус доминирующей сущности удается закрепить и за статичным объектом вопреки естественному ходу событий. Таким образом, на основе механизма когнитивной доминанты удается интерпретировать любое событие реального мира в любом ракурсе. Принцип действия механизма когнитивной доминанты заключается в том, что говорящий, ориентируясь на задачи коммуникации, должен передать различные стороны объективной ситуации. Выше нами уже были установлены базовые смысловые компоненты, которые имеют первостепенное значение для говорящего при осмыслении действительности. Они являются базовыми концептуальными характеристиками, которыми оперирует мышление человека, и представляют собой фоновую структуру ментального уровня, являясь своего рода хранилищем знаний, уже обработанных мышлением человека. Когнитивно доминирующая структура включает только те блоки знания, которые значимы на данный момент. Активизация определенной структуры знания посредством приема когнитивной доминанты позволяет оперативно выводить из памяти человека тот или иной концепт с последующей его вербализацией. Так, следующий пример демонстрирует включение в когнитивную доминанту говорящего характеристик «ориентированность на деятеля», «ориентированность на действие», «ориентированность на объект воздействия», «ориентированность на результат воздействия» и «ориентированность на инструмент воздействия», при этом активизируется концепт «акциональность»:
He cut the cheese into pieces with a sharp knife.
Доминирование характеристик деятеля как источника энергии и действия детерминирует активизацию концепта «процессуальность»:
The knife cut the cheese easily.
Если когнитивно значимой является характеристика «ориентированность на свойство объекта», то актуализируется концепт «свойство»:
The cheese cuts easily.
В следующем примере доминирующей является характеристика «ориентированность на результативное состояние»:
The cheese was cut into pieces.
Введение в когнитивную доминанту характеристик деятеля-каузатора, действия-каузации, объекта воздействия и результата воздействия приводит к актуализации концепта «каузативность»:
He made me cut the cheese into pieces.
Таким образом, на основе когнитивной доминанты раскрывается процесс моделирования структуры синтаксически репрезентируемого концепта и, в целом, возможности его концептуального варьирования. Не менее важной является задача определения типов знаний, репрезентируемых посредством синтаксиса.
3. Форматы знаний в синтаксисе
Комплексный характер закрепленных за синтаксисом знаний требует четкого форматирования этих знаний для того, чтобы говорящий мог эффективно оперировать ими в ситуациях постоянного настраивания на цели коммуникации.
С учётом рассмотренных выше положений представляется возможным вычленить несколько форматов знаний в синтаксисе: конфигурационный формат, актуализационный (интерпретационный) формат и формат смешанного типа – конфигурационно-актуализационный.
Конфигурационный формат репрезентирует статический аспект языковой системы, организуя знания по построению целостной структуры предложения в удобные для оперативной памяти человека схемы связывания слов. Данный формат осуществляет своего рода механизм контроля за соответствием вновь создаваемой синтаксической структуры действующим нормам. Конфигурационный формат представляет собственно языковое знание о способах синтаксической организации мыслей в самом обобщенном виде – в виде глагольно-актантной структуры, возможности которой дифференцируются по двум направлениям – по линии переходной и непереходной конфигурации. Глагольно-актантная структура как формальный план конфигурации соотносится с ее содержательными аспектами, которые в самом общем виде представлены как «автономное действие» (действие относительно источника энергии, но безотносительно к другим сущностям) и «направленное действие» (действие, характеризующее источник энергии относительно другой сущности).
Возможность выявления устойчивых схем отношений приводит к четкому структурированию данной сферы, обеспечивая говорящих набором определенных когнитивных опор, отклонение от которых вызвало бы непонимание коммуникантов.
В отличие от конфигурационного формата актуализационный формат демонстрирует динамический аспект языка. В данном формате репрезентируется знание о возможных вариантах реализации переходной или непереходной конфигурации, иными словами, репрезентируется прообраз денотативной ситуации в преломлении к конструкции как единице речи. Характерно, что в формате одной и той же конфигурации оформляются различные типы конструкций. Например, знание, репрезентируемое переходной конфигурацией, представляет результат осмысления денотативной ситуации с двумя участниками. Знание, репрезентируемое конкретным типом конструкции, в частности, акционально-двухактантной конструкцией, является фактом осмысления характера отношений между участниками объективной ситуации. Помимо того, что в фокусе внимания находятся два участника ситуации, важным является тип квалифицируемых отношений – акциональный. Заполнение позиций в конструкции конкретной лексикой приводит к формированию смысла предложения, соотносимого с денотативной ситуацией. Пропозиция как смысловой инвариант конкретизируется в зависимости от типа акциональности (например, «А перемещает В» или «А разрушает В» и т.п.). Таким образом, в зависимости от коммуникативного фокуса интерпретация денотативной ситуации получает вербализацию посредством той или иной конструкции, актуализирующей определенную конфигурацию, предназначенную для грамматикализации любых отношений в соответствии с нормами языка. Для сферы актуализационного формата поэтому свойственно доминирование содержания, а не формы. Следует подчеркнуть, что конструкция имеет статус речевой единицы. Языковой код в любом случае оперирует одной из двух конфигураций – переходной или непереходной. Таким образом, человек в ходе речемыслительной деятельности постоянно ориентируется как на языковую, так и речевую проекцию, что можно представить в виде следующей схемы:
языковая проекция
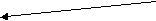
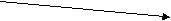
переходная непереходная
конфигурация конфигурация



глагольно- глагольно- глагольно-
двухактантная трехактантная одноактантная
конструкция конструкция конструкция



речевая проекция
В зависимости от типа отношений между участниками денотативной ситуации категориальное значение конструкции варьируется. Существуют следующие возможности для варьирования:
 акционально-актантная
акционально-актантная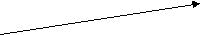

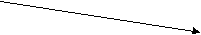
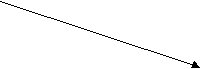
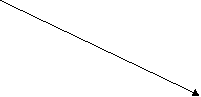 каузативно-актантная
каузативно-актантная глагольно-актантная процессуально-актантная
 квалитативно-актантная
квалитативно-актантнаярелятивно-актантная
статально-актантная
Более того, для актуализационного формата важное значение имеет возможность употребления конфигурации как в первичной, так и во вторичной функции.
Разграничение первичных и вторичных функций единиц в сфере синтаксиса базируется на следующих критериях:
1) наличие ментально-образного прототипа события;
2) соблюдение принципа конгруэнтности;
3) однородность отношений по линии категориальных оснований;
4) независимость синтаксической структуры от дискурса.
В том случае, если синтаксическая единица не маркирована данными характеристиками, она реализует свои вторичные функции. Сравним следующие предложения: (1) He runs regularly; (2) He drives regularly. Когнитивная структура (1) отражает мыслительный образ ситуации «замкнутость действия в сфере субъекта-агенса» и активизирует понятийные признаки «ориентированность на деятеля» и «ориентированность на действие». В случае (2) синтаксический объект опущен в поверхностной структуре, но имплицируется в когнитивной структуре. Семантика глагола указывает на направленность действия на объект, который подразумевается значением самого глагола и может быть легко восстановлен в структуре предложения, так как это, как правило, типичный для данного глагола объект: He drives regularly He drives this car regularly. В данном случае первостепенное значение имеет фокусирование внимания на генерализованном характере действия субъекта. На глубинном уровне актуализируются понятийные компоненты «ориентированность на деятеля», «ориентированность на действие» и «ориентированность на объект». Несмотря на тождественность синтаксической структуры реализуются разные смысловые линии. В примере (1) онтология события представлена в виде мыслительного образа «замкнутость действия в сфере субъекта-агенса», а в примере (2) – в виде схемы логически организованных отношений «направленность действия субъекта-агенса на объект-пациенс». Как уже было отмечено, объект опускается в синтаксической структуре под влиянием интенциональных факторов, что позволяет говорящему реализовать другую смысловую линию.
Все многообразие конструкций систематизируется на концептуальной основе в зависимости от реализуемых концептуальных характеристик. Конструкции как средства репрезентации того или иного концепта формируют категорию, которая обнаруживает прототипический принцип организации с выделением центральных и периферийных элементов. Критериями отнесения конструкции к ядру или периферии категории средств вербализации концепта являются степень распространенности ее структуры и прототипичность синтаксического субъекта и объекта. Более того, в рамках каждого конструктивного типа вычленяются структурно-семантические варианты, которые объединяются в категорию определенного типа конструкций на основе тех же критериев. Прототипом признается элемент категории, репрезентирующий содержательные характеристики концепта в полном объеме и только в прототипическом виде.
Концепт «акциональность» (активизируемые концептуальные характеристики: «ориентированность на деятеля», «ориентированность на действие», «ориентированность на объект воздействия», «ориентированность на инструмент воздействия», «ориентированность на результат воздействия», а также факультативные – «ориентированность на временные характеристики» и «ориентированность на пространственные характеристики») передает знание о намеренном и контролируемом действии, автономно осуществляемом источником энергии или направленном от источника энергии к другому объекту, в ходе которого отмечается результат воздействия. В категории средств репрезентации концепта в качестве прототипа определены акционально-трехактантно-сирконстантная конструкция: Twenty minutes later I gave him the last chocolate (R. Specht); акционально-трехактантная конструкция: She dried her eyes with the cloth (B. Parker); акционально-двухактантно-сирконстантная конструкция: He shook my hand warmly (R. Specht). Данные конструкции репрезентируют прототипические характеристики субъекта, который является инициатором намеренного и контролируемого действия, и прототипические характеристики объекта, которые заключаются в его референтном характере, предполагающем его полную вовлеченность в действие и высокую степень индивидуализации. Распространенность конструкций приводит к включению в их структуру позиций, которые способствуют усилению акциональных характеристик осмысляемой ситуации. К прототипу категории акциональных конструкций относится также акционально-одноактантно-сирконстантная конструкция: I walked through the house to the kitchen (J. Marsden); и акционально-одноактантная конструкция: Anne sighed (L.M. Montgomery). Эти конструкции репрезентируют другой формат знания (концепт «автономное действие») и свидетельствуют о возможности передать знание об акциональном осмыслении ситуации минимальными затратами, что согласуется с понятием объекта базового уровня при категоризации. С учетом этого факта степень распространенности конструкции в данном случае не является значимой. К ближней периферии категории отнесена акционально-двухактантная конструкция на основании того, что характеристика «ориентированность на результат воздействия» не представлена в этом случае отдельной позицией, а вычленяется на основе семантики глагола и морфологических показателей: Anne tossed her red braids (L.M. Montgomery). К ближней периферии категории относится и рефлексивная конструкция: Rebekah fanned herself with her hand (R. Specht) на основании кореферентности объекта и субъекта, а также реципрокная конструкция: They taught each other at times (R. Specht), демонстрирующая непрототипические характеристики субъекта и объекта, которые, участвуя во взаимнонаправленном действии, также характеризуются кореферентностью. За ближней периферией категории акциональных конструкций закреплена и результативная конструкция: (а) They planted the area with grass and trees (CCEDAL) → (б) They planted grass and trees in the area. В случае (а) в полном объеме осмысляется характеристика «ориентированность на результат воздействия», что нельзя отметить в примере (б). Обусловленность реализации данной характеристики порядком следования постглагольных актантов дает основание отнести эту конструкцию к периферийным элементам категории. К дальней периферии отнесена пассивная конструкция: Now I’m being besieged by junior executives (T. Wilson). Позиция синтаксического субъекта указывает на роль пациенса, а роль агенса выносится в менее приоритетную позицию, что свидетельствует о ее меньшей когнитивной значимости для дискурса. На этом основании конструкция замыкает периферию категории.
Концепт «каузативность» (активизируемые концептуальные характеристики: «ориентированность на деятеля-каузатора», «ориентированность на действие», «ориентированность на объект воздействия», «ориентированность на результат воздействия») передает знание о воздействии, оказываемом на объект с целью изменения его состояния или принуждения его к самостоятельному действию. Данный концепт также репрезентируется многообразием средств, которые организуются в категорию каузативности на основе выявления прототипа и периферии категории. Критерием определения прототипа категории каузативных конструкций является интеграция в структуру конструкции собственно каузатива или грамматического каузатива, что способствует однозначному осмыслению результативного характера каузации. В случае с лексическими каузативами критериями реализации результативности каузации выступают: количественная характеристика действия, включение в конструкцию позиции для роли комитатива, а также позиции для роли инструмента, указание на результативное состояние и грамматические актуализаторы (формы перфекта и прогрессива). Учитывается также степень прототипичности каузатора и объекта каузации. К прототипу отнесены каузативно-трехактантная конструкция, репрезентирующая семантическую модель «каузатор побуждает объект к действию»: I made them work harder (R. Specht); каузативно-двухактантно-сирконстантная конструкция, репрезентирующая семантические модели «каузатор побуждает объект к перемещению»: I headed Blossom (the horse) over to it (R. Specht) и «каузатор побуждает объект к изменению состояния»: They nearly scared us to death (L.M. Montgomery), а также каузативно-двухактантная конструкция, демонстрирующая модель «каузатор побуждает объект к изменению состояния», при условии, что каузатор является одушевленным: You’re scaring me (CCEDAL). К периферии категории средств, объективирующих концепт «каузативность», отнесены каузативно-двухактантно-сирконстантная конструкция, репрезентирующая модель «на объект воздействуют с целью изменения состояния в интересах бенефицианта»: I had your rooms cleaned and aired (CCEDAL), каузативно-двухактантная конструкция, представляющая семантическую модель «каузатор побуждает объект к изменению состояния» при условии, что каузатор является неодушевленным: Voices woke him up (B. Parker), или в случае с имплицированным объектом каузации: Thirty milliroentgens per hour might cause sickness (T. Wilson). К периферии относится и каузативно-одноактантно-сирконстантная конструкция, репрезентирующая модель «объект изменяется под воздействием каузирующих обстоятельств»: Scott got a little confused (B. Parker). За переходной зоной от акциональности к каузативности закреплена каузативно-трехактантная конструкция, репрезентирующая модель «каузатор побуждает (вербально) объект к действию»: He ordered the women out of the car (CCEDAL).
Концепт «процессуальность» (активизируемые концептуальные характеристики: «ориентированность на источник энергии», «ориентированность на неконтролируемое действие») передает знание об участии объекта в неконтролируемом им процессе. Коммуникативная обусловленность такой структуры знания объясняется тем, что ситуация расчленяется на составляющие ее элементы, часть из которых попадает в фокус внимания говорящего, а другие элементы в силу своей незначимости для дискурса устраняются. В частности, если значимость для говорящего приобретает объект каузации и результат каузации, то объект выводится в позицию темы, а результат каузации представляется как автономный акт. Реальный инициатор действия – каузатор – не находит выражения в синтаксической структуре предложения. Из-за этого нарушается конгруэнтность онтологического и интенционального уровней предложения, что провоцирует рассогласование семантических и синтаксических отношений. Устранение семы каузации не исключает полностью каузативного смысла, этот смысл лишь видоизменяется. Процессуальное осмысление действительности также имеет место и с природными явлениями, и с различными физиологическими процессами человека. В категории средств, репрезентирующих процессуальность, прототипом избирается структурно-семантический тип процессуально-одноактантно-сирконстантной конструкции, указывающий на позицию каузатора процесса, так как позиция каузатора служит оператором выравнивания содержательных отношений по линии уровневой симметрии предложения: The balloons danced in the light breeze (B. Parker). Другие структурно-семантические типы процессуально-одноактантно-сирконстантной конструкции, а также процессуально-двухактантная конструкция: An idea hit me (R. Specht) и процессуально-одноактантная конструкция: The front door had opened (R. Osborne) относятся к периферии категории. Процессуально-одноактантно-сирконстантные конструкции, демонстрирующие метафорические процессы при осмыслении ситуаций изменения состояния, занимают переходную зону от процессуальности к статальности: A wave of fear washed through her body (R. Osborne).
Концепт «свойство» (активизируемая концептуальная характеристика: «ориентированность на свойство объекта») передает знание об особых качествах объекта, которые обнаруживаются в его действиях однотипного и регулярного характера. Репрезентация концепта «свойство» осуществляется прототипически посредством квалитативно-двухактантно-сирконстантной конструкции: You drink tea periodically (T. Wilson), квалитативно-одноактантно-сирконстантной конструкции: She dresses beautifully (L.M. Montgomery), медиальной конструкции: A methodical approach works best (CCEDAL) и копулятивной конструкции: I am not politically correct enough (J. Marsden). Квалитативно-двухактантная конструкция: You don’t smoke cigarettes (T. Wilson) и абсолютивная конструкция: He also writes regularly for “International Management” magazine (CCEDAL) определяются в качестве периферийных членов данной категории. Удаление от прототипа в случае с квалитативно-двухактантной конструкцией объясняется тем, что осмысление квалитативных характеристик субъекта базируется только на морфологических показателях и не подкрепляется позицией обстоятельства образа действия в структуре конструкции. Абсолютивная конструкция отклоняется от прототипа на основании нарушения отношений конгруэнтности между семантическим и синтаксическим уровнем предложения, так как демонстрируемая этой конструкцией непереходность является функционально вторичной. Опускаемый синтаксический объект легко восстанавливается на основе контекста.
Концепт «релятивность» (активизируемая концептуальная характеристика: «ориентированность на релятивное свойство») передает знание о признаках объектов, обнаруживаемых в их сопоставлении относительно друг друга. Прототипическим средством репрезентации концепта «релятивность» является посессивно-трехактантная конструкция: I have my microphone with me (CCEDAL), посессивно-двухактантно-сирконстантная конструкция: We had the whitest kitchen in the Southern Hemisphere (J. Marsden) и релятивно-двухактантно-сирконстантная конструкция: Johnson’s easy charm contrasted sharply with the prickliness of his boss (CCEDAL). К периферии средств относятся посессивно-двухактантная конструкция: You have beautiful eyes (CCEDAL) и релятивно-двухактантная конструкция: The best tender had won the contract (J. Marsden). Отнесение этих конструкций к периферии категории объясняется тем, что значение релятивности передается за счет семантики глагола. Конструкции не открывают дополнительных позиций для усиления данного значения. Случаи переходности в сфере посессивно-двухактантно-сирконстантных конструкций устанавливаются на основе характеристик второго актанта. Если он представлен объектом событийной семантики, то конструкция в таком лексико-грамматическом оформлении располагается на стыке категорий акциональности и релятивности: She had a fearful headache all day yesterday (L.M. Montgomery). Тест на верификацию значения акциональности показывает следующее: She had a fearful headache all day yesterday → She was having a fearful headache at that moment; но: She has blue eyes → *She is having blue eyes.
Концепт «состояние» (активизируемая концептуальная характеристика: «ориентированность на состояние объекта») передает знание о существовании объекта и его вовлеченности в эмоциональную, перцептивную, ментальную, волитивную деятельность, которая характеризуется способностью длиться во времени. В категории средств, вербализующих концепт «состояние», в качестве прототипа признается бытийно-одноактантно-сирконстантная конструкция: A jacket lay halfway on the floor (B. Parker) и статально-двухактантно-сирконстантная конструкция: I love this little room so dearly (L.M. Montgomery). В данных конструкциях позиции сирконстантов позволяют конкретизировать оттенки различных состояний и усилить степень вовлеченности субъекта-экспериенцера в то или иное состояние. Приближены к прототипу статально-двухактантная конструкция: I love writing compositions (L.M. Montgomery), статально-реципрокная конструкция: We love each other (CCEDAL), статально-одноактантная конструкция: His entire body ached (B. Parker), пассивная конструкция, репрезентирующая семантическую модель «экспериенцер испытывает состояние из-за объекта»: I’m sort of fascinated by him (J. Marsden) и семантическую модель «объект демонстрирует результативное состояние»: That money was worked for hard (A. Christie). К периферии относится копулятивная конструкция: He’s gentle with me (J. Marsden) и безличная конструкция, позволяющая акцентировать состояние востребованности человеком определенных факторов для достижения результативности действия: It took her a long time to make friends around here (R. Specht). Синтаксический субъект в этом случае демонстрирует непрототипический характер.
Наличие различных переходных случаев подтверждает континуальный характер концептуального пространства, представленного концептами актуализационного формата. Нежесткость границ этого пространства подчеркивается наличием многочисленных переходных зон. Так, переходная зона от динамичности к статичности объединяет такие семантически релевантные фокусы концептов каузативности и процессуальности, как ненамеренная каузация, неконтролируемые действия и физиологические процессы, самостийные процессы и явления изменения состояния. Переход от акциональности к свойству посредством морфологических актуализаторов (форма настоящего неактуального) демонстрирует возможность пересечения когнитивных характеристик динамичности и статичности мира, подтверждая этим гибкость и оперативность человеческого мышления.
С другой стороны, это положение демонстрирует также, что синтаксически репрезентируемые концепты детерминируют ту или иную конструктивную схему, обусловливая «вхождение» лексических единиц в структуру предложения. Это доказывает факт востребованности лексики во взаимосвязи её с конструкцией и вербализуемыми ею концептами. В этой связи утверждается, что содержательное варьирование конструктивных типов предложений не является произвольным процессом, а управляется типом концепта. Тот или иной набор концептуальных характеристик, включаемых в когнитивную доминанту говорящего, представляет своего рода алгоритм речевого моделирования, указывающий на компоненты смысла, которые передаются в коммуникации типом конструкции.
В рамках конфигурационно-актуализационного формата интерпретация ситуации осуществляется говорящим в субъективном (в том числе и эмоционально-оценочном) ракурсе. В этом формате не доминируют базовые концептуальные характеристики. Фокус когнитивной доминанты смещается на факультативные (небазовые) характеристики. Для их вербализации в языке востребованными оказываются альтернативные конфигурации. Отмечаемая здесь корреляция «одна конфигурация – одна конструкция» свидетельствует о симметрии отношений при переходе от языка к речи (сравним с асимметрией отношений в рамках актуализационного формата: «одна конфигурация – много конструкций»). Доминирование формы, а не лексико-грамматического наполнения приводит к отсутствию градуации содержательных характеристик конструкции по линии определения прототипа и периферии ее категории. Отсутствуют и явления переходного характера в этой сфере. С учетом этих фактов пространство конфигурационно-актуализационного формата квалифицируется как однородное. В рамках конфигурационно-актуализационного формата репрезентация знаний охватывает как осмысление формализованных схем связывания слов в рамках конструкции, так и их речевую актуализацию. Вычленяемое структурированное знание в этом случае определяется концептами «наличие», «безличность», «инверсив», «верификатив» и «экспрессив».
Концепт «наличие» (активизируемая концептуальная характеристика: «ориентированность на существование объекта») передает знание о существовании объекта в отвлечении от других его характеристик. Экзистенциальная конструкция является средством его репрезентации: There is a house on the corner (CODCE); There existed an inborn instinct of aggression (CCEDAL).
Концепт «безличность» (активизируемая концептуальная характеристика: «ориентированность на неконтролируемое действие» или «ориентированность на свойство») передает знание о процессе или действии, абстрагированном от деятеля, и свойстве, абстрагированном от его носителя. Репрезентируется концепт безличной конструкцией: It is raining hard (CODCE); It was pretty dark out there (B. Parker).
Концепт «инверсив» (активизируемые концептуальные характеристики: «ориентированность на временные характеристики» и «ориентированность на пространственные характеристики») передает знание о тех обстоятельствах происходящего, которые являются когнитивно выделенными для говорящего. Вербализуется этот концепт инвертированной конструкцией: Then came the sound of a key turning in the lock (R. Osborne); To bed went Matthew (L.M. Montgomery). В процессе репрезентации пространственных характеристик значимыми для говорящего являются смысловые компоненты «вверх – вниз», «близко – далеко», «внутри – снаружи», «налево – направо», «спереди – сзади», а также локализация по типу «контейнера», относительно траектории, ее конечной и начальной точки. Отмечаются также единичные случаи инверсии позиции определения, указывающего на качественные характеристики объекта: Very green and neat and precise was that yard (L.M. Montgomery). В таком случае активизируется характеристика «ориентированность на свойство объекта». Механизм когнитивной доминанты позволяет изменить статус выделенных характеристик. Показатель дополнительности меняется на показатель базовости посредством активизации концепта «инверсив». Изначально базовые концептуальные характеристики «ориентированность на деятеля», «ориентированность на действие» и т.п., будучи выведенными из фокуса внимания говорящего, отодвигаются на второй план и теряют свой первоначальный статус базовости.
Концепт «верификатив» передает знание о ситуации в верифицируемой форме (в виде уточнения, детализации, отрицания и т.п.). Любой признак, объективируемый конструкцией, может быть верифицирован, поэтому в данном случае не указываются концептуальные характеристики. Вербализуется этот концепт эллиптической конструкцией. Уточнение деталей существующего положения дел осмысляется посредством этой конструкции так: “Why aren’t you down at the game? I thought this was the day of the big game”. – “It is. I was” (J.D. Salinger).
Концепт «экспрессив» передает эмоциональное отношение говорящего к факту действительности. Вербализация концепта осуществляется эмоционально-экспрессивной конструкцией: What a glorious drive it was! (M. Brand); If only I were young again! (I. Murdoch); As if I cared! (E. Glasgow).
Базовые концептуальные характеристики не доминируют в структуре этих концептов. В фокусе внимания находятся субъективные смыслы говорящего как наблюдателя ситуации. Это приводит к тому, что наряду с репрезентацией базовых концептуальных характеристик вербализуются показатели оценочной деятельности говорящего.
Таким образом, выделение трех форматов знания в сфере синтаксиса соотносится с организацией языкового и неязыкового знаний в процессах конструирования мира, а также позволяет учесть как системно-языковые, так и динамические аспекты синтаксических единиц. При восприятии и осмыслении денотативной ситуации осуществляется ее категоризация и проектирование на систему языка. Содержательное варьирование конструктивных типов предложений не является произвольным процессом, а управляется типом концепта. Тот или иной набор концептуальных характеристик, включаемых в когнитивную доминанту говорящего, представляет своего рода алгоритм конструирования определенного «положения дел» посредством синтаксиса. На этой основе выделяются категории событий («положения дел»), репрезентируемые различными конструкциями. Различные конструкции объединяются в категории средств репрезентации того или иного концепта. В результате достигается когнитивное моделирование сферы синтаксиса.
Литература
- Алисова Т.Б. Очерки синтаксиса современного итальянского языка (семантическая и грамматическая структура простого предложения). – М.: Изд-во МГУ, 1971.
- Апресян Ю.Д. Избранные труды, том 1. Лексическая семантика. – М.: Школа «Языки русской культуры», Издат. фирма «Восточная лит-ра» РАН, 1995.
- Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы. – М.: Наука, 1976.
- Бирвиш М. Семантика // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 10. – М.: Прогресс, 1981. – С. 177-199.
- Болдырев Н.Н. Функциональная категоризация английского глагола. – СПб. – Тамбов: РГПУ/ТГУ, 1995.
- Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии. – Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та, 2000.
- Болдырев Н.Н. Концептуальная основа языка // Когнитивные исследования. Вып. IV. Концептуализация мира в языке. – М. – Тамбов, 2009. – С. 25-77.
- Вейнрейх У. Опыт семантической теории // Новое в зарубежной лингвистике. Вып 10. Лингвистическая семантика. – М.: Прогресс, 1981. – С.50-176.
- Гак В.Г. Языковые преобразования. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1998.
- Данеш Ф. Многомерная классификация грамматических членов предложения // Язык: система и функционирование. – М.: Наука, 1988. – С . 78-87.
- Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. – Л.: Наука, ЛО, 1972.
- Ковалева Л.М. Базисные структуры с предикатными актантами // Типология конструкций с предикатными актантами. – Л.: Наука, ЛО, 1985. – С. 50-53.
- Ковалева Л.М. Английская грамматика: предложение и слово. – Иркутск, 2008.
- Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. – М.: РАН ИЯ, 1997.
- Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Рос. академия наук. Ин-т языкознания. – М.: Языки славянской культуры, 2004.
- Лакофф Дж. Лингвистические гештальты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 10. – М.: Прогресс, 1981. – С. 350-368.
- Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении / Пер. с англ. И.Б. Шатуновского. – М.: Языки славянской культуры, 2004.
- Панкрац Ю.Г. Пропозициональная форма представления знаний // Язык и структуры представления знаний. Сб. науч.- аналит. обзоров. – М., 1992. – С. 78-97.
- Степанов Ю.С. Имена. Предикаты. Предложения. – М.: Наука, 1981.
- Fillmore Ch. The Case for Case Reopened // Syntax and Semantics. Vol.8. Grammatical Relations. Ed. By P.Cole, j.m.Sadock. – New York: Academic Press, 1977. – P. 59-81.
- Goldberg A.E. Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. – Chicago, London: The University of Chicago Press, 1995.
- Halliday: System and Function in Language / Ed. by G.R. Kress. – London: Oxford University Press, 1976.
- Jackendoff R. Semantic Structures. – Massachusetts: The MIT Press, 1991.
- Jackendoff R. Semantics and Cognition. – Cambridge: MIT Press, 1995.
- Jackendoff R. Languages of the Mind. Essays on Mental Representation. – Massachusetts: The MIT Press, 1996.
- Jackendoff R. The Architecture of the Language Faculty. – Massachusetts: The MIT Press, 1997.
- Langacker R.W. Assessing the Cognitive Linguistic Enterprise // Cognitive Linguistics: Foundations, Scope, and Methodology / Ed. By Th.Janssen, G.Redeker. – Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 1999. – P. 13-59.
- Palmer F.R. Semantics. A New Outline. – Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- Palmer F.R. Grammatical Roles and Relations. – Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Rosch E.H. Natural Categories // Cognitive Psychology. – 1973. Vol.4. – № 3. – P. 326-350.
- Talmy L. Toward a Cognitive Semantics. Vol.1: Concept Structuring Systems. – Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2000.
- Talmy L. (2000а) Toward a Cognitive Semantics. Vol.2: Typology and Process in Concept Structuring. – Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2000.
Список использованных словарей
ЯБЭС – Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Под ред. В.Н. Ярцевой. – 2-е изд. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998.
CCEDAL – Collins Cobuild English Dictionary for Advanced Learners. – The University of Birmingham: HarperCollinsPublishers, 2001.
CODCE – The Concise Oxford Dictionary of Current English / Ed.by R.E. Allen. – Oxford: Clarendon Press, 1990.
