В. И. Прокопцов эдукология: принципиально новая наука образования
| Вид материала | Документы |
- Врезультате первой мировой войны и гражданской войны в России и Европе закладывается, 327.1kb.
- 1. Наука как элемент культуры. Функции научного знания в обществе в экономике. Специфика, 1421.27kb.
- Им эволюции природы и прогресса общества, было бы ошибкой обвинять его в нигилизме,, 98.14kb.
- Что такое философия?, 2098.43kb.
- В. И. Прокопцов, научный руководитель Межвузовского учебно, 5616.06kb.
- Темы курсовых работ по теории и организации афк адаптивная физическая культура новая, 33.2kb.
- Христова Николай Антонович Половодов 8-9062732980 новая религия входе своего развития, 80.16kb.
- Это возможность не только увеличить длину и объем волос, но и создать необычные цветовые, 533.08kb.
- М. Хазин, Е. Ижицкая. Рассуждения о последствиях кризиса. Введение. О неизбежности, 834.78kb.
- Наука о воспитательных отношениях, возникающих в процессе взаимосвязи воспитания, образования, 892.22kb.
ОСР-Б: Прв-1.7.1.4.6. Новая модель вселенной
Книга знакомит читателя с самыми разнообразными эзотерическими теориями, среди которых: йога, гипноз, «вечное возвращение», сверхчеловек, четвертое измерение, толкование снов, гадальные карты Таро, экспериментальная мистика, эволюция пола и др. Это – своеобразная энциклопедия оккультных знаний, написанная европейски образованным человеком, исследователем «иных миров», учеником легендарного Г.Гурджиева.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
То, что автор нашел во время путешествий, упомянутых во «введении», а также позднее, особенно с 1915 по 1919 гг., будет описано в другой книге*. Настоящая книга была и практически завершена до 1914 года. Но все ее главы, даже те, которые уже были изданы отдельными книгами («Четвертое измерение», «Сверхчеловек», «Символы Таро» и «Что такое йога?»), были после этого пересмотрены и теперь более тесно связаны друг с другом. Несмотря на все, что появилось за последние годы в области «новой физики», автор сумел добавить ко второй части десятой главы («Новая модель вселенной») лишь очень немногое. В настоящей книге эта глава начинается с общего обзора развития новых идей в физике, составляющего первую часть главы. Конечно, этот обзор не ставит своей целью ознакомить читателей со всеми теориями и литературой по данному вопросу. Точно так же и в других главах, где автору приходится ссылаться на какую-то литературу по затронутым им вопросам, он не имел в виду исчерпать все труды, указать на все главные течения или даже сделать обзор важнейших трудов и самых последних идей. Ему достаточно было в таких случаях указать примеры того или иного направления мысли.
Порядок глав в книге не всегда соответствует тому порядку, в каком они были написаны, поскольку многое писалось одновременно, и разные места поясняют друг друга. Каждая глава помечена годом, когда она была напечатана, и годом, когда была пересмотрена или закончена.
Лондон, 1930 г.
. . . ГЛ. 10. НОВАЯ МОДЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ
Вопрос о форме вселенной. – История вопроса. – Геометрическое и физическое пространство. – Сомнительность их отождествления. – Четвертая координата физического пространства. – Отношение физических наук к математике. – Старая и новая физика. – Основные принципы старой физики. – Пространство, взятое отдельно от времени. – Принцип единства законов. – Принцип Аристотеля. – Неопределенные величины старой физики. – Метод разделения, употребляемый вместо определения. – Органическая и неорганическая материя. – Элементы. – Молекулярное движение. – Броуновское движение. – Принцип сохранения материи. – Относительность движения. – Измерения величин. – Абсолютные единицы измерений. – Закон всемирного тяготения. – Действие на расстоянии. – Эфир. – Гипотезы о природе света. – Эксперимент Майкельсона – Морли. – Скорость света как ограничивающая скорость. – Преобразования Лоренца. – Квантовая теория. – Весомость света. – Математическая физика. – Теория Эйнштейна. – Сжатие движущихся тел. – Специальный и общий принцип относительности. – Четырехмерный континуум. – Геометрия, исправленная и дополненная согласно Эйнштейну. – Отношение теории относительности к опыту. – «Моллюск» Эйнштейна. – Конечное пространство. – Двухмерное сферическое пространство. – Эддингтон о пространстве. – Об исследовании структуры лучистой энергии. – Старая физика и новая физика.
– Недостаточность четырех координат для построения модели вселенной. – Отсутствие возможности математического подхода к этой проблеме. – Искусственность обозначения измерений степенями. – Необходимая ограниченность вселенной по отношению к измерениям. – Трехмерность движения. – Время как спираль. – Три измерения времени. – Шестимерное пространство. – «Период шести измерений». – Два пересекающихся треугольника, или шестиконечная звезда. – Тело времени. – «Историческое время» как четвертое измерение. – Пятое измерение. – «Ткань» и «основа». – Ограниченное число возможностей в каждом моменте. – Вечное Теперь. – Осуществление всех возможностей. – Прямые линии. – Ограниченность бесконечной вселенной. – Нулевое измерение. – Линия невозможного. – Седьмое измерение. – Движение. – Четыре вида движения. – Разделение скоростей. – Восприятие третьего измерения животными. – Скорость как угол. – Предельная скорость. – Пространство. – Разнородность пространства. – Материальность и ее степени. – Мир внутри молекулы. – «Притяжение». – Масса. – Небесное пространство. – Следы движения. – Гравитация в структуре материи. – Невозможность описания материи как агрегата атомов или электронов. – Мир взаимосвязанных спиралей. – Принцип симметрии. – Бесконечность. – Бесконечность в математике и геометрии. – Несоизмеримость. – Разный смысл бесконечности в математике, геометрии и физике. – Функция и размеры. – Переход явлений пространства в явления времени. – Движение, переходящее в протяженность. – Нулевые и отрицательные величины. – Протяженность внутриатомных пространств. – Разложение луча света. – Световые кванты. – Электрон. – Теория колебаний и теория излучений. Длительность существования малых единиц. – Длительность существования электронов.
I
При любой попытке изучения мира и природы человек неизбежно оказывается лицом к лицу с целым рядом вопросов, на которые он не в состоянии дать прямых ответов. Однако от того, признает или не признает он эти вопросы, как их формулирует, как к ним относится, зависит весь дальнейший процесс его мышления о мире, а значит, и о самом себе.
Вот важнейшие из этих вопросов: Какую форму имеет мир? Что такое мир: Хаос или система? Возник ли мир случайно или был создан согласно некоторому плану?
И хотя это может на первый взгляд показаться странным, то или иное решение первого вопроса, т.е. вопроса о форме мира, фактически предрешает возможные ответы на другие вопросы – на второй и на третий…
…В настоящее время нередко делят физику на старую и новую; это деление, в общем, можно принять, однако не следует понимать его слишком буквально.
Теперь я попробую сделать краткий обзор фундаментальных идей старой физики, которые привели к необходимости построения «новой физики», неожиданно разрушившей старую; а затем перейду к идеям новой физики, которые приводят к возможности построения «новой модели вселенной», разрушающей новую физику точно так же, как новая физика разрушила старую.
Старая физика просуществовала до открытия электрона. Но даже электрон понимался ею как существующий в том же искусственном мире, управляемом аристотелевскими и ньютоновскими законами, в котором она изучала видимые явления; иначе говоря, электрон был воспринят как нечто, существующее в том же мире, где существуют наши тела и другие соизмеримые с ними объекты. Физики не поняли, что электрон принадлежит другому миру.
Старая физика базировалась на некоторых незыблемых основаниях. Время и пространство старой физики обладали вполне определенными свойствами. Прежде всего, их можно было рассматривать и вычислять отдельно, т.е. как если бы положение какой-либо вещи в пространстве никоим образом не влияло на ее положение во времени и не касалось его. Далее, для всего существующего имелось одно пространство, в котором и происходили все явления. Время так же было одним и тем для всего существующего в мире; оно всегда и для всего измерялось по одной шкале. Иными словами, считалось допустимым, чтобы все движения, возможные во вселенной, измерялись одной мерой.
Краеугольным камнем понимания законов вселенной в целом был принцип Аристотеля, утверждавший единство законов во вселенной.
Этот принцип в его современном понимании можно сформулировать следующим образом: во всей вселенной и при всех возможных условиях законы природы обязаны быть одинаковыми; иначе говоря, закон, установленный в одном месте вселенной, должен иметь силу и в любом другом ее месте. На этом основании наука при исследовании явлений на Земле и в Солнечной системе предполагает существование одинаковых явлений на других планетах и в других звездных системах.
Данный принцип, приписываемый Аристотелю, на самом деле никогда не понимался им самим в том смысле, какой он приобрел в наше время. Вселенная Аристотеля сильно отличалась от того, как мы представляем ее сейчас. Человеческое мышление во времена Аристотеля не было похоже на человеческое мышление нашего времени. Многие фундаментальные принципы и отправные точки мышления, которые мы считаем твердо установленными, Аристотелю еще приходилось доказывать и устанавливать.
Аристотель стремился установить принцип единства законов, выступая против суеверий, наивной магии, веры в чудеса и т.п. Чтобы понять «принцип Аристотеля», необходимо уяснить себе, что ему еще приходилось доказывать, что если все собаки вообще не способны говорить на человеческом языке, то и одна отдельная собака, скажем, где-то на острове Крите, также не может говорить; или если деревья вообще не способны самостоятельно передвигаться, то и отдельное дерево также не может передвигаться – и т.д.
Все это, разумеется, давно забыто; теперь к принципу Аристотеля сводят идею о постоянстве всех физических понятий, таких как движение, скорость, сила, энергия и т.п. Этот значит: то, что когда-то считалось движением, всегда остается движением; то, что когда-то считалось скоростью, всегда остается скоростью – и может стать «бесконечной скоростью».
Разумный и необходимый в своем первоначальном смысле, принцип Аристотеля представляет собой не что иное, как закон общей согласованности явлений, относящийся к логике. Но в его с о в р е м е н н о м п о н и м а н и и принцип Аристотеля
ц е л и к о м о ш и б о ч е н (В.П.).
Даже для новой физики понятие бесконечной скорости, которое проистекает исключительно из «принципа Аристотеля», стало невозможным; необходимо отбросить этот принцип, прежде чем заниматься построением новой модели вселенной. Позже я вернусь к этому вопросу…
. . . СТАРАЯ ФИЗИКА
Геометрическое понимание пространства, т.е. рассмотрение отдельно от времени. Понимание пространства как пустоты, в которой могут находиться или не находиться «тела».
Одно время для всего, что существует. Время, измеряемое одной шкалой.
Принцип Аристотеля – принцип постоянства и единства законов вселенной, и, как следствие этого закона, доверие к незыблемости установленных явлений.
Элементарное понимание мер, измеримости и несоизмеримости. Меры для всех вещей, взятые извне.
Признание целого ряда понятий, трудных для определения (таких как время, скорость и т.д.), первичными понятиями, не требующими определения.
Закон тяготения, или притяжения; распространение этого закона на явления падения тел, или тяжести.
«Вселенная летающих шаров» – в небесном пространстве и внутри атома.
Теория колебаний, волновых движений и т.п.
Тенденция объяснять все явления лучистой энергии волновыми колебаниями.
Необходимость гипотезы «эфира» в той или иной форме. «Эфир» как субстанция величайшей плотности, – и «эфир» как субстанция величайшей разреженности.
НОВАЯ ФИЗИКА
Попытка уйти от трехмерного пространства при помощи математики и метагеометрии. Четыре координаты.
Исследование структуры материи и лучистой энергии. Исследование атома. Открытие электрона.
Признание скорости света предельной скоростью. Скорость света как универсальная константа.
Определение четвертой координаты в связи со скоростью света. Время как мнимая величина и формула Минковского. Признание необходимости рассмотрения времени вместе с пространством. Пространственно-временной четырехмерный континуум.
Новые идеи в механике. Признание возможности того, что принцип сохранения энергии неверен. Признание возможности превращения материи в энергию и обратно.
Попытки построений системы абсолютных единиц измерений.
Установление факта весомости света и материальности электричества.
Принцип возрастания энергии и массы тела во время движения.
Специальный и общий принципы относительности; идея необходимости конечного пространства в связи с законами тяготения и распределением материи во вселенной.
Кривизна пространственно-временного континуума. Безграничная, но конечная вселенная. Измерения этой вселенной определяются плотностью составляющей ее материи. Сферическое или эллиптическое пространство.
«Упругое» пространство.
Новые теории структуры атома. Исследование электрона. Квантовая теория. Исследование структуры лучистой энергии.
II
Теперь, когда мы рассмотрели принципиальные особенности как «старой», так и «новой» физики, можно задать себе вопрос: сумеем ли мы на основе того материала, которым располагаем, предсказать направление будущего развития физической науки и построить на этом предсказании модель вселенной, отдельные части которой не будут взаимно противоречить и разрушать друг друга? Ответ таков: построить такую модель было бы нетрудно, ели бы мы располагали всеми необходимыми и доступными нам данными о вселенной, в связи с чем возникает новый вопрос: имеем ли мы все эти необходимые данные? И на него, несомненно, следует ответить: нет, не имеем. Наши данные о вселенной недостоверны и неполны…
…При существующем научном материале не удается обнаружить прочную основу для теории краткого существования мельчайших единиц материи. Материал для такой теории нужно искать в идее «разного времени в разных космосах», которая представляет собой часть особого учения о мире; но это – тема для другой книги.
1911-1929 гг.
П.Д. Успенский [58]. С. 11–474.
P.S. ОСР-Б: Прв-1.7.1.4.6. Категории мировоззрения
как метод познания
Положение о том, что пространство и время представляют собой способ познания вещей человеком, было установлено и блестяще обосновано великим немецким философом Иммануилом Кантом. Понятия пространство и мировоззрение адекватны, и этот вопрос был прекрасно разработан долго замалчивавшимся выдающимся российским космистом Петром Демьяновичем Успенским, который в своей книге TERTJUM ORGANUM КЛЮЧ К ЗАГАДКАМ МИРА (СПб., 1904 г.) обосновал четыре категории человеческого мировоззрения…
…В аналитическом, в частности, в геометрическом аспекте эти четыре категории мировоззрения как-то незаметно превратились в четыре мерности абстрактного геометрического пространства, а в физическом аспекте – в четыре типа силового взаимодействия (сильное, слабое, электромагнитное и гравитационное).
Еще один долго замалчиваемый в нашей стране замечательный российский мыслитель Георгий Иванович Гурджиев, просуммировав все эти аспекты, определил четыре пути познания. А именно: первый – путь факира (развития физического тела), второй – путь монаха (веры, развития религиозного чувства и религиозной жертвы), третий – путь йогина (знания, развития ума), и, наконец, четвертый – путь сознательный. Этот путь требует работы по всем трем направлениям одновременно. Он требует прежде всего понимания, или «знания как» (в отличие от «знания о»)…
Б.В. Гладков. Категории мировоззрения
как метод познания. СПб., 1993
ОСР-Б: Прв-1.7.1.4.7. Основы миропонимания
новой эпохи
В эпоху нового мышления, демократии и гласности, когда приоритет отдается общечеловеческим ценностям, в эпоху пробуждения и становления национального самосознания данная книга призвана приобщить все прогрессивные силы общества к тому духовному богатству, которое еще совсем недавно казалось безвозвратно утраченным. Автор ее – Александр Иванович Клизовский, член правления Латвийского Общества Рериха 30-х годов – написал три книги: «Психическая энергия», «Правда о масонстве» и «Основы миропонимания новой эпохи». Вот как последнюю из них в своем письме из Индии А.И. Клизовскому охарактеризовала Елена Ивановна Рерих: «Ваш превосходный труд принес большую радость. Это именно то, что сейчас так неотложно нужно, ибо следует всеми способами будить сознание, погрязшее в затхлых предрассудках и подавленное ужасами грозного времени. Ведь заря новой эры уже брезжит, и нужно суметь встретить ее пробужденным духом. Жду с нетерпением продолжения Вашего труда, который следовало бы напечатать и широко распространить. Ваш труд, столь ясно излагающий проблемы Бытия, очень ценен, и мы надеемся, что Вы будете продолжать в этом направлении. Ведь Учение Жизни дает столько новых, еще не затронутых тем!»
ГЛ. 1. О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
Вопрос о смысле жизни принадлежит к числу вечно волнующих, неразрешимых и роковых вопросов, которым вот уже несколько десятков столетий болеют народы западного мира. Вопрос этот встает перед каждым достигшим известного развития человеком, рано или поздно, на заре или на закате его жизни, неизбежно.
Откуда мы пришли, куда идем, какая цель существования человека на земле? Есть ли жизнь, как сказал поэт: «Дар напрасный, дар случайный», или же в беспрерывном, вечном круговороте жизни таится какой-нибудь глубокий смысл? Какой смысл в кратковременном человеческом существовании, завершением которого должна быть неизбежная, неотвратимая смерть?
Убийственно тяжела для человека мысль о неизбежности смерти, ибо разум человеческий не мирится со смертью и не может признать разумности своего уничтожения. Главной причиной искания человеком смысла своего бытия есть недоумение перед смертью, перед тем прыжком в бездну и неизвестность, который, по мнению современного западного человека, полагает конец всему.
Смерть больше всего другого заставляла человека добиваться разрешения проблемы о цели и смысле жизни. Человеку, утратившему истину о непрерывности жизни, смерть, действительно, должна казаться ужасной бессмыслицей, и, ища смысла жизни, человек хочет спастись от бессмысленности смерти. Во имя чего стоит жить, во имя какой высшей цели дана человеку жизнь, чтобы он мог признать разумность этой цели и приемлемость ее для всякого?
В выборе смертью своих очередных жертв нет никакой системы, никакого плана, никакого разумного основания. Если бы умирали люди, лишь дожившие до старости или даже до преклонного возраста, то это еще было бы понятно, но когда умирает человек в расцвете своей плодотворной деятельности или на заре своей юности, или даже только что родившийся, то здесь бессмысленность смерти выступает во всей своей ужасающей непонятности…
…Результатом вызываемого смертью недоумения бывает ропот и упреки в несправедливости того, кого люди называют Богом, или появление апатии и потеря интереса к такой жизни, в которой нельзя найти смысла. Неизбежность бессмысленной смерти порождает у мыслящего человека горечь, разочарование и нежелание жить, что приводит часто его к еще бόльшей бессмысленности – к прекращению своей жизни, что стало обычным явлением в наше время.
В своей жизни человек ищет конечной цели своего бытия, конечного смысла, который обнимал бы и поглощал бы собою все другие выдвигаемые жизнью задачи и цели. Он хочет такого объяснения смысла жизни, который не ставил его в тупик перед смертью, но, перебросив мост между жизнью и смертью, соединил бы временное с вечным, конечное с бесконечным, который вместе с разрешением этого кардинального вопроса разрешил бы и другие назревшие вопросы, вытекающие из этого основного вопроса, т.е. о душе, о загробной жизни, о Боге, о происхождении Вселенной.
Посмотрим, какие ответы на эти недоуменные вопросы дают главные течения человеческой мысли, т.е. наука, философия и религия, ибо все они занимались и занимаются разрешением вопроса о смысле жизни и выработали много разных гипотез и теорий.
Соответственно этим трем главным течениям человеческой мысли указывают три главные пути, которыми люди могут следовать сообразно своему мировоззрению. Эти три главные пути имеют каждый множество боковых ответвлений и тропинок, но в общем: наука указывает как на цель и смысл жизни – на человека, философия – на человечество, религия – на Бога.
Остановимся несколько подробнее на каждом из этих трех главных путей.
Современная позитивная наука, который признает лишь видимый физический мир, не может, в сущности, разрешать вопросы и объяснять явления, происходящие из других миров. Вопрос о смысле жизни неразрывно связан с целой серией вопросов высшего порядка, имеющих отношение к высшим мирам, каждый из которых имеет свои законы, которых наука не знает и не признает. Вопрос о смертности человека, как имеющий прямое отношение к высшим мирам, наукой не понят и разрешен быть не может, пока она будет придерживаться воззрений грубо материалистических и будет признавать лишь мир физический с его законами.
Гордая своими успехами, своими открытиями и изобретениями в области видимого мира, наука, отрицая мир невидимый, не может отрицать явлений, происходящих из невидимого мира, ибо они происходят всякий день, но попытки ее объяснить эти явления методами, пригодными для объяснения явлений физического мира, положительных результатов не дали, ибо к трансцендентным вопросам и истинам нужно подходить с другой точки зрения.
Поэтому с грубо материалистической точки зрения современной позитивной науки, причина и цель мироздания для человеческого ума навсегда остаются недоступны и непроницаемы. На развитие человечества она смотрит, как на вечное движение к неизвестной и непонятной цели.
Происхождение Вселенной объясняется как случайное сцепление частиц материи, которые пришли в движение. Жизнь человека тоже случайность, которая неповторяема ни в прошлом, ни в будущем. Мы живем потому, что рождены, и жизнь наша – временное соединение частиц материи, которая со смертью человека возвращается в общий резервуар, из которого механический закон создаст новую случайность – нового человека.
Души у человека нет. Есть лишь ум или функция физического вещества мозга, который, со смертью человека, вместе с телом подлежит уничтожению. Отсюда вытекает, что загробного, потустороннего существования быть не может, ибо все, что составляло человека, уничтожается.
При таком мировоззрении какой смысл можно было бы придать жизни человека? Раз объективной цели существования нет, то должна быть принята субъективная точка зрения, целью жизни объявляется сам человек, а смысл жизни – вся доступная человеку полнота бытия.
Перед этой полнотой бытия смерть бессильна, по учению материалистов, и будто бы побеждена, ибо если человек не в будущем искал цели жизни и смысл жизни, но в каждом мгновении своего бытия, то смерть ему якобы нипочем, потому что ни к какой трансцендентной сказке он не стремился*…
…Человек, как самоцель, как мера всех вещей, есть предел материализма, за которым начинается быстрый регресс, расцвет и развитие эгоцентричности, эгоизма, нетерпимости, разъединения и прочих наиболее худших и отрицательных сторон человеческой природы…
…Идеалы земной жизни, даже наиболее высокие из них, никогда полного счастья создать человеку не могут. Всей полнотой бытия могут довольствоваться и довольствуются лишь наиболее отсталые в своем развитии люди. Человек развитой и чуткий одними идеалами земной жизни удовлетвориться не может. Он требует от жизни чего-то большего, и раз он этого большего в жизни не находит, то, вкусив полноту бытия, он быстро ею пресыщается и готов уйти от нее куда угодно, даже в небытие, что, к большому прискорбию, он часто и делает.
Достоинство или недостаток всякой теории и всякого учения зависит от результатов, приносимых проповедью данного учения, как и данной теории. Какие результаты принесла проповедь материализма и, в частности, имманентного субъективизма или полноты бытия как смысла жизни?
Самые отрицательные. Какие бы ни были приводимы причины печального состояния современного человечества, но отрицание невидимого мира и проповедь материализма и полноты бытия, как смысла жизни, сыграли в этом отношении решающую роль, ибо распространение среди человечества учений грубо материалистических и разложение человечества идут рука об руку, что мы видим по современному состоянию его…
А.Клизовский [59]. С. 2–7.
P.S. ОСР-Б: Прв-1.7.1.4.7. …Жизнь не имеет никакого смысла: ни мудрого, ни глупого, ни абсурдного, ни трагичного, ни какого иного, – размышляет по этому же поводу Н.Н. Трубников. Этот ответ, по его мнению, не только более честный, но и более обнадеживающий, чем какой бы то ни было другой. Ибо он предполагает возможность не столько находить смысл, сколько созидать его, творить и сообщать жизни.1)
1) Н.Н. Трубников. Проспект книги о смысле жизни //
Квинтэссенция. М., 1990. С. 438 [39]. С. 501–502.
ОСР-Б: Прв-1.7.1.4.8. Теория густот.
Опыт христианской философии
конца XX века
ДВИЖЕНИЕ УЕДИНЕННОЙ МЫСЛИ
Кто говорит, что в поле он не воин?
Он воин в поле, даже и один.
Н.Заболоцкий
Вне отношения к предлагаемой цепи онтологических, космологических, теологических, эстетических и социологических тезисов читатель должен прежде всего отдать себе отчет в масштабе личности, которая в такое время, под гнетом такой судьбы могла взять на себя построение фундаментальной христианской философии. Труд завершался и оформлялся в последние годы жизни, за рубежом, но зарождался, вынашивался и продумывался в совершенно иных условиях. Лишенец в юные годы, рабочий цементного завода; потом, после студенчества и аспирантуры, перед самой защитой диссертации, – арест и шестнадцать лет тюрем, лагерей и ссылки. Одно только это ломало и более сильных. Но человек, мысливший в том направлении, которое было избрано Д.М. Паниным, ощущал непримиримую вражду не только со стороны палачей и стукачей, «органов» и партии. Сама культура, сама философия науки, какими они только и могли вырастать в советских условиях, всем весом своего авторитета противостояли его вере и его воле. Мы сказали: в советских условиях. А там, на свободе, разве секулярная цивилизация, нашедшая себе путь и в христианских вероисповеданиях, могла одобрить одиночку, в нерыцарский век решившегося быть и в жизни, и в мыслях рыцарем? Каждое его сочинение могло бы иметь латинский подзаголовок: «Contra Mundum» – «Против мира», всего мира. И в таких обстоятельствах человек, загнанный в интеллектуальное одиночество, бестрепетно взялся за решение задач, достойных по крайней мере эпохи Раймунда Луллия!
Эта невозмутимая последовательность ума и воли, основанная на вере – «Яко с нами Бог!» – и не дающая сбить себя с толку ни шумными угрозами, ни тихим глумлением ада, есть тот элемент, который для меня лично остается на протяжении книги непосредственно внятным. Об этом я могу судить, и судить с нелицемерным почтением. Напротив, я отказываюсь судить о большинстве, так сказать, доктринальных тезисов книги. Прежде всего я являюсь абсолютным профаном в области современной физики, а равно и в других областях знания до политэкономии включительно, о которых трактует автор в различных разделах своего труда. Чтобы воздержаться от суждения, это причина уважительнейшая, но она не единственная. Что делать: Провидение, определяющее каждому его путь, полностью отказало моему религиозному опыту в космогонических интуициях, а моему религиозному чувству – в соответствующих запросах и потребностях. Чего не дано, того не дано. Для меня лично Бог несравнимо очевиднее мироздания, не говоря уже обо всех «моделях» последнего. Моя голова устроена так, что для нее понятие чуда – само по себе вовсе не такое уж иррационалистическое, ибо логически предполагает в качестве фона твердую норму законов природы, – понятнее, чем «напор трансфизических частиц» или введение Господом нашим «праны» в крошках пищи. Легкое беспокойство внушает мне термин «трансфизическое» тем, что вмещает в свой объем слово «физическое» и тем ориентирует наш ум на физическое как на точку отсчета. Сама по себе проблема того, что можно при желании назвать «трансфизическим», несомненно, возникла в православной традиции от святоотеческих времен до прошлого столетия, хотя оттеснялась на периферию и оставалась нерешенной; достаточно вспомнить высказывания Св. Брянчанинова о естестве ангелов на реакцию на них Св. Феофана Затворника…
…Я не решился бы, пожалуй, говорить об «исследовательской деятельности» Бога, о его экспериментах не столько ввиду общеизвестного догмата о Его всеведении, сколько ввиду очень таинственного, по сути своей «недомыслимого», но важного учения, согласно которому Бог, пребывая в Своей вечности, вообще не причастен времени…
… Что касается онтологии Д.М. Панина, отметим ее крайний безусловный монизм, а заодно и отвечающую этому монизму универсализацию термин «густота». Последнее не поражает ни слух, ни вкус филолога, ясно помнящего историю и предысторию самых расхожих и привычных онтологических терминов. Термин «густота» по своим лексикологическим характеристикам не менее легитимен или, если угодно, легитимизируем, чем вся традиционная терминология, касающаяся категорий, наиболее универсальных по своему характеру. Вопрос стоит о целесообразности термина; обсуждение таковой – задача будущих критиков. Что же касается механизма, оспаривающего не только «разделение, столь милое сердцу Декарта» (С. Тарасенко), но и некоторые более древние разделения, восходящие к адекватно или неадекватно истолкованному платонизму, что такой гипермонизм кажется нам глубоко связанным с коренной тенденцией русского мышления… В остальном я рад процитировать П. Шоню, рецензировавшего в «Фигаро» французское издание «Теории Густот»: «Очень мало кто может по-честному заявить, что он все понял в «Теории Густот», самом ортодоксальном из гностических построений в эпоху релятивистской и квантовой физики… Даже если такой подход необычен и истоки такого большого количества утверждений не полностью ясны, Дмитрий Панин приходит к осознанию и толкованию Совокупности Христианской Догмы в ее классических утверждениях…. Этот труд не имеет никаких абсолютно аналогов на Западе. Он заслуживает внимания, уважения и по крайней мере обсуждения.»
Несколько слов о предметах, лично мне более близких: о комплексе этических, экклезиологических, исторических и социальных проблем.
Программа «скорейшего размежевания авелей и каинов, или, употребляя слова, более подходящие к нашему веку, созидателей и разрушителей», – размежевания, так сказать, организационного – естественным образом подходит к этосу обнаженного рыцарского меча, роднящему Панина с Ильиным (И.А. Ильин «О сопротивлении злу силою»). Я от души согласен с протестами автора против слащавой стилизации евангельского образа Христа, а равно и против навязывания христианам безвольной социальной пассивности, выдаваемой за кротость и смирение. Однако программа «скорейшего размежевания» вступает в решительное противоречие с одной из притч Господа нашего:
«Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы, и ушел; когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле своем? откуда же плевелы? Он сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем выберем их? Но он сказал: нет, – чтобы,
выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницу,
оставьте расти вместе и то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их; а пшеницу уберите в житницу мою»
(Мф. 13, 24–30).
Какое уж тут «скорейшее размежевание»? До дня жатвы, до конца времен, до Страшного Суда плевелы будут расти на широком поле Церкви вместе с пшеницей. Так нас предупреждает Евангелие. Из чего не вытекает, разумеется, будто христиане уполномочены вести себя оппортунистически и путать с кротостью пустое благодушие, а со смирением – пресмыкательство перед сильными. Здесь призыв Д.М. Панина нравственно безупречен.
С.С. Аверинцев, чл.-кор. РАН
ЧАСТЬ I. МИР
ВВЕДЕНИЕ
Научные открытия возможно рассматривать как узловые точки нашего познания. Число этих точек еще далеко не достаточно, и промежутки между ними свидетельствуют об огромных неизведанных областях вселенной. Поэтому мы лишены возможности составить себе научное представление о ней.
Загадочность и сложность вселенной вынуждают мыслителей строить умозрительные системы, опережающие научные открытия. Для того чтобы философ не впал в противоречие со строго установленными наукой данными, представляется целесообразным протягивать нити в виде гипотез между узловыми точками; по мере роста наших знаний гипотезы подлежат уточнению.
В основу предлагаемой систему положена густота – первооснова всех предметов и явлений вселенной. Все предметы вселенной представляют собой густоты, и исходя из густоты возможно также определить духовные и общественные явления. Универсальный характер густоты позволяет нарисовать убедительную картину вселенной, и поэтому предлагаемая философская система названа мною Теория густот1.
Понятие густоты неразрывно связано с предлагаемым объяснением пространства и времени (гл. 3; 4). Явление перехода квантов из одной густоты в другую позволило установить связь между пространством, временем, энергией, силой, массой, и соответственно оказалось возможным объяснить природу законов классической и релятивистской механик и природу силовых полей2.
Вещи, воспринимаемые сознанием, находятся главным образом в окружающем человека пространстве (макромире), и поэтому явления макромира (мира элементарных частиц) рассматриваются в «Механике на квантовом уровне»3.
Нити и стержни. Как и в модели моста, в модели мироздания существуют узлы. Мы называем узлами в мироздании все, что прочно установила наука, и божественные откровения. Узлы чаще всего соединены временными связями – нитями и гораздо реже стержнями, представляющими собой строго обоснованные объяснения промежуточных явлений. Если бы все соединения между узлами были выполнены в виде стержней, то не было бы нужды в философии предлагаемого класса. Поскольку до этого еще очень далеко, приходится подменять стержни нитями, причем число нитей резко превышает число стержней4. Исходя из этого, модель мироздания, подобно конструкции моста, может быть выполнена только:
- если она покоится на универсальном плодотворном принципе;
- если универсальный принцип воплотился также в каждой нити.
Для нашей модели мироздания густота представляет собой универсальный принцип5.
ГЛАВА 1. НАЧАЛА СУЩЕГО
Творец создал вселенную (гл. 7; 19). Вселенная состоит из ряда миров: физического, трансфизического и трансцендентальных1. Миры образованы из густот2. Густоты физического мира состоят из элементарных частиц этого мира.
Густота состоит из частиц мира, в котором она занимает пространство, существует во времени и находится в состоянии сгущения – разрежения.
Материя есть густота, состоящая из элементарных частиц физического мира.
Объективная реальность есть совокупность густот, оцениваемая человеком в целом, не вникая в детали (гл. 7; 3).
Действующая густота определяет любое изменение во вселенной. При механическом столкновении действующая густота направляет порции квантов из одной густоты в другую. Все созидательные и разрушительные явления требуют для своего осуществления действующих густот3. Параметры густот изменяются в процессах сгущения – разрежения. Взаимодействующие густоты достигают определенного уровня сгущения или разрежение, когда в ходе процессов сгущения – разрежения устанавливается равновесие между густотами.
Густоты физического мира возможно разделить на шесть классов
- Густоты из начальных элементов трансфизического мира – носительницы элементарной жизни.
- Густоты микромира.
- Густоты макромира.
- Густоты живой природы, состоящие из густот макромира и сложных образований из густот нулевого и первого классов (животные, имеющие центры управления инстинктами и зачатки умственных способностей).
- Густоты человека, состоящие из густот третьего класса и сложных образований трансфизических частиц его души.
- Символы, представляющие собой густоты, которые не вызывают движения частиц в мозгу и душе человека (все виды записей и чертежей до их использования человеком).
Вещь есть густота, воспринимаемая человеком. Каждая вещь и ее части имеют силовой остов, предохраняющий их от разрушения.
Бытие: наличие густот с их сгущениями и разрежениями.
Небытие: полное отсутствие густот в данном месте (в объеме, измеренном из системы K, обладающей бытием).
Пустота есть начало, в котором по причине отсутствия частиц и соответственно густот не происходит их сгущения – разрежения. Тем не менее субстанция густоты обладает способностью к сгущению – разрежению. В противном случае она обратилась бы в небытие.
Пустота (физический вакуум). Квантовая механика рассматривает густоту (физический вакуум) как самое низкое энергетическое состояние квантового поля, в котором заряды, импульсы, моменты количества движения и др. квантовые величины равны нулю. Одновременно установлена способность виртуальных процессов взаимодействовать с флуктуациями вакуума.
К этим положениям следует добавить свойства пустоты согласно Теории густот:
- Субстанция пустоты под действием масс или зарядов способна к сгущению, вследствие которого образуются равнодействующие, воспринимаемые в виде векторов сгущения пустоты (315). Их взаимодействие объясняет природу силовых полей (Механика на квантовом уровне, ч. III) и особенности частицы с волновыми свойствами взамен гибрида «частица-волна» (Механика на квантовом уровне, ч. IV, гл. 2).
- Сгущение и разрежение пустоты заменяют упругие свойства эфира и допускают поперечные колебания.
- Пространственные размеры в пустоте отсутствуют, поскольку пустота не есть пространство. По этой же причине пустота не может быть непосредственно обнаружена (опыт Майкельсона–Морли).
- Субстанция пустоты представляет собой застывшее движение, способное при определенных условиях проявлять свою сущность в виде колебаний и бросков (Механика на квантовом уровне, ч. IV, гл. 2).
Перемещение…; Начальный элемент…; Исходная частица…; Кванты макромира…; Элементарная частица макромира…; Густота сопротивления…; Масса…; Релятивистская масса…; Единица массы…; Фактор скорости…; Энергия…; Кинетическая энергия вещи…; Потенциальная энергия вещи…; Внутренняя энергия вещи…; Структурная энергия вещи…; Сила в макромире…; Импульс силы…; Силовое поле…; Пространство…; Время…; Единица пространства…; Движение…; Единство…; Качество…; Количество…; Явление…; Изменение…; Развитие…; Перерыв постепенности…; Процесс…; Причина…; Следствие…; Становление…; Противоположности…; Противоречие…; Субстанция…; Бытие вещи…; Субъект…; Объект…; Необходимость…; Случайность…; Достоверность…; Действие…; Целесообразность…
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ФИЗИЧЕСКОГО МИРА
В этой главе рассматриваются законы природы, имеющие универсальное значение. К таким законам следует отнести: закон движения вещей, законы развития, закон сохранения энергии, ряд законов механики, оба начала термодинамики, закон Э. Бореля…
Д.М. Панин [60]. С. 5–15.
P.S.1 ОСР-Б: Прв-1.7.1.4.8.
ГИПЕРТЕКСТ КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
И КАК ТЕХНОЛОГИЯ
… Попытки создать фактографические информационные, а затем и экспертные системы показали, что наше знание состоит как бы из двух типов клеток: из зернышек-фактов и соединительной ткани – смысловых связей между ними. Очевидно, что такое деление не абсолютно. Но все же наиболее подвижный элемент знания – смысловые связи. Текст, в котором связи и факты существуют в определенном единстве, устаревает и становится неприемлемым именно потому, что ветшает соединительная ткань.
Нельзя ли над некоторыми фрагментами текста совершить пресловутую операцию: вырвать их из контекста и придать им независимое существование? Те фрагменты текста, которые после такой операции (выполненной некоторой стилистической правкой) сохраняют смысл и выражают факты. Если, конечно, понимать факт достаточно широко и относить к этой категории не только явления физического мира, но и мира идей, или так называемого мира по
К. Попперу. Замысел состоял в том, чтобы извлекать из текста факты и коллекционировать их в таком виде, в каком они были бы доступны специалистам различного профиля. Очевидно, фактом может быть не только фрагмент текста, но и диаграмма, рисунок, программа, фрагмент базы данных. В этом, вкратце, и состоит идея гипержурнала.
Иногда однородные факты удается уложить в жесткую схему и представить в виде базы данных, с которой может работать подходящая СУБД, но чаще внутренняя структура и связи факта с другими фактами слишком сложны для этого, и его удается представить лишь в «мягкой» форме – в виде микротекста на естественном языке. Гипержурнал можно рассматривать как базу фактов, причем,
отдельному факту соответствует отдельный краткий микротекст (тезис)…
М.В. Арапов, Д.М. Арапов [34]
P.S.2 ОСР-Б: Прв-1.7.1.4.8.
… Точно научно установленный факт, по существу, всегда дает больше, чем основанная на нем, его объясняющая теория. Он верен и для будущей теории, и в исторической смене теорий он остается неизменным…
В.И. Вернадский. История минералов
земной коры. Т.1. Вып. 1. Пч., 1925. С. 3–4.
Итак, – еще раз повторяю, – предлагаю со-исследователям и со-разработчикам интересующей нас проблемы осуществить мысленный эксперимент, построить для этого упомянутый выше когнитивно-семантический восьмигранник, роль вершин которого «должны» играть работы [55–60]. К сказанному ранее добавлю: попытайтесь соотнести концепцию Теории густоты с концепцией гипержурнала – и на этом основании построить соответствующую «общую модель» познания–розмысла. В этом мысленном эксперименте, в целом, попытайтесь найти аспекты тождества и различия концептуальных основ названных работ и в таком контексте составьте–постройте соответствующую свою собственную «частную» картину мира.
Обсуждая (точнее «обеспечивая» такое обсуждение) проблемный вопрос о логических законах (п. 1.7), следовало бы, быть может, более подробно остановиться на аспекте математической логики и ее «приложениях» (математической лингвистики, математической биологии и др.). Однако в целях сокращения объема, составляемого здесь и сейчас, в качестве «наглядного примера», эдукологического гипертекста, чтобы показать его тождество и различие с «классическим», предлагаю этот проблемный подвопрос со-исследователям и со-разработчикам проблемы созидания эдукологии рассмотреть и изучить самостоятельно. Для начала «испытаний» в этом вопросе, с одной стороны, можно назвать несколько «первоисточников» (см. [69–73] и др.); с другой – «попутно» напомнить известный афоризм английского естествознателя Т. Гескли: «Математика, подобно жернову, перемалывает то, что под него засыпают, и как, засыпав лебеду, вы не получите пшеничной муки, так, исписав целые страницы формулами, вы не получите истины из ложных предпосылок».
И, наконец, коснусь еще двух аспектов в многозначном контексте понимания–толкования формальной логики, ее существа и «границ» применимости. С одной стороны, отметим нарождающуюся логику деконструктивизма или, шире, логоцентризма, начала которой разработаны Ж. Деррида в его работе «О грамматологии» (1967). С другой стороны, покажем, чему же в этом контексте ныне учит высшая школа своих выпускников и, в частности, магистрантов, адъюнктов и аспирантов.
ОСР-Б: Прв-1.8.
. . . ГРАММАТОЛОГИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Самому Деррида очень не хочется, чтобы его описывали «как объект». Поэтому сам он никогда не даст разрешения на какое бы то ни было описание собственной концепции в форме констатации и в третьем лице единственного число (типа «S» есть «P»). Каждое слово, термин, понятие он обставляет бесконечными оговорками запретительного свойства: это не понятие, не термин, не место, не операция, не акт… Применительно к каждому слову-понятию Деррида фактически стоит запрещение его абстрактного использования: так, скажет он нам, метафизики «как таковой», философии «как таковой» или, скажем, деконструкции «как таковой» не бывает (по-французски это как бы запрет на употребление определенного артикля, т.е. во всех трех упомянутых случаях – артикля «la»).
Все это мы должны как-то учитывать, но должны ли мы понимать это буквально и верить всему сказанному на слово? Например, если Деррида где-то сказал, что он снял оппозицию «логического» и «риторического» (или метафизического), можно ли считать такое утверждение само собой разумеющимся и даже не задавать себе вопросов о том, как это вообще возможно или что стало бы с философией, если бы это действительно было возможно? Несмотря на все выше представленные отрицания, мы все же полагаем, что у Деррида есть понятия, которые совершают свою понятную (а не только акробатическую или танцевальную, вслед за Ницше) работу – ничуть не хуже, чем другие философские и нефилософские понятия. Во всяком случае, теперь, по прошествии 30 лет после выхода книги, такое отношение представляется нам оправданным.
Многие понятия «О грамматологии» возникли под давлением Гуссерля, Гегеля и Хайдеггера, а кроме того, Фрейда, Ницше, авангардной литературы. Но самое важное влияние – это, конечно, Гуссерль, прежде всего – как исследователь проблемы внутреннего чувства времени. Из того, что настоящее (налично-сущее, живое-настоящее) не является в самом себе неделимым, но уже расчленяется на «уже не» и «еще не», вытекает весь человеческий опыт, немыслимый без переживания времени с его расщепленностью, различенностью, промедлением прошлого и запаздыванием будущего. Добавим к этому ряд понятий Фрейда, фиксирующих неосознанное сбережение впечатлений (непонятных, неприятных или просто невыносимых для человека) в виде «следов» (ср. «след мнесический», «пролагание пути», «последствие» – Деррида часто пользуется этими фрейдовскими понятиями в их немецком варианте)…
… Если мы к тому же настроим себя на такое обращение со словом, которое было характерно для европейского литературного авангарда от Малларме до Бланто (с игрой слов-синонимов, омонимов, метафор, метонимий, других тропов и фигур, различных звуковых ассоциаций), то в результате мы получим некоторое представление о внешних параметрах стиля Деррида. Мы не будем даже пытаться показать весь корпус понятий Деррида. Попробуем лишь пояснить некоторые основные понятия данной книги и тем самым наметить путь к ее чтению, предоставив читателю возможность самому достроить намеченные понятийные ряды, заметить новые подстановки и взаимодействия понятий. На страницах «О грамматологии» мы встречаем десятки понятий: противопоставляемых и взаимопересекающихся. Деконструкция – это латинский перевод греческого слова «анализ». Слово это у всех на слуху – по крайней мере в России. Деконструируемые понятия – это те, которые Деррида находит в философской традиции западной мысли: например, сущность, явление, цель, онтология, метафизика, наличие… Деконструирующие понятия – различного происхождения. Это могут быть и такие понятия (главное среди них – знак!), которые находятся внутри традиции, но выходят за ее рамки, позволяя нам переосмыслить всю проблематику означения, и обычные понятия, взятые в особом повороте (письмо).
Здесь мы начинаем с «деконструируемого» и переходим к «деконструирующему», хотя при желании можно было бы строить понятийные ряды и в обратном порядке. А как нужно, как «правильно»? Деррида очень любит «путать» и «озадачивать» читателя. Вы хотите знать, как меня читать, – говорит он интервьюерам в «Позициях», – все равно: можете начинать с «Письма и различия», а в центр этой книги вставить «Грамматологию», а можете начать с «Грамматологии», а «Письмо и различие» вставить как набор иллюстраций наряду с очерком о Руссо. А если расширить перспективу, то можно представить все три работы 1967 года как одно общее вступление к еще не написанной работе или же как эпиграф – но уже к тому, чего вообще никогда не удастся написать (В.П.). Так на наших глазах меняется угол зрения и масштаб рассмотрения текстов.
Вместе с изменением угла зрения меняется и вид концепции. Прежде чем перейти к обсуждению основных ее понятий, попробуем еще раз зафиксировать то состояние, для которого эти понятия значимы, и наметить некоторые связки между ними. Например, так.
Жизнь усложнилась, от человека до истины дотянуться все труднее, между ними – расширяющийся слой посредников, наросший в языке. «Наличие», область данного и несомненного, отступает в бесконечную даль. Между ними и нами вытягивается ряд ступеней, каждая из которых доносит до нас только «след» предыдущей. Этот ряд такой длинный, что даже за ним, на горизонте, мы отчаиваемся предполагать окончательное наличие, а предполагаем лишь ступени-следы, сгущающиеся за нашей спиной в «прото-след». Ступень от ступени, след от следа отличается «различием». Общую индивидуализирующую функцию этих различий мы называем «различанием» (В.П.). Способ ее существования мы называем «письмом» или скорее, «прото-письмом» (слова «письмо» и «прото-письмо» – это постоянно обыгрываемая метафора: ведь письмо – это расчленение потока речи на слова, звуки и буквы, а здесь имеется в виду сам принцип расчленения, артикулирования). Неполнота каждого слова связана с тем, что мир перед нами предстает не в бытии, а в становлении. А точнее, одновременно и во времени становления, и в пространстве расчлененного расположения, или «разбивки». Каждая частица этого мира соотносится не только с собой в прошедшем и будущем, но и со своими соседями в синхронно-настоящем. Эта двоякая соотнесенность называется «восполнением»: каждая неполнота стремится к полноте, но никогда ее не достигает, ибо чем больше добавляется из вне, тем больше изымается из как бы наличного. Так как единое и полное наличие растворилось во множественности следов и она бесконечна, то эта бесконечность не может быть центрирована, иерархизирована, «логоцентрична»: отношение между отдельными ее неполнотами определяется не логикой самотождественного разума, а логикой несамотождественного восполнительства (В.П.), побуждаемого сперва потребностью, а по миновании потребности – воображением.
Конечно, Деррида воспротивился бы такой суммарной картине его представлений и заявил бы, что никакой суммарной картины у него нет; тем не менее она все же возникает, и при взгляде со стороны мы можем исходить только из нее. А при взгляде изнутри, конечно, для Деррида главное – не готовая картина, а процесс работы: ему важно, чтобы вязкая толща языка-посредника, в которой барахтается человек, не затвердела, и он старается разбить ее трещинами, расчленить и перечленить. От этого – намеренная парадоксальность его терминологии: «след» (неизвестно чего), «письмо» до языка (потому что сквозь толщу посредников звучащая речь не доходит, и письменная становится важнее); от него же – демонстративная нестандартность стиля, напряженно стремящегося выговорить языком нечто, отрицающее язык.
И все же постараемся вычислить в этом процессе, как бы приостановив его, отдельные понятия и рассмотреть их поодиночке. Все перечисленные ниже понятия берутся только из данной книги.
Наличие (présence). Способ бытия всего, что существует (и в аналогическом, и в антропологическом смысле). Это огромная по силе и объему абстракция, придуманная Деррида. Истоки ее прежде всего хайдеггеровские. Однако ее можно считать собственным понятием Деррида, концептуальным артефактом, поскольку ничто в предшествующей традиции не может сравниться с приписываемой наличию содержательной емкостью. Для Деррида наличие – это огромное понятие всей западной метафизической традиции. Эта сверхмощная абстракция предполагает такие характеристики, как полнота, простота, самотождественность, самодостаточность, сосредоточенность на том, что в современном философском языке называется «здесь и теперь» (настоящем как вечно присутствующем), нередко – данность сознанию.
Фактически в тексте книги этим общим именем могут быть обозначены события, относящиеся к разным понятным рядам. Понятие наличия пересекает материальное и идеальное, эмпирическое и трансцендентальное, рациональное и иррациональное, сенсуалистическое и рациональное и т.д. Атрибут наличия будет равно соотносим с понятиями Спинозы и Гуссерля, средневековых мистиков и современных структуралистов. В широком плане равно наличным будут и интеллектуальные очевидности разума, и сенсорные данные, и жизнь в целом.
Наличие и наличность (иногда речь идет о накапливаемых количествах) могут быть представлены в разных формах: как нечто просто наличное (аристотелевский «стол»); самоналичное (точнее, наличное перед самим собой (présent á soi) – тут уже Деррида фактически фиксирует некоторую несамотождественность, выход за пределы самодостаточности) – таковы субъект, самосознание, когито, со-наличное (Я и другой).
* * *
СНВ
ОСР-Б: Прв-1.8.1. Основы философии.
(От классики к современности)
. . . Ч. 3. ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
. . . РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
Социальная философия – это философская концепция общества. Социальная философия занимает свое место среди наук, изучающих общество в различных аспектах и проявлениях. Ее предметом являются вопросы наиболее общего характера, касающиеся общественной жизни. Главным из них является вопрос о смысле общественных институтов и общества в целом.
Глава I. Социальная философия и социальная наука
. . .
Глава II. От классического к постклассическому образу
социальной реальности
. . .
Глава III. Понятие интерсубъективности
В рамках постклассического подхода было подвергнуто сомнению стремление философской классики максимально исключить при рассмотрении общественной жизни все субъективное, представить общество в первую очередь как образование объективное, близкое по объективности своих основных параметров природным объектам. Постклассический образ социальной реальности построен на признании ограниченной правомерности исключения субъективной стороны общественной жизни. Подразумевается, что исключение субъективной стороны оправдано и необходимо только в ограниченных пределах, с учетом конкретных исследовательских задач. Вместе с тем и сама субъективность предстает по-новому, прежде всего как интерсубъективность.
Понятие «интерсубъективность» ярко выражает одну из важнейших особенностей социальной философии XX в. Именно с понятием интерсубъективности во многом связан новый образ социальной реальности, характерной для философии XX в. Истоки этого понятия восходят к трансцендентальной феноменологии Э. Гуссерля. Его дальнейшее развитие связано с именами таких философов, как М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамар, Х.Ортега-и-Гасент, М. Шелер,
Ж.-П. Сартр, Г. Марсель, М. Меро-Понти, П. Рикёр и др.
Понятие интерсубъективности призвано преодолевать деление на субъект и объект, характерное для классической социальной философии и для классического обществознания в целом. Интерсубъективность основана на представлении об особого рода реальности, складывающейся при взаимоотношениях людей. В своих истоках эта реальность есть взаимодействие «Я» и «Другого». Жизненный мир как предельно широкая сфера человеческого опыта с необходимостью интерсубъективен. «Жизненный мир… – пишет известный современный последователь феноменологии А. Шютц, – не является моим частным. К нему принадлежат другие, не только как тела и объекты моего опыта, но как alter ego*, т.е. субъективности, наделенные такой же активностью, как и я»
* * *
СНВ в СНВ – №
ОСР-Б: Прв-1.8.1.1. «Понимающая социология» А. Шютца
А. Шютц опирался на гуссерлианские положения по проблеме жизненного мира, различая его как сферу непосредственно-очевид-ного нерефлектированного «верования» (жизнь) и переживание его, схваченное в рефлексии (мысль) [55]
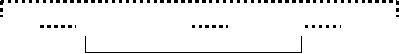
Жизнь рефлексия мысль значение
- Живое «здесь–и–сейчас» неуловимо в рефлексии: жизнь и мысль несовместимы (живое настоящее выпадает из сферы значимого).
- Объективирующая рефлексия схватывает прошлое (уже пережитое) «внутреннего переживания времени» (дискретные элементы мира).
- Значение – это способ, которым «Я» («Эго») рассматривает свое переживание (схваченное в рефлексии).
Согласно Шютцу, жизненный мир – это значение, которое наличествует (наличный запас знаний), это мир моей повседневности, конституированный в прошлом. Поэтому мы не можем «схватывать» наше собственное действие в его актуальном и настоящем.
Вместе с тем жизненный мир не является моим личным (собственным) миром: он переживается точно так же и теми, кто находится рядом со мной. В то же время эти «другие» являются моей неотъемлемой частью и элементом окружающей меня среды. Таким образом, «Я» и «Другие» входят в их «биографические ситуации» как элементы мира повседневности: они одинаково строят свой «наличный запас знаний» и придают субъективное значение переживаниям.
Однако действия «другого» мы переживаем в их живом свершении, тогда как он свои – путем рефлексии лишь в прошлом. Поэтому каждый знает о «другом» больше, чем о себе, о собственном потоке сознания: получаемые при этом знания различны. Кроме того, в данном интенциональном акте постижение собственного переживания непосредственно, а постижение переживания другого осуществляется через «выражение» его переживания – телесного, символического и т.п. Затем последнее соотносится с выбранной «Я» схемой интерпретации, что позволяет переходить от «выражения» переживаний другого в их актуальности к его живому опыту.
«Схватывание» собственного потока сознания и потока сознания другого происходит в едином интенциональном акте, объединяющем вместе эти два потока. В результате образуется настоящее, общее для обоих – чистая сфера «Мы»: дерефлексивная живая одновременность, т.е. самоочевидно данный факт как факт жизненного мира.
Такова суть теории интерсубъективности (В.П.), объясняющей с помощью феноменологического метода, что социальная реальность – это феномен сознания множественных субъектов: жизненный мир есть социально-психологическая реальность, которая формируется в коммуникациях «Я» и «другие». Следовательно, нельзя явление жизни делить на «первичные» и «вторичные», ставить их в функциональную (или причинную) связь, а затем подвергать рефлексии. Стремление позитивистских наук об обществе тематизировать (то, на что человек обращен) интерсубъективность, объектировать живую реальность человеческих отношений по канонам «научного метода» является искажением реальности…
Э.А. Капитанов [75]. С. 241–243.
Конец СНВ в СНВ – №
* * *
… Таким образом, Другой – это тот, кто наделен своим собственным душевно-духовным миром, своим собственным потоком сознания. Кроме того, Другой дан мне, по выражению Э. Гуссерля, «в модусе там», в то время как мое собственное существование – «в модусе здесь»: я могу изменить место моего нахождения, но где бы оно ни находилось, это будет мое «здесь». Существование же Другого навсегда остается для меня в рамках модуса «там», более или менее близкое к моему «здесь», но никогда не совпадающего с ним. Следовательно, ни при каких условиях я не могу пережить в сознании богатство личности Другого. Другой не может быть полностью открыт мне даже в самых интимных отношениях…
… Признание интерсубъективности в качестве важнейшего свойства социальной реальности влечет за собой ряд следствий принципиального характера. Оно определяет, в частности, отказ от рассмотрения социальной реальности с точки зрения «логики проекта». Под «логикой проекта» авторы XX столетия имеют в виду идущее от Просвещения и характерное для многих мыслителей XIX в. стремление разработать и предложить обществу всеобъемлющий проект общественного переустройства…
… Интерсубъективность, таким образом, означает, что общество всегда является состоянием радикального плюрализма, множественности. Плюрализм принимает скрытые формы в том случае, если общественная система ориентирована на подавление его открытых форм. Общество можно уподобить огромному бурлящему котлу, в котором все «варятся», но никто не желает «плавиться». Напротив, каждый стремится отстоять свою собственную субъективность. Речь при этом может идти не только о личностях, но и о народах, стремящихся сохранить свою языковую и культурную самостоятельность, об общественных группах, отстаивающих свои интересы, о множестве религий, ни одна из которых не допускает и самой мысли о предписанном некоторыми отмираниями религиозного мировоззрения, и т.д., и т.п. Следует еще раз подчеркнуть, что речь идет не о желании (или нежелании), а о принципиальной невозможности перепоручить себя другому. Познав, что все мы такие разные и, более того, чтобы отстаивать право оставаться самими собой самым решительным образом, мы должны осознать всю важность встающего перед нами вопроса: как жить вместе? Особая острота этого вопроса понятна лишь с учетом интерсубъективности, т.е. признания того, что другой столь же субъективен, как и я, поэтому ни один из нас не вправе выставлять требование целиком разделять убеждения, близкие и дорогие одному из нас…
В.Ф. Шаповалов [74]. С. 425–442.
