«интеллигенции»
| Вид материала | Лекция |
- Вариант 18. Роль интеллигенции в истории России Содержание, 456.4kb.
- Лекция Менталитет интеллигенции 40-х 50-х годов xix-го века. «Литературное обособление», 152.23kb.
- Е. В. Бакшутова социально-психологический анализ русской интеллигенции, 251.64kb.
- Российской интеллигенции, 1500.84kb.
- Конкурс на лучшую работу по русской истории «Наследие предков молодым. 2008», 940.39kb.
- Истоки и смысл русского коммунизма введение. Образование русской интеллигенции, 2188.64kb.
- Н. А. Бердяев решает проблему философской истины и интеллигентской правды; С. Булгаков, 51kb.
- Г. Красноярск, кгпу им. В. П. Астафьева об источниках формирования интеллигенции енисейской, 213.96kb.
- Партийно-государственная политика по формированию инженерно-технической интеллигенции, 390.4kb.
- Б. И. Колоницкий идентификации российской интеллигенции и интеллигентофобия (конец, 310.09kb.
Лекция 7
Философские и общественно-политические идеи русской интеллигенции
(реалисты и народники)
· Феномен «интеллигенции»: происхождение, ментальность, ключевые ценности
· Реалисты
· Народники
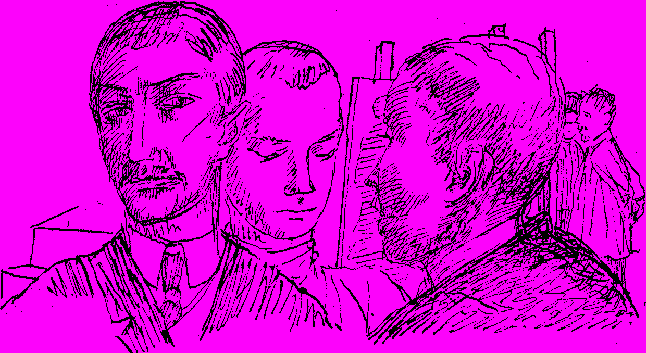
Феномен «интеллигенции»: происхождение, ментальность, ключевые ценности
История русской мысли тесно связана с историей того небольшого по численности слоя «русских европейцев», который, действуя с поразительной энергией и размахом, вывел Россию на агору1 европейской культуры и придал отечественной культуре форму, позволившую ей вступить в плодотворный диалог с динамично развивающимися странами Запада. Конечно, и до ХVIII-го века Русь не была изолирована от внешнего мира, однако она не была включена в жизнь европейской культуры, пребывала вне общего для Новой Европы ценностно-смыслового контекста и не оказывала воздействия на духовную жизнь Запада2. О причинах обособления России от католическо-протестантской Европы в свое время было сказано достаточно подробно (см. часть I, лекцию 1). Здесь же уместно лишь повторить, что в основе относительной обособленности (как и единства) древнерусской культуры по отношению к культуре Запада лежала не только ее связь с православной Византией, с Константинополем, но и невосприимчивость Древней Руси к рациональной (научной, философской, правовой) традиции античного мира.
Петровские преобразования в области культуры были нацелены на создание иного, чем древнерусский, типа культуры. Они совершались в расчете на то, что новоевропейская культура постепенно станет «своей» для всех русских людей, то есть для «народа», который в ХVIII-ХIХ веках, подобно бескрайнему океану, со всех сторон окружал медленно растущий остров «новой России». Смысл культурной реформы, начатой Петром I, состоял в том, чтобы Москва освоила общую всем народам христианской Европы научно-философскую традицию (восходящую в конечном счете к традиции античной образованности), которой она была лишена в древнерусский период своей истории. Достижение этой цели позволило бы взаимодействовать с Западом не только в торговле и политике, но и в сфере культуры, в мире идей, стилистических форм, общественных институтов, научных и технических экспериментов, не знающих государственных и религиозно-конфессиональных границ3.
В Новое время дистанция между пережившим Возрождение и Реформацию Западом и патриархальной Москвой только увеличивалась, поскольку темп исторического развития Европы все время возрастал, а Россия жила «по старинке», держась за дедовские устои и традиции и лишь поневоле, нехотя принимая идущие с Запада технические «новины». Этот все увеличивающийся разрыв ставил под вопрос военно-политическую самостоятельность Москвы и уже не мог быть преодолен на пути естественного, органического развития России.
Рождение интеллигенции
Новая, заимствованная с Запада и гуманистическая по своей направленности культура насаждалась в России «сверху» и первоначально концентрировалась в русском дворянстве как прообразе русской интеллигенции. И хотя в первой части пособия мы говорили о «дворянской интеллигенции», как социальной базе русского «европеизма», но все же в строгом смысле (без кавычек) интеллигенция рождается только во второй половине XIX столетия. И пусть сама русская интеллигенция ведет отсчет собственной истории с конца ХVIII-го века (видя первых интеллигентов в Новикове и Радищеве, а позже — в декабристах, в Белинском и Герцене…), однако ее возникновение как общественной группы наделенной особым самосознанием можно датировать не ранее второй половины ХIХ века. Именно к этому времени относится появление в русском языке самого термина «интеллигенция» (его ввел в оборот писатель П. Д. Боборыкин), закрепившегося за идейно и политически активной частью «образованного общества», унаследовавшей ценностные установки западнического движения, а ближайшим образом — его радикального крыла, то есть традиции Белинского-Герцена. Принадлежность к интеллигенции была сопряжена прежде всего с принятием социально заостренных ценностей гуманистической цивилизации модерна как той правды, за утверждение которой стоит (и должно) бороться.
Русская интеллигенция ХIХ-ХХ веков была в массе своей социалистической, ее пламенные апостолы и первые летописцы — это народники и их наследники в ХХ столетии. Отношение «образованного общества» к интеллигенции было неоднозначным: к интеллигентам причисляли себя далеко не все «сторонники прогресса» и демократических преобразований. Кто-то и хотел бы считать себя интеллигентом, но интеллигентское сообщество могло с этим не согласиться, и наоборот, какие-то люди и группы отрицали свою причастность к интеллигенции, но их могли рассматривать как интеллигенцию. Так, например, русские марксисты в разное время соотносили себя с этим морально-политическим и культурным типом по-разному: сознавая свою связь с интеллигенцией и отдавая дань уважения ее прошлому, марксисты в то же время подвергли ее суровой критике и попытались придать ходовому термину новый смысл, устранив из него духовный и этический компоненты и акцентируя социально-культурное его значение (интеллигенция для марксистской социологии — это прослойка, обеспечивающая — духовно — интересы господствующих классов или же встающая на сторону угнетенных классов). Так или иначе, но с содержательной точки зрения философское мировоззрение интеллигенции было ограничено рамками материализма и позитивизма, а ее общественно-политическая программа не выходила за рамки социалистических и — на маргинальной периферии интеллигентской «церкви» — либерально-демократических идей4.
Историю русской философии тех лет сложно понять, не уяснив того места, которое в общественной и культурной жизни России занимала интеллигенция. Общественное мнение, поскольку оно в эпоху реформ становится реальностью русской общественной жизни, в значительной мере определялось идеологами интеллигенции, а ее философские симпатии и антипатии неизменно оказывались в центре внимания «читающей публики», поскольку наиболее популярные и влиятельные журналы защищали позиции различных группировок внутри интеллигентского сообщества. Его идейные вожди без колебаний отлучали от исторического прогресса все те явления русской культуры, которые не вмещались в интеллигентский «идеал», не соответствовали ее «мировоззрению», ее правде. Даже те мыслители второй половины ХIХ века, которые не принадлежали к интеллигенции (например, почвеннки Н. Федоров, Вл. Соловьев, Л. Толстой и Ф. Достоевский), вынуждены были считаться с ней, реагировали на неё, то есть зависели (пусть и отрицательно) от интеллигенции и ее миросозерцания.
Какие же признаки определяли принадлежность к интеллигенции? Ответ на этот вопрос может вызвать затруднение прежде всего потому, что интеллигенцию невозможно определить извне (социологически). Интеллигенция возникла как духовное движение, как направленность умов и воль. Вот почему так важно знать, что думала о себе сама интеллигенция и что думали о ней те, кто к ней себя не относил. Наиболее краткое и точное ее определение, пожалуй, дал выдающийся историк отечественной культуры Г. П. Федотов: «Русская интеллигенция, — пишет он, — “идейна” и “беспочвенна”»5. Первое утверждение есть ее самоопределение, то, что она сама о себе говорила и думала. Второе принадлежит ее критикам и недоброжелателям. Что означает идейность? Идейность в данном случае следует понимать как догматически воспринятую философскую и общественную теорию, обосновывавшую для интеллигента искомый идеал, то есть жизненную Цель, которой интеллигент служил не за страх, а за совесть и которая, в его глазах, оправдывала его жизнь, давала ей смысл. Такой идеал (вкупе с легитимирующим его мировоззрением) замещал собой религиозную веру и «властно прилагался к жизни как ее норма и канон»6, заняв в сердце и уме оторвавшегося от религиозной и бытовой традиции интеллигента место, которое в нем до той поры занимали Бог и православная вера. Идеал для интеллигента коренился в «идее». «Эта “идея” не вырастает из самой жизни, из ее иррациональных глубин, как высшее ее рациональное выражение. Она как бы спускается с неба, рождаясь из головы Зевса, во всеоружии, с копьем, направленным против Геи, — в этом мифе… смысл русской трагедии, то есть трагедии интеллигенции»7.
Интеллигенты были людьми, которые, приняв идеи европейского Просвещения всерьез, стремились следовать им на деле. Но поскольку они приняли их «по-русски», то есть религиозно-догматически, как своего рода «скрижаль новоевропейского (гуманистического) завета», то идеал Просвещения (идеал самостоятельной, критически относящейся к миру и к самому себе личности, идеал свободного, способного ходить «без помочей» человека) отлился для них в новый символ веры, был принят как безусловная истина, а все «инакодумающие» превратились во «врагов» (правды, народа). Враждебность интеллигенции по отношению к православию, к вере и церкви определялась подвергшимся немедленной догматизации содержанием европейского Просвещения в его «левом», антиклерикальном течении. «Идейность, — разъясняет Г. П. Федотов, — есть особый вид рационализма, этически окрашенный. В идее сливается правда-истина и правда-справедливость (знаменитое определение Михайловского). Последняя является теоретически производной, но жизненно, несомненно, первенствующей. Этот рационализм весьма далек от подлинно философской ratio. К чистому познанию он предъявляет поистине минимальные требования. Чаще всего он берет готовую систему “истин” и на ней строит идеал личного и общественного (политического) поведения. Если идейность замещает религию, то она берет от нее лишь догмат и святость: догмат, понимаемый рационалистически, святость — этически, с изгнанием всех иррациональных, мистических или жизненных основ религии»8.
Характерная для интеллигенции «беспочвенность» (то есть отрыв от религии, культуры, национального быта, от сословных привычек и корпоративных связей, от всего данного, органического) должна быть понята как отрицательная предпосылка идейности. Только на «почве» беспочвенности, на «основе» культурного отщепенства мог родиться феномен интеллигенции с ее «идейностью» и «идеалом». Разумеется, из беспочвенности как таковой «идейность» не вытекает, идейность как положительный определяющий признак социальной группы возможен только там, где почва (в том числе почва религиозно-конфессиональная) утрачена, а душевный склад остался — по сути — религиозным, нацеленным на последний смысл, последнюю правду, на служение великой цели, приобщение к которой способно оправдать жизнь отдельного человека. Руководствуясь «научно обоснованным миросозерцанием» и утратив связь с «почвой», интеллигент испытывал равнодушие или даже враждебность ко всем явлениям русской жизни, которые существовали в силу традиции, за исключением тех ее элементов, в которых он видел «зачатки новой жизни», прообраз чаемой правды (так, традиционная для русской деревни община воспринималась интеллигенцией как прообраз социалистического общежития). Интеллигенция по определению, то есть в силу своей беспочвенности и идейности9, была настроена на революционное или же постепенное, эволюционное (у либералов) переустройство общества, на активное социальное и политическое действие, нацеленное на преобразование жизни по скрижалям «гуманистического завета». Отсюда понятно, что разночинную по своему социальному составу интеллигенцию ни в коей мере не следует отождествлять с «людьми умственного труда» или с «людьми, получившими европейское образование». Принадлежность к интеллигенции была свидетельством нравственного выбора человека. Быть интеллигентом — значило вступить в своего рода «рыцарский орден» и связать себя присягой служения идеалу свободной человечности, приняв соответствующий кодекс чести и взяв на себя вполне определенные моральные обязательства10 .
При этом беспочвенность (как чисто отрицательный признак) объединяла все интеллигентские группировки, а идейность была признаком, который, по мере его содержательной конкретизации, оказывался основанием для отделения интеллигенции от образованного общества и для идеологического обособления разных течений внутри самой интеллигенции.
Законным следствием идейности интеллигенции было ее отталкивание от «мещанства»: русский интеллигент, к какому бы ее «толку» он не принадлежал, осознавал себя «другом народа» и врагом мещанства в том специфическом значении этого слова, которое придал ему Герцен (или, по крайней мере, сделал его широко употребимым, «ходовым»). В этом пункте левая русская интеллигенция сближается с почвенниками и поздними славянофилами. Здесь Белинский оказывается заодно с Хомяковым и Киреевским, а реакционер Константин Леонтьев подает руку демократу и социалисту Александру Герцену. Именно в среде русской интеллигенции сформировалось и закрепилось отрицательное значение слова «мещанин»: им стали определять людей «с мелкими, сугубо личными интересами, с узким кругозором и неразвитыми вкусами», тех, кто «безразличен к интересам общества»11. Позднее значение слова «мещанство» существенно отличается от первоначального его значения: «мещанин» (от «место», «местечко») — это городской житель, домовладелец (ремесленник, лавочник и т. д.). Подобно понятию «интеллигент», «интеллигентность», понятие «мещанство» получило в русской критике XIX веке этическую коннотацию: мещанином в этом позднейшем значении мог оказаться и помещик, и писатель, и студент, и офицер…
Ненависть интеллигенции к мещанскому, «мелкобуржуазному» (как любили выражаться русские марксисты) образу жизни, к типичным для «среднего класса» ценностям и интересам говорит о ее связи с установками романтического сознания, которое противопоставляет «героическую личность» — «толпе», человека, руководствующегося идеалом, — «заскорузлому обывателю», занятому исключительно удовлетворением своих «эгоистических интересов»12 . Мещанин — антипод интеллигента. В крепко стоящем на ногах обывателе интеллигент интуитивно опознает своего главного, самого упорного и опасного врага. Если внешний враг русской интеллигенции — абсолютизм, деспотизм, политическая и социальная несправедливость, сословные и классовые привилегии, темнота и забитость народных масс, то его главный внутренний враг это мещанство13. «Мещанство» (буржуазность) осознавалось как внутренняя, духовная опасность: оно соблазняло маленькими житейскими радостями (устроенным бытом, уютом семейного очага, материальным благополучием), оно склоняло к отказу от безнадежной борьбы «за идеал», от аскетической жизненной программы. В мещанине видели человека, которому внешние условия его жизни дают возможность (пусть и ограниченную) для реализации его человеческого достоинства, однако «мещанин» этой возможностью пренебрегает. Мещане (не в социологическом, а этическом значении) прекрасно обходятся без идеала, они хлопочут лишь о собственных нуждах и о нуждах своей семьи и самим фактом своего существования ставят под вопрос достижимость идеала всечеловеческого братства, служить которому интеллигент считал своим священным долгом. Интеллигента пугала перспектива омещанивания народа в «свободном обществе». Не приведет ли освобождение «народа» к размножению «мещанина» и господству «мещанских настроений»? Не родит ли гора — мышь? Не угрожает ли победа угнетенного большинства перерождением интеллигенции и того, что было народом в общество самодовольных и сытых мещан? Быть может, именно эта не до конца осознанная и продуманная мещанская перспектива всеобщего освобождения и торжества демократии и социализма были той почвой, на которой вырастало нравственное и эстетическое отвращение русской интеллигенции к «мещанскому началу» в человеке. Мещанин — это тот, кто стремится к обустройству своей собственной жизни, его почва — семейный очаг, домашний уют «с канарейками», мещанин — это персонаж чеховского водевиля, противопоставленный Чеховым людям интеллигентным, то есть тоскующим по идеалу и не способным удовлетвориться «маленькими радостями», которые время от времени дает им жизнь14.
Характерное для интеллигенции отталкивание от мещанства, от «буржуазности» и пафос героического служения «общему делу» (к освобождению народа) странным (с логической точки зрения) образом соединялись у интеллигенции с проповедью материализма и позитивизма, с попытками утилитарного обоснования этики и с верой в то, что решение политических, социальных и экономических проблем должно будет привести к материальному и душевному благоденствию «всех людей» (к обществу, где не было бы обиженных и несчастных). Таким образом, интеллигент прибегал к теориям, которые не могли служить теоретической основой интеллигентского морализма с ее пафосом аскетизма и подвижничества. Он добивался справедливого распределения материальных благ и мечтал о достижении каждым членом общества материального достатка, не отдавая себе отчета в том, что приближение этой цели может привести к размножению людей «мещанского склада». Как отмечал в свое время С. Л. Франк, русский интеллигент придерживался двойного морального стандарта: по отношению к «народу» он проповедовала идеал «материального довольства и благоденствия», а по отношению к себе самой (до тех пор, пока народ не освобожден) нравственный идеализм, аскетизм и жертвенность. Конечно, интеллигент утверждал, что накормить голодного и одеть раздетого нужно не только ради осуществления социальной справедливости и уважения к человеческому достоинству, но и для того, чтобы каждый человек, удовлетворив свои насущные потребности, приобщился к науке, искусству, культуре, развил свои способности, раскрыл свою творческую личность. Вопрос о том, захочет ли человек, обретший стол и кров, делать усилие, чтобы двигаться по пути умственного и морального «самосовершенствования», не ставился. Идеальное общество будущего должно устроиться само собой. Единственное условие для его возникновения в эксплуататорской цивилизации — слом внешних преград: государственной власти и общественных отношений, базирующихся на признании частной собственности.
По своему основному настроению русская интеллигенция была весьма далека и от научного, и от философского подхода к действительности. Ее идеализм был догматическим и утопическим. Вера в идеал, а вовсе не знание, давала ей энергию для борьбы за демократию и социализм. Однако демократизация России была гибельна для интеллигенции как специфического духовно-нравственного и общественного образования. Победа над внешним врагом (над самодержавной властью, темнотой масс, социальными привилегиями и т. д.) и демократизация политической жизни, повышение «народного благосостояния» повлекли бы за собой формирование общества, ценности и идеалы которого определялись бы уже не интеллигенцией, а человеком массы, то есть мещанином, его, мещанина, настроениями и ожиданиями.
