Оксана Комаричева*
| Вид материала | Документы |
- Акежева Оксана Батырбековна. Оксана Батырбековна родилась в 1975 году закон, 163.55kb.
- Воронцова Оксана Юрьевна 2009 г. Содержание программа курса, 648.99kb.
- Оксана Левицька, 101.58kb.
- Макеєвої Оксани Володимирівни Розуміючи важливість завдань, які стоять перед освітою, 30.49kb.
- Оксана Евгеньевна Макиевская, педагог-психолог, учитель математики и физики 1 категории,, 16.8kb.
- Овчарук Оксана Олександрівна методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний, 1031kb.
- Комарова Оксана Владимировна учитель технологии 1 категории моу «Высоковская сош» Зырянского, 111.71kb.
- Рекомендации к презентации Авторы: учитель -логопед Ковардакова Ирина Юрьевна, педагог, 102.35kb.
- Левинталь Оксана Михайловна главный юрисконсульт филиала ОАО «Пивоваренная компания, 149.6kb.
- Курс Широких Оксана Богдановна д п. н., профессор Романова Александра Александровна, 17.79kb.
Источники и литература:
- Шубин. П.Н. Избранное. Стихотворения и поэмы.- М.: Художественная литература,1988.
- Демин К.А. На четырех фронтах. Записки военного корреспондента.
- Коган А. Павел Шубин.- М.: «Советская Россия», 1974.
- Вспомним о тех, кто командовал ротами // Советская Россия 20.01.85.
- Фролов В. Живой голос // Ленинское знамя 14.03.74.
- Купавых В.А. Павел Шубин Рукопись
- Исаев И.Д. Письмо К.А.Демину 20.02..83. // Школьный музей, инв.№ 705.
- Воспоминания Подколзиной А.М., соседки Шубиных//Школьный музей, инв.№ 555.
- Воспоминания Бельских (Козьяковой) Е.И., одноклассницы Шубина // Школьный музей, инв .№ 556, 557).
- Воспоминания Григорьевой К.И., знакомой Шубина.//Школьный музей, инв. № 554).
- Биография П.Н.Шубина, написанная его сыном Школьный музей. инв.№ 558).
- Воспоминания Мезенцевой (Нецветаевой) Е.И., учительницы Шубина // Школьный музей, инв. № 562).
- Копия открытки, присланной П.Шубиным Алферовой А.М.// Школьный музей, инв..№ 560).
- Список одноклассников и учителей П.Шубина. Рукописный текст Алферовой А.М. // Школьный музей, инв. № 702).
- Шубин. П.Н. Сборник стихотворений. – М.: Художественная литература. – 1982.
- Шубин П.Н. Здесь вся моя жизнь. Сборник стихотворений. - Петрозаводск. -1985.
- Благодарная память народа.//Ленинское знамя, 1980. № 227.
- Шубин П.Н. Сборник стихотворений. – М.: Художественная литература. – 1958.

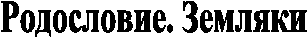
Ольга Кудрявцева,
МОУ СОШ № 1 п. Добринка.
Научный руководитель - В.В. Елисеев, методист ДЮЦ «Ритм»
СЫН ЗЕМЛИ ДОБРИНСКОЙ
(Николай Анатольевич Бунин)
Лауреат Нобелевской премии И.А. Бунин писал: «Я происхожу из старого дворянского рода, давшего России немало видных деятелей, как на поприще государственном, так и в области искусства, где особенно известны два поэта начала прошлого века: Анна Бунина и Василий Жуковский...». [1] К сожалению, о Николае Анатольевиче Бунине великий писатель ничего не сообщает. Кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ЛГПУ А.А. Иванов приводит биографическую справку о нашем земляке в I томе Липецкой энциклопедии. [2] Однако в энциклопедии написано, что Н.А. Бунин родился в 1784 году. В самом деле, согласно документам Государственного архива Тамбовской области, он родился в 1783 году.
Я живу на Добринской земле, и с этим краем была связана жизнь Николая Анатольевича. К сожалению, время безжалостно, безжалостны и люди. В 1917 году огню и разрушению было предано поместье, некогда принадлежавшее Бунину. Когда-то еще сохранялись валы, ограждающие его имение. Но и их распахали.
Родился Николай Анатольевич в сельце Марфино. Оно носило и другое название - Бунинское. Согласно «Экономическим примечаниям» Усманского уезда, добринские Бунины имели поместья в деревнях Бунинской и Степановской у речи Матренки, в деревне Тихвинской на реке Плавица и сельце Бунинском, Марфино тож, что по обе стороны Плавицкого отвершка. [3] Деревнями Бунинской и Степановской владели подпоручик Максим Дмитриевич Бунин, кадеты Петр, Федор, Дмитрий Максимовичи Бунины.[4] Деревней Тихвинской владели малолетние Александр, Николай Анатольевичи и девица Варвара Анатольевна Бунины.[5] Александр - это брат, а Варвара - сестра Николая Анатольевича. Этот архивный документ датируется 1785 годом, Николаю Бунину было всего два года. В сельце Бунинское, согласно документам, жили отец Николая Анатольевича - отставной прапорщик, инженер Анатолий Дмитриевич, прапорщик Петр Максимович и «порутчица» Екатерина Григорьевна Бунины. В этом сельце было два господских дома. Один из них принадлежал Анатолию, другой Петру. Были они мелкопоместными помещиками. Согласно пятой ревизии (1794 г.) за Анатолием Дмитриевичем было всего лишь 6 крестьянских дворов с населением 20 человек мужского пола и 26 - женского. Его родственнику принадлежало всего 5 дворов с 19 душами мужского пола и 24 душами женского пола.[6] Если мы внимательно рассмотрим родословие Буниных, то окажется, что Максим и Анатолий были родными братьями. И надо случиться тому, что их дети - Дмитрий Максимович и Николай Анатольевич, двоюродные братья, связали свою жизнь с русским флотом. Дмитрий Максимович дослужился до капитан-лейтенанта, участвовал в морских сражениях при Дарданеллах и Афоне под командованием Дмитрия Сенявина. За отличие при Афоне он был награжден орденом Святой Анны 3-й степени. [7]
После выхода в отставку Дмитрий Максимович поселился в сельце Денисовка Раненбургского уезда Рязанской губернии, что ныне в Чаплыгинском районе нашей области. Денисовка носила другое название - Дуреломовка. В Денисовке долгие годы жила и умерла родная тетка Дмитрия Максимовича, «русская Сафо», поэтесса А.П.Бунина, которая приходилась теткой и Николаю Анатольевичу. Как и Николай Анатольевич, в своей Дуреломовке Дмитрий Максимович создал образцовое имение, о чем пишет известный ученый-географ, академик П.П.Семенов-Тян-Шанский.[8]
Дмитрий Максимович был старше Николая Анатольевича на три года. Как и его двоюродный брат, рожденный за тысячи верст от морей, Николай Анатольевич решил связать свою жизнь с российским флотом. В тринадцатилетнем возрасте он становится воспитанником Морского кадетского корпуса. В 1798 году его производят в гардемарины. Начиналась его морская карьера на Балтийском море. Он служит на кораблях «Николай» и «Глеб». В 1801 году Бунина производят в чин мичмана.[9]. Он по-прежнему продолжает службу на Балтике – «обретается» на новостроящемся корабле «Скорый». В 1802-1805 г.г. Николай Анатольевич плавает на бригах «Святой Петр» и «Эмгейтен». Зиму 1803-1804 г.г. он проводит в отпуске в родном Марфино. Согласно аттестации 1805 г.мичман Бунин «поведения благородного, в должности знающ и к оной усерден, но по слабому здоровью на море службы продолжать не может». [10] В январе 1806 года по состоянию здоровья он уходит в отставку в чине мичмана [11]. Поселился в Марфино, где проживала его родная сестра Варвара Анатольевна и ее муж, тоже моряк, Иван Александрович Павлов. [12].
Выдающийся хозяин-администратор
Николай Анатольевич считался мелкопоместным помещиком, которых в тогдашнем Усманском уезде были сотни. Но в отличие от них, Бунин со временем осознал, что вести хозяйство по старинке невозможно. В 1843 году, путешествуя по России, Марфино посетил прусский чиновник, барон и экономист Гакстгаузен. Он был потрясен тем, что увидел в Марфинской экономии. И хотя всего лишь один день пробыл здесь гость, но сумел рассмотреть многое. По его словам, Бунин «вел сельское хозяйство на основании рациональных начал большой практической опытности» и ввел у себя «голштинское хозяйство». [13] В отличие от других посещенных помещичьих имений, немецкий гость увидел, что большинство полей в Марфино огорожено изгородью по валу, остальные были «обведены загородкою от потрав скотом». Вал этот можно было увидеть до 70-х годов XX в., а затем он был распахан. Основным принципом хозяйства, по словам Гакстгаузена, в Марфинской экономии было, чтобы «как только возможно часто менять сорта хлебов в поле, а между ними (но не каждые три года) оставлять чистый пар с двукратной распашкой поля...». В отличие от соседних помещиков Бунин использовал новейшие сельскохозяйственные орудия и прогрессивную технологию земледелия. В употреблении были всевозможные плуги, молотильные и различные земледельческие орудия. Все это Николай Анатольевич приобретал либо в России, или же выписывал из-за границы. В своей экономии Бунин широко применял невиданный в здешних местах многопольный севооборот. В первый год земля засевалась озимой пшеницей, на второй - просом и ячменем, затем чистый пар, на четвертый год - рожь, на пятый - гречиха, затем земля вновь паровала. Весной вносились удобрения, и сажался картофель, который большинство помещиков не признавало. На седьмой год сеялась яровая пшеница, на восьмой - овес, на девятый - вносились удобрения, и земля вновь отдыхала. И этот цикл регулярно повторялся. Николай Анатольевич одним из первых в губернии и уезде стал вносить в почву навоз. По словам того же Гакстгаузена, «земля удобряется сильно...».
Бунин добился того, что его крестьяне «до известной степени переняли у него способ хозяйствования, по крайне мере они удобряют землю под озимую пшеницу, но для окружных крестьяне и даже для соседних помещиков пример его (Бунина) не имеет до сих пор никакого значения».
Отношения между помещиком и крепостными, как отметил наблюдательный немец, были деловыми. По словам Гакстгаузена, «крестьяне г. Бунина зажиточны», «они на барщине, но господин Бунин самым точным образом определил и обязательную работу. Крестьяне обязаны работать три дня в неделю, однако каждому рабочему точно определяется и предписывается, что он должен сделать: например, в рабочий барщинный день полагается вспахать полдесятины или скосить половину большой десятины ржи, или половину казенной десятины овса или сена. Женщина должна в день сжать 2 ряда и вязать по 4 крестца в каждом ряду, по 13 снопов в каждом крестце. Крестьяне прилежны, работают скоро, оканчивают обыкновенно свои уроки к половине дня. Владелец и крестьяне в хороших отношениях друг к другу…».
Близкий родственник Бунина - известный географ-ученый П.П. Семенов-Тян-Шанский (его дед Николай Петрович Семенов был женат на Марии Петровне Буниной - родной сестре поэтессы Анны Буниной) называл Николая Анатольевича «идеалом лучшего хозяина при крепостном праве». Но одновременно Петр Петрович замечает, что «много нужно было упорного труда и усилий для такой деятельности, которая была возможна только при энергичном и даже суровом применении крепостного права. Но дело увенчалось, и семья, обладавшая первоначально ста душами, разбогатела, администрация с крепостными крестьянами велась хотя и без жестокости, но с неумолимой строгостью всякие уклонения от установленного порядка преследовались определенными наказаниями, между которыми телесные, конечно, стояли на первом плане». Особенно строгой была сестра Николая Анатольевича - Варвара Анатольевна, которая вышла замуж за отставного лейтенанта Российского Флота Ивана Александровича Павлова. В ее ведении были дворовые. Она нещадно расправлялась с провинившимися. «Режим дворовых людей был еще более строгий, каждый делал свое определенное дело ежедневно, и никакого отступления от принятого порядка не допускалось. В особенности замечательна была организация женского труда, впоследствии так пленившая немецкого путешественника барона Гакстгаузена, которому во время посещения Марфина товар был показан лицом и заслужил полное его одобрение. Обширная многолюдная девичья В.А.Павловой была настоящей фабрикой кустарных изделий: изготавливались прекрасные для того времени ковры, кружева, ткани и т.п. Вся эта работа была рассчитана по урокам, но особенно была тяжела для девушек введенная хозяйкою дисциплина, и много они переносили побоев и наказаний, не исключая стрижки волос и т.п...». По словам Семенова-Тян-Шанского, наблюдения за ведением хозяйства у Бунина позволили Гакстгаузену сделать такой вывод: «Если бы русскому правительству удалось определить так же точно барщинную работу, как в данном имении, это было бы более желательно, нежели уничтожение крепостного права».
Петр Петрович часто бывал в Марфино, где «степная местность была далеко не красивая. Сады, разведенные вокруг близких одна от другой и родственных нам усадеб, были невелики и очень непривлекательны, реки не было, но пруды были довольно обширны. Дома одноэтажные, невысокие, не имели ни малейшего притязания на красоту...» По словам Семенова-Тян-Шанского, Николай Анатольевич, живя в деревне со своею единственною замужней сестрою и ее мужем Иваном Александровичем Павловым, посвятил всю свою продолжительную жизнь сельскому хозяйству, сделавшему его самым выдающимся хозяином-администратором и агрономом во всей губернии, и заботам о семье своей сестры. Петр Петрович свидетельствовал, что предприимчивый Н.А.Бунин и Горлов (его сосед) делали все, чтобы разбогатеть. Они покупали за бесценок земли в Саратовской губернии и переселяли туда не только своих, но и купленных «на своз» у других помещиков крестьян. Тем не менее, Семенов-Тян-Шанский считает Бунина прогрессивным помещиком. Гордостью Николая Анатольевича был конный завод, где в конюшнях содержалось 130 лошадей. Николай Анатольевич уступал только Савельевым и Вяземским, у которых соответственно насчитывалось 330 и 150 коней. В документах Государственного архива Тамбовской области за 1823 год значится, что Бунин владеет имением при селе Нижней Матренке, где проживали государственные крестьяне. Согласно архивному фонду «Тамбовского Губернского Дворянского Депутатского собрания» за 1812 год (от 22 июля) имеется прошение Николая Анатольевича о причислении его к Тамбовскому дворянству. Согласно этому прошению, он, 1783 года рождения, холост, владеет имением в сельце Марфино. Просьбу Бунина удовлетворили, внеся его в 6-ю часть дворянской родословной книги Тамбовской губернии. Другие документы архива свидетельствуют о том, что Николай Анатольевич представил в губернское депутатское собрание грамоту от 20 декабря 1795 года, согласно которой его отец инженер-прапорщик был внесен в дворянскую родословную книгу (6 часть) Воронежской губернии. Другой документ - Указ от 24 января 1806 г., который был дан из Государственной адмиралтейской коллегии уволенному от службы мичману Николаю Бунину, по коему значится, что он «находился в Балтийском корабельном флоте в службе 1796 июня 5-го, в Морском корпусе кадетом - 1798 мая 20-го, гардемарином - 1800 декабря 15-го, унтер-офицером, мичманом с 1801. С 1806 года января 11 дня по Высочайшему повелению по прошению его за болезнями уволен от службы тем же чином».
Общественный деятель
Следует отметить, что окрестные помещики очень внимательно следили за соседом - образцовым хозяином. В 1819 году дворяне Усманского уезда избирают Бунина своим предводителем. На посту предводителя уездного дворянства Николай Анатольевич находился до 1828 года. Стоит отметить, что до него и после него в уезде никто никогда не избирался на такой большой срок. Бунин оправдал доверие дворян уезда. Он лично в 1820 году встречал императора Александра Первого в уездной Усмани. 26 марта 1824 года в губернском Тамбове он вновь был представлен императору.
Чтобы сократить смертность населения в уезде и городе, Бунин предложил распространять среди крестьян листовки с наставлениями об уходе за больными и за грудными младенцами, о мерах предупреждения болезней и о первой помощи при несчастных случаях. Он предлагал также, чтобы городские акушерки во время приема родов показывали деревенским повитухам, как следует оказывать помощь роженицам. В 1828 году по настоянию Бунина в Усмани построили городскую больницу, в которой было 6 маленьких палат на 15 коек. Позднее их количество возросло до 20. Неоднократно Николай Анатольевич ставил вопрос об открытии уездного училища. В 1820 году через губернатора, который категорически потребовал открыть учебное заведение, Бунин обратился к купцам, помещикам и мещанам с просьбой оказать финансовую помощь. Только через год, когда Бунин вновь поднял вопрос об открытии в Усмани училища, начался сбор средств. Торжественное открытие училища состоялось 19 мая 1821 года. Перед собравшимися «держал речь» Бунин, говоривший о пользе знаний. В уездном училище стали учиться 15 человек - дети купцов, мещан, солдат, чиновников. Николай Анатольевич настоял, чтобы обучение было бесплатным. Благодарные усманцы официально присвоили ему звание «почетного блюстителя и благотворителя». Николай Анатольевич старался, по возможности, оказывать помощь своему детищу, поддерживал педагогов, работающих в училище.
Николай Анатольевич понимал пагубность крепостного права в России. В своих мемуарах Семенов-Тян-Шанский пишет, что Бунина хорошо знали в столице, к его мнению прислушивались. В 1837 году министром государственных имуществ был назначен граф Павел Дмитриевич Киселев «новый министр, знакомясь с мнением корифеев крепостного права о возможности его отмены, вступил в переписку и с Н.А.Буниным, довольно долго состоял с ним в переписке и встретил в нем сочувствие к делу освобождения крестьян». Бунин был активным членом двух сельскохозяйственных обществ - Московского и Лебедянского. В 1832 году вышла его книга «Мысли о русском хозяйстве и некоторых причинах дешевизны сельских произведений, бедного состояния хлебопашцев и медленного усовершенствования нашего земледелия».
Первый краевед Тамбовщины
Не только как хозяйственный и общественный деятель снискал себе славу Бунин. Мы по праву можем назвать Николая Анатольевича первым краеведом Тамбовщины и нашего края. Его перу принадлежит всего лишь одна работа «Статистическое описание Усманского уезда Тамбовской губернии», которая была опубликована в №10-12 журнала Министерства внутренних дел за 1836 год. Работа не слишком объемная - 92 страницы. Но по тем временам эта работа считалась образцовой. И в наши дни она не потеряла своей научности. В его работе мы находим сведения о географическом положении уезда, реках, озерах, почвах. Привлечет внимание читателя описание времен года, интересные сведения о климате и редких явлениях природы. Особый отдел работы носит название «Естественные произведения», он посвящен полезным ископаемым, флоре, фауне. Касается Бунин краткой истории уездного города. Правда, здесь он совершает ошибку - пишет, что Усмань основана в 1646 году, а на самом деле, согласно новым изысканиям, - в 1645 году. Насыщены статистикой сведения о населении уезда: есть разделы «Браки», «Рождающиеся», «Смертность». Можно много узнать о болезнях, которые господствовали в уезде. Касается Николай Анатольевич благосостояния социальных слоев: помещиков, государственных и барских крестьян. Встретим мы здесь интересные факты из развития и состояния промышленности и сельского хозяйства. Интересны сведения о нескольких селах уезда. Как человек хорошо знающий сельское хозяйство, Бунин отводит ему множество страниц. Здесь мы находим главки «Коневодство», «Рогатый скот», «Скотоводство», «Пчеловодство».
Интересны и поучительны главы, посвященные образу жизни и занятиям населения, обрядам, одежде. Рассказывая о нравственности в уезде, Бунин отмечает «ревность жителей к православной церкви». Интересна и статистика уголовных преступлений, совершаемых в уезде с 1826 по 1836 годы. Анализируя судебные дела, Николай Анатольевич пишет, что самое большое количество подсудимых - это порубщики леса. Интересен и тот факт, что с 1829 года ни один помещичий крестьянин в течение семи лет не был осужден за убийство, и очень мало было осуждено за воровство. Очень мало преступлений совершали женщины. С 1826 по 1837 годы в Усманской тюрьме содержалось 760 человек, из которых только пять были женщины. Я специально привожу эти цифры, чтобы дать понять, что на такой огромной территории, каким был Усманский уезд, включающий тогда нынешние территории Усманского, Добринского районов, часть территории Грязинского района, Мордовского района Тамбовской области, рост преступности был низким. Нынешний пик преступности не сравним с 30-40 годами XIX века. В заключительной части своей работы Бунин рассказывает о «присутственных местах» - уездном суде, дворянской опеке, земском суде, о полиции, о городской думе, уездном казначействе, почтовой конторе и даже об уездном училище, которое было открыто благодаря его хлопотам. Интересны сведения об окладах чиновников этих присутственных мест.
Породнился с Пушкиным
Родная сестра Николая Анатольевича - Варвара Анатольевна была замужем за отставным лейтенантом флота Иваном Александровичем Павловым. Проживали супруги в сельце Марфино. Здесь 5 июля 1811 года родился сын, которого назвали Николаем в честь Бунина. 15 мая 1814 года появился на свет сын Александр, 18 августа 1821 года - Дмитрий, 25 марта 1823 года родился Алексей. Была у четы Павловых и дочь Варвара, которая родилась 29 августа 1818 года и была названа в честь матери. Крестили всех детей в храме нынешнего добринского села Березнеговатка. Восприемником всех детей своей сестры и зятя был Николай Анатольевич – «мичман флота и кавалер». В марте 1825 года Павлов написал прошение императору Александру Первому с просьбой внести его с родом в дворянскую родословную книгу Тамбовской губернии. Дворянство ему было пожаловано 6 июня 1825 года с занесением в родословную книгу Тамбовской губернии во 2-ю часть. Кстати, впоследствии количество детей в семье Павловых возросло. Родились дочери Марья и Елизавета, сын Василий (записан в метрическую книгу с. Верхняя Матренка). Второй сын Павловых - Александр связал свою жизнь с армией. Дослужился до чина полковника. У него родилась 4 декабря 1852 года дочь Мария. Она и стала женой Александра Александровича Пушкина. Старший сын поэта Александр Александрович (1833-1914г.г.) как и его тесть, связал жизнь с армией, дослужился до чина генерал-лейтенанта кавалерии, был награжден золотым оружием за храбрость. В 1875 году умерла его первая жена Софья Александровна Ланская, а второй его женой стала внучка Ивана Александровича и Варвары Анатольевны - Мария Александровна Павлова. К сожалению, мы мало знаем о ее отце и самой Марии Александровне. Мы продолжаем поиск, и надеемся, что сумеем проследить жизненный путь наших земляков. Нам только известно, что вторая жена сына поэта умерла в 1919 году, и у них от этого брака было двое сыновей: Сергей, застрелившийся в 1898 году в возрасте 20-ти лет, Николай и дочь Елена. Сыновья, как и их отец, избрали военную стезю.
В своей работе я не стремилась идеализировать Н.А.Бунина, а показать его как образцового хозяина, краеведа, общественного деятеля эпохи крепостничества, когда оно пришло в упадок. Мы по праву можем считать Н.А. Бунина: одним из первых агрономов нашего края; метеорологом, который вел наблюдения и фиксировал редчайшие природные феномены в течение 20 лет; одним из первых краеведов. Неоценим вклад Бунина в становление народного образования и здравоохранения в нашем крае. По его инициативе открылось и функционировало уездное училище, начала работать уездная больница. Опыт ведения сельского хозяйства Н.А.Буниным, членом Московского и Лебедянского сельскохозяйственных обществ, еще предстоит изучить. А нашим аграрникам и фермерам следует взять на вооружение все лучшее и передовое для подъема и развития сельского хозяйства.
Список источников и литературы
- Государственный архив Тамбовской области ф. 161, оп. 1, д. 1761, 2200, 2487, 2293, 2308, 5620; оп. 3, д.1132.
- Бунин И.А. Собрание сочинений. т.9 М: Художественная литература - 1967.
- Бунин Н.А. Статистическое описание Усманского уезда Тамбовской губернии // Журнал Министерства внутренних дел, 1836, № 10-12
- Гакстгаузен А. Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России т.1. М - 1869.
- Журнал Министерства внутренних дел, 1833, № 8, ч.IX. //Государственный архив Тамбовской области Ф.Р-161
- Журнал Министерства внутренних дел. 1836, № 10-11.
- Иванов А.А. Бунин Николай Анатольевич // Липецкая энциклопедия, т. 1 Липецк – 1999.
- Общий морской сборник. т.6. С-Пб -1892.
- Семенов-Тян-Шанский Н.П.. Мемуары. Петроград – 1917.
- Семенов-Тян-Шанский П.П. Мемуары. т. 1. Петроград– 1917.
Ирина Лоторева, Инна Остапова,
СОШ пос. Солидарность Елецкого района.
Научный руководитель - Е.Н. Сороковых, учитель русского языка и литературы
РОДИТЕЛИ ДУШИ МОЕЙ
Род Рудневых-Бутягиных в судьбе и творчестве В.В. Розанова
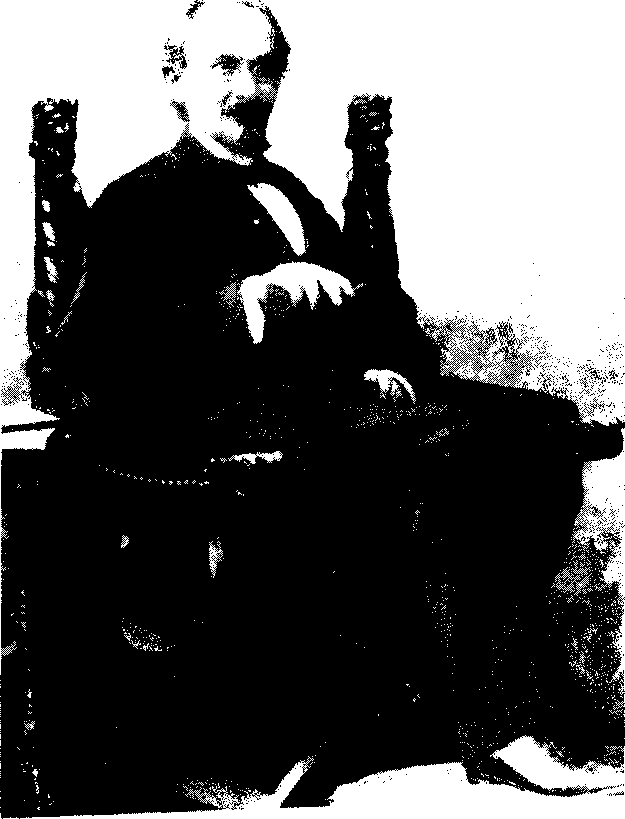
Если бы не любовь «друга»
и вся история этой любви,
как обеднилась бы
моя жизнь и личность.
В. Розанов «Опавшие листья»
Елецко-орловская земля - родина многих замечательных людей, оставивших яркий след в истории и культуре России. В эту святую землю уходят корнями род Пушкиных и род Лермонтовых. Здесь возросли И. Бунин, М. Пришвин, С. Булгаков. Для гимназического учителя (а впоследствии - писателя-философа с мировым именем) В.В.Розанова Елец стал духовной родиной. «Я, собственно, «родился вновь» и, в сущности просто «родился» - уже 35-ти лет - в Ельце, около теперешней жены, ее матери 55-ти лет и внучки 7 лет, - признавался В.В. Розанов в «Уединенном» в 1912 году. И, собственно, «Рудневы-Бутягины» были настоящими моими «родителями», родителями души моей». [ 17, с.297]
Многие биографы, современники, исследователи творчества В.В. Розанова обращали особое внимание на значение елецкого периода в жизни писателя и на ту роль, которую сыграла в его судьбе В.Д. Бутягина. Семейную историю Розанова описывали 3. Гиппиус, С. Дурылин, В.Фатеев, Т.В. Розанова - дочь философа, В. Сукач и др. Эту тему разрабатывали елецкие краеведы и ученые: С.В. Краснова, Г.П. Климова и др. авторы. К розановской семейной ситуации обращался в своем диссертационном исследовании А.И. Павленко. Касался этой темы липецкий писатель В. М. Петров. Но отдельного исследования, посвященного семье Рудневых-Бутягиных, нет. Этим обусловлена актуальность нашей работы. Цели исследования:
• Собрать воедино материалы доступных для нас исследований, с тем, чтобы воспроизвести биографию и воссоздать образ нашей замечательной землячки и той семьи, которая сыграла значительную роль в жизни и творчестве известного философа.
• Изучить елецкие реалии и воспоминания в произведениях В. В. Розанова.
• Исследовать места в Ельце и округе, связанные с жизнью Рудневых - Бутягиных - Розановых.
«Неистовая Медея и возлюбленная Рахиль»
Семейная история В.В. Розанова была известна многим современникам писателя. Рассказ о своем положении, об истории с «другом» стал главной темой «Уединенного», «Смертного», «Опавших листьев», а вслед за этим - достоянием широкой общественности. Кого-то эта история и откровенность писателя оттолкнула и вызвала злые толки, но у большинства близких ему людей жизненный подвиг Розанова, боровшегося за права своей семьи, вызывал сочувствие и восхищение.
Будучи студентом Московского университета, 24-летний В.В. Розанов женился на 40-летней Аполлинарии Прокофьевне Сусловой. Впоследствии В.В. Розанов рассказывал, что женился на Сусловой потому, что раньше она была возлюбленной писателя Ф.М. Достоевского [4, с. 238]. Шесть лет мучительной и унизительной для Розанова семейной жизни закончились неожиданным уходом жены. Попытки вернуть ее или получить развод заканчивались ожесточенным отказом.
В письме Н.Н. Страхову, отправленном из Ельца в июле 1888 года, В.Розанов признавался: «…6 лет семейной жизни были для меня и во внутреннем, и во внешнем отношении каким-то Дантовским адом, в коем перегорала душа; это были долгие дни вечного страха, почти мистического ужаса, горя, отчаяния, всего, чего хотите, но только не спокойствия, не радости... Все, что я пережил, было очень серьезно, мрачно и своеобразно...». [11, с. 215] И это притом, что он испытывал страшную жажду «прильнуть сухими губами к радостям обычной, маленькой жизни» [11, с. 216]. В другом письме Н.Н. Страхову, которого В.В. Розанов уважал и ценил более всех и о котором говорил: «после Достоевского Вы навсегда будете наиболее близки, дороги моей душе» [11, с. 205] мы читаем: «Я думал найти в жене верного спутника и друга жизни, поддержку в нравственных трудностях и потерях - думал в то время, и нашел именно в этом только холод и отчуждение» (письмо датировано июнем 1889г.). Как следствие этого неудавшегося брака, на свет появился первый философский труд В.В. Розанова «О понимании», который был издан в 1886г. в Москве тиражом 600 экземпляров на средства автора. В 1887 году В.В. Розанов по его настоятельной просьбе был переведен из Брянска в Елец учителем истории и географии в мужскую гимназию. Об этом сообщается в инспекторском предписании № 244 от 29 июля 1887 г. «Вы перемещаетесь, согласно Вашему прошению, учителем истории и географии в Елецкую гимназию с 1 августа сего года».[9, с.186]
В других источниках елецкий период жизни В. Розанова датируется 1886-1891 годами. Например, в «Смертном» он пишет: «...для меня (ведь внутренность же свою я знаю) было ясно в Ельце, в 1986-1891 г.г., что я - погибал, что я - не нужен, что я, наконец, - озлоблен, что я весь гибну... в какой-то жалкой уездной пыли, написав лишь свое «О понимании», над которым все смеялись».[16, с. 51] Очевидна ошибка памяти В. Розанова в определении года приезда в Елец. Поверим официальным документам.
По приведенной выше цитате мы видим, в каком душевном смятении находился В.Розанов к моменту приезда в Елец. Может быть, поэтому так старался найти себе пищу для ума, чтобы отвлечься от неудач в личной жизни и творчестве. Он сближается с учителем Елецкой гимназии П.Д. Первовым и вместе с ним занимается переводом трудов Аристотеля.[8] В.В. Розанов ведет активную переписку с замечательными людьми своего времени: литературным критиком и публицистом Н.Н. Страховым, религиозным философом К.Н. Леонтьевым, которых считает своими единомышленниками. Много значила для В. Розанова дружба с учителем приготовительного класса Иваном Феоктистовичем Петропавловским, которого считал «первым умницей в городе».[6]
Розанов часто бывал в доме Рудневых, где И.Ф. Петропавловский жил «нахлебником» и платил «за две комнаты и стол 29 рублей». [16, с. 46] Но привязанность Розанова к этому дому и его обитателям начнется после внезапной трагической смерти его елецкого друга весной 1889 года. Об этом событии спустя 13 лет Розанов вспоминает так: «Знакомый, я не был тесно знаком с ними до смерти Петропавловского. Простудившись и схватив болезнь сердца, он был лечим от желудка, и две недели прохворав, умер. Вот эта-то смерть, глубоко встревожив всю гимназию, поразив меня (его друга), смертельно поразив семью Рудневых (хозяева), произвела род смятения, оторопелости: все бегали, старались спасти, уже было поздно - и разразились отчаянием. Что «нахлебник» хозяевам, судя по матерьяльному? А я, студент, немножко ученый, судил по матерьяльному... Когда я увидел, тоже суетясь и глубоко скорбя о верном своем друге, тот взрыв о нем скорби и слез и отчаяния у этих его «хозяев», включительно до малютки, я просто нашел второй укор бытия в себе и вместе душевную теплоту, уютность» [15, с.54-55]
Эта способность Рудневых переживать чужое горе как свое, по-христиански любить ближнего поразила Розанова. Об этом он пишет и в «Смертном»: «И любовь моя к В. началась, когда я увидел ее лицо, полное слез (именно лицо плакало, не глаза) при «+» моего товарища, Ивана Феоктистовича Петропавловского ... Я увидел такое горе «по чужом человеке», что остановился как вкопанный: и это решило мой выбор, судьбу и будущее».[16, с.46] Именно с этих событий начался новый этап жизни В. Розанова - возникновение «философии жизни».
«Благородная жизнь благородных людей»
3 мая 1937 года писатель М.М. Пришвин (бывший ученик В. Розанова, исключенный из гимназии с «волчьим билетом» после конфликта с ним) записал: «Читаю с великой пользой розановские «Опавшие листья». Розанов в одном месте говорит, что встреча его (возле Введения) с семьей его жены (Бутягиной) открыла ему мир благородных людей, что он впервые понял порядочность и возможность счастья. Надо это понимать для всех: каждый, входя в семью своей будущей жены, впервые лично встречается вообще с семьей (до сих пор, как несовершеннолетний, он не мог понимать и ценить семьи, в которой родился)». [12, с.122] И, может быть, действительно Розанов впервые в Ельце понимает, что такое настоящая семья. Об обстоятельствах знакомства с семьей Рудневых Розанов упоминает в своих записках разных лет, и каждый раз раскрывает какие-либо новые детали, говорит об этих людях с таким благоговением и любовью, которые не могут не привести в восхищение.
В 1902 году в письме к петербургскому митрополиту Антонию, излагая свою семейную ситуацию, Розанов так описывал встречу с «благородной жизнью благородных людей»: «они жили против церкви Введения Пресвятой Богородицы -храм навсегда для меня милый, моя нравственная родина, где около его стены хотел бы я быть похороненным... Семья состояла из старушки, моей почтенной теперь матушки, вдовы 27-25 лет и внучки трех лет. Вдова потеряла на 21 году горячо любимого мужа... Все родство их духовное, прелестное, теплое внутри, взаимно помогающее, утонченно деликатное. Раньше я был тоже религиозен, но как-то бесцерковно; тут я прямо бросился к церкви как «стене нерушимой», найдя идеальный круг людей именно среди церковников». [15, с. 54] В «Уединенном» В. Розанов признавался: «Лучшие люди, каких я встречал, - нет, каких я нашел в жизни: «друг, великая «бабушка» (Александра Андриановна Руднева) , «дяденька»... -все были религиозные люди; глубочайшие умом - Флоренский, Рцы - религиозны же. Ведь это что-нибудь да значит? Мой выбор решен».[18, с. 77] Все это сказано спустя много лет после знаменательной встречи. А тогда в письме к К. Леонтьеву из Ельца Розанов сообщал: «Православным я стал лишь недавно, помолившись несколько раз в церкви Введения, познакомившись с дьяконицей Рудневой, внучкой Иннокентия Таврического, коего она хорошо знала до 14 лет».[10, с. 136]
Скептик и мизантроп Розанов, окунувшись в атмосферу благожелательности, доброты, заботы, искренности, не только приобщился к православию, но и по-настоящему почувствовал тепло семьи (он рано потерял родителей и был «вообще внесемеен»), обрел единственную и настоящую любовь, нашел «оазис душевный». «Настала любовь - к молодой вдове, послушной дочери, примерной матери, верной памяти мужа. Настала любовь к месту - этой церкви Введения, седому высокому там священнику (церковь маленькая, деревянный пол, все богомольцы знают свои места, ни толчеи, ни суеты при службах нет), большой полянке вокруг церкви..., домику Рудневых, ребенку, старушке, вдове. Только потому, что нельзя было ни в старушку, ни в ребенка влюбиться, я просто привязался, как к родной, вдове». [15, с.55] Любовь «настала», ознаменовав новый, счастливый и мучительный, этап.
В июле 1889 года Розанов делился со своим старшим другом Н.Н. Страховым, своей радостью и болью: «Теперь я люблю без всякой примеси идейного, и без этого же полюбило меня доброе, хорошее и чистое существо. Мы рассказали друг другу свою жизнь, со всеми ее подробностями, не скрывая ничего, и на этой почве взаимного доверия, уважения и сочувствия все сильнее росла наша дружба, пока не превратилась в любовь. Дай Бог нам сохранить чистоту в отношениях, потому что жениться я не могу...». [11, с. 220] Он, нашедший, наконец, то взаимопонимание, к которому стремился долгие годы, не мог соединить свою судьбу с судьбой любимой женщины, потому что был уже женат и не мог добиться развода с первой женой: « ...Только теперь я впервые почувствовал, что, в самом деле, кое-что в нашей жизни, в устройстве нашего счастья... от законов, учреждений».[11, с. 220] И это станет началом многотрудной борьбы Розанова с церковными и государственными догмами за счастье своей семьи.
Варя есть самый нравственный человек,
которого встретил в жизни
Какой любовью и преданностью дышит каждая розановская строка, посвященная Варваре Дмитриевне! Вот он вспоминает ее «грациозной, тихой или чуть-чуть слышно резвой девушкой», из-за которой стал нравиться весь мир. У нас нет фотографий Варвары Дмитриевны тех лет, но можно представить ее по восторженному описанию В. Розанова: «И ее серое пальто, и скромная шляпа, с простой лентой, - и тогда эта зеленоватая вуалька (лето). А когда поднимает вуальку, эта ямка на щеке. И какая-то постоянная ее внутренняя серьезность» [14, с. 30] И главное здесь - ее психологический портрет, то, из-за чего влюбленный Розанов ее «очень уважал. О - очень, очень, очень». Характеризуя Варвару Дмитриевну, Розанов сообщает митрополиту Антонию: «Тут - грация; ласка души; тончайшая деликатность, нежность физическая, неуловимо-милые манеры, а главное, это чудное отношение к старику-свекру, золовкам, братьям, ко всему...». [15, с. 55]
Осмысливая прожитые совместно 20 лет, В.В. Розанов в декабре 1911 года утверждал: «Варя есть самый нравственный человек, которого встретил в жизни и о каком читал. Она бы скорее умерла, нежели произнесла неправду, даже в мелочи. Она просто этого не могла бы, не сумела. За 20 лет я не видел ее, хотя двинувшуюся в сторону лжи, даже самой пустой; ей никогда в голову не приходит возможность сказать не то, что она определенно думает».[16, с. 46]
Бутягины. Рудневы. Ждановы.
Попробуем воспроизвести биографию нашей замечательной землячки - Варвары Дмитриевны Бутягиной. Бутягина (урожденная Руднева) Варвара Дмитриевна родилась в 1864 году в семье священника Дмитрия Наумовича Руднева и Александры Андриановны (урожденной Ждановой). Родовая семья матери, Александры Андриановны, жила в деревне Казаки Елецкого уезда. Известно, что, кроме Варвары, у Рудневых был сын Тихон Дмитриевич. Варвара была у родителей «вымоленным» ребенком, и назвала её мать в честь Варвары Великомученицы, которой она ездила молиться в Киев.[16, с.54]
Воспитывалась девочка в семье с крепкими православными традициями. Родня и со стороны отца, и со стороны матери - люди духовного звания. Отец Вари - Дмитрий Наумович Руднев - священник. Его брат (в миру известный под именем Ивана Наумовича Руднева) - архиепископ Ярославский Ионафан (умер в 1906г.) - принимал живое участие в судьбе Варвары Дмитриевны. В примечаниях к сборнику «Рго еt сопtга» он ошибочно назван двоюродным братом Александры Андриановны, указаны годы жизни 1818-1903.
Крестным отцом Варвары Дмитриевны стал Дмитрий Андрианович Жданов, священник, брат Александры Андриановны. Отец, Дмитрий Наумович, рано умер. Семья жила бедно. Александра Андриановна с детьми жила в Казаках. По рассказам дочери, Татьяны Васильевны Розановой, «там была 2-классная школа, в то время считалось, что девочкам из бедной семьи учиться не следует: мама как-то нашалила в школе, ей поставили по поведению 4, бабушка очень обиделась за дочь, значит дочь ее опозорена за безнравственность...- и забрала ее домой».[13, с.61-62] Больше никакого образования Варвара Дмитриевна не получила.
Итак, Т.В. Розанова связывает этот случай с деревней Казаки. А В.В. Розанов об этом конфликте рассказывает следующее: «Она (В.Д.) вышла из 3-го класса гимназии. Именно, она всё пачкала (замуслякивала) чернилами парту, заметив, что Иван Павлович (Леонов), говоря ученицам объяснение, опирался (он был огромного роста и толстый) пальцами на стол. Тот все пачкался. Пожаловался. И поставили в поведении «4». Мамаша (Александра Андриановна Руднева), вообразив, что «4» в поведении девушки марает ее и намекает на «7 заповедь», оскорбилась и сказала: «Не ходи больше. Я возьму тебя из гимназии. Они не смеют порочить девушку». [16, 51]
Как видим, в рассказах Василия Васильевича и его дочери наблюдаются заметные расхождения. И, скорее всего, ошибка закралась в воспоминания Татьяны Васильевны. Но то, что Рудневы жили в Казаках, остается фактом. Там же жил дядя Варвары Дмитриевны - священник Дмитрий Андрианович Жданов, ее крестный отец. В. Розанов, рассказывая о своём венчании с Варварой Дмитриевной (1891), упоминает, что «Санюшку (дочь Варвары Дмитриевны) отослали в Казаки к дяде». [16,с. 53] А в воспоминаниях Татьяны Розановой находим: «Я помнила деревню только по Казакам, куда меня возили родители пятилетней девочкой к бабушке» (1900г.), т.е. к Александре Андриановне Рудневой, которая, видимо, после отъезда В.В. Розанова и Варвары Дмитриевны из Ельца переселилась вновь к родным в Казаки.[16, с. 75]
Сохранился ли дом Рудневых в Казаках; есть ли там какие-либо следы пребывания Розановых-Рудневых? Может быть, помогут ответить на эти вопросы краеведы из Казаков.
Итак, Василий Васильевич связывает упомянутые выше события с елецким периодом жизни семьи Рудневых. Далее Розанов добавляет: «Это кстати и совпало с началом влюбления в Михаила Павловича. «Мамаша, бывало, посылает за бумагой (нитками): я воспользуюсь и мигом полечу в Чёрную Слободу, - чтобы хоть взглянуть на дом, где он жил». [16 с. 51] То есть В.В. Розанов с уверенностью утверждает, что это происходило в Ельце. Опираясь на другое его высказывание, можно восстановить хронологию. Там же, в «Смертном», он пишет: «Верность» Вари замечательна: её не могли поколебать ни родители, ни епископ Ионафан (Ярославль), когда ей было 14,5 лет, и она полюбила Михаила Павловича Бутягина, которому была верна и по смерти...». [16, с. 46] Таким образом, описываемые события происходили в Ельце приблизительно в 1878 году, когда юная девушка полюбила своего будущего первого мужа. А жила семья Рудневых в том самом «деревянном домике в 4 окошка, против церкви Введения, где родился преосвященный Иннокентий Одесский (их дядя ли, дед ли)».[15, с. 54]
Речь идёт об архиепископе Иннокентии Херсонском, знаменитом русском иерархе - подвижнике (в миру - Иван Алексеевич Борисов). Видимо, домик этот принадлежал его родителям: священнику Успенской церкви отцу Алексию и его супруге Акулине Борисовым. Известно, что «скончался священник Успенской церкви Ельца отец Алексий 16 октября 1811 года, оставив о себе добрую память», похоронен на старом Елецком кладбище возле Казанского храма. [2, с. 69-70]
В другом месте, в письме к К.Н. Леонтьеву, В. Розанов с полной уверенностью называет «дьяконицу Рудневу» [то есть Александру Андриановну] «внучкой Иннокентия Таврического (1826-1911), коего она хорошо знала до 14 лет» и, следовательно, подвергалась его непосредственному влиянию до 1840 года. [10, с. 136] О самой Александре Андриановне Василий Васильевич всегда говорил с глубочайшим уважением как о человеке, всю свою жизнь посвятившем «труду для других». Пятнадцати лет оставшись сиротой, она взяла на себя воспитание малолетнего брата. Рано вышла замуж. Став вдовой, заботилась о воспитании и устройстве своих детей. Все испытания, выпавшие на её долю, переносила с достоинством, не впадая в уныние. Вспоминают её всегда веселой и деятельной. Учила не только своих детей, но и окружающих ребят околицы «грамоте, Богу, Царю и Отечеству». «Она, как нескончаемая свеча катакомб... светила, грела, ласкала, трудилась, плакала - много плакала - и только «церковной службой» вытирала глаза себе… [18, стр. 75] Эту кротость и стойкость передала она и дочери. Духовником её был отец Иван (Вуколов), «высокий, седой священник» Введенской церкви, пользовавшийся среди граждан авторитетом «опытного в духовной жизни старца и мудрого советчика». [1, с. 123] Неоднократно в своей многотрудной жизни обращалась Александра Андриановна за советами к Оптинскому старцу - отцу Амвросию.
Таким образом, 3 рода - Борисовых - Рудневых - Ждановых - пересеклись, с тем, чтобы явить миру Варвару Дмитриевну, кровно связанную с лучшими духовными традициями русского православия. Наверное, закономерным было ее тяготение к другому священническому роду - Бутягиных. По определению Розанова, «все родство их духовное, прелестное, теплое внутри, взаимно помогающее, утонченно деликатное». [15, с. 54]
Глава семейства - протоиерей Павел Николаевич Бутягин - был известен далеко за пределами Ельца как выдающийся среди духовенства деятель, много сделавший для строительства храмов, организации церковно-приходских школ и училищ, библиотеки-читальни для прихожан, богаделен и приютов для бедных. 58 лет он был священником Владимирской церкви г. Ельца и за время службы здесь получил ордена Анны 2-й степени, Владимира 4-й степени и палицу. Скончался он в 1908 году, пережив двоих своих сыновей - Михаила и Ивана. [ , с. 129, 130,178,179] Всего у Павла Николаевича было восемь детей. (по устному сообщению Н.А. Печуриной - потомка рода Бутягиных, проживающей в Ельце).
Михаил Павлович Бутягин - учитель церковно-приходской школы, первый муж Варвары Дмитриевны Рудневой, которого она полюбила совсем юной. Наверное, человек он тоже незаурядный, если вызвал у Вари такое сильное чувство, которое «не могли поколебать ни родители, ни епископ Ионафан». [16, с. 46] Архиепископ Ионафан (Иван Наумович Руднев, брат отца Варвары Дмитриевны) не одобрил этот брак, а к его мнению в семье прислушивались. Потом родители отступили перед решительностью дочери. Но счастье горячо любивших друг друга Варвары и Михаила Бутягиных длилось недолго. Жили они бедно. Вскоре их постигло непоправимое горе. Варвара Дмитриевна «потеряла на 21 году горячо любимого мужа, у которого развилось центральное воспаление мозга, и он медленно день за днём слеп, перед смертью лишившись рассудка, и умер. Можно представить горе и особенно грозу, столь медленно надвигавшуюся. Он был благородный человек». [15, с. 54] Умер М. Бутягин около 1883 года и похоронен на Чернослободском кладбище (захоронение до наших дней не сохранилось). Варвара Дмитриевна, оставшись с маленькой дочкой Александрой,1883г.р., тяжело переживала свою утрату и была верна памяти мужа, ежедневно «бродя на могилу его» [16,с. 46], поддерживала чудные отношения со стариком свёкром, золовками и братьями мужа. Судьба Варвары Дмитриевны переменилась после знакомства с В.В. Розановым в 1889 году. Тёплая дружба переросла в любовь. Родственники Варвары Дмитриевны (и Рудневы, и Бутягины) знали о том, что Василий Васильевич женат, но, как отмечает Розанов, «странно - все меня любили, и свекор, и деверья, и дяди, все». [15, с. 55]
Существенно то, что семьи, живущие по канонам православной нравственности, сочувствовали и поддерживали стремление Варвары Дмитриевны и Василия Васильевича соединить свои судьбы. А брат покойного мужа Варвары Дмитриевны, Иван Павлович Бутягин, стал инициатором их венчания и 5 июня 1891 года сам повенчал их в домовой церкви Колабинского детского приюта в Ельце (ныне - территория Детского парка). Как священник он понимал всю серьёзность и противозаконность этого шага. Но, получив подтверждение тому, что священнику для венчания нужно только формальное согласие венчающихся, он совершил венчание без записей, без свидетелей, чисто тайное и только для совести. Иван Павлович спрашивал совета у отца «чрезвычайно уважаемого, глубоко осторожного священника, до известной степени глубокого политика» Павла Николаевича Бутягина. Мать Варвары Дмитриевны «плакала две недели, колеблясь, исповедовалась» своему духовному отцу - Ивану Вуколову, который сказал ей: «Ну, что не делать, хуже - будут так после твоей смерти жить». [15, с. 57]
Василию Васильевичу на всю жизнь запомнился наказ Ивана Павловича: «Помните, Василий Васильевич, что она не имеет, моя дорогая невестка (вдова покойного брата) никакой другой опоры в жизни, кроме как в вас, в вашей чести, любви к ней и сбережении. И ваш долг перед Богом всегда беречь её. Других защищает закон, люди. Она - одна, и у неё в мире только один вы». [16 , с. 53] Все участники событий осознавали, насколько это серьезный шаг. Если бы факт тайного венчания обнаружился, все участники событий (священник и венчающиеся) были бы наказаны. «Согласно статье 253 Устава Духовных Консисторий, брачно-семейные отношения Розанова и Бутягиной были «прелюбодеянием» и подлежали безусловному осуждению, как со стороны церкви, так и со стороны общества». [7, с. 78] Дети незаконно венчанных супругов признавались незаконными, не могли носить фамилию отца и не имели никаких гражданских прав.
По договору с венчавшим священником Василий Васильевич и Варвара Дмитриевна должны были немедленно покинуть Елец, чтобы избежать разглашения тайны. И через несколько недель, по просьбе В. Розанова, он был переведен в город Белый Смоленской губернии, а через два года, в 1893 году, семья переехала в Петербург. В период до 1900 года у Василия Васильевича и Варвары Дмитриевны родилось шестеро детей. Первый ребенок умер в младенчестве. А все пятеро детей при крещении получали фамилии и отчества своих крестных родителей, так как признавались незаконнорожденными и не могли носить фамилию отца. К моменту поступления старших детей в гимназию Василию Васильевичу удалось добиться того, чтобы они были записаны как Розановы. А вот Варвара Дмитриевна всю свою жизнь носила фамилию Бутягина, и Василий Васильевич даже не имел права назвать ее женой. Поэтому во всех произведениях о семье он именует ее «другом» или просто Варей. Так женщина, сыгравшая в жизни великого философа огромную роль, не получила законного права именоваться его женой.
…К сожалению, нам пока не удалось установить точное местонахождение домика Рудневых, дома Бутягиных в Черной Слободе, так как для этого требуется привлечение архивных материалов. Но мы планируем продолжить эту работу. Попытаемся установить более тесный контакт с потомками рода Бутягиных в Ельце. Продолжим собирать материалы о судьбе семьи Розановых в Петербурге. Но это уже тема отдельного исследования.
Литература
- Воскресенский А. Город Елец в его настоящем и прошлом. - Елец, 1998.
- Газина Т А. Духовные подвижники Ельца. // Краеведческий сборник. Выпуск 3.- Краеведческий музей, 2003.
- Гиппиус 3. Задумчивый странник. // В.В.Розанов: Рго еt сопtга. С-Пб -1995.
- Дурылин С. В.В.Розанов. // Там же, т.1.
- Климова Г. Диалектика елецкого бытия в жизни и творчестве В.В.Розанова.// Розановские чтения. - Елец, 1993.
- Краснова С. Где найти оазис душевный - я горю перед ним лампадой. (Елецкие друзья В.В.Розанова).// Там же.
- Павленко А. Философско-педагогическая идея семьи в публицистике В.В.Розанова. - Елец, 2000.
- Первов П. Философ в провинции.// В.В.Розанов: Рго еt сопtга.
- Петров В.В краю страны обетованной». (В.В.Розанов и М.М.Пришвин. Елецкие годы).// Записки Липецкого областное краеведческого общества. Выпуск 2.-Липецк, 1999.
- Письма В.В.Розанова к К.Н.Леонтьеву // Литературная учеба, 1989, № 6.
- Письма В.В.Розанова к Н.Н. Страхову // Российский литературоведческий журнал, 1994, № 5-6.
- Пришвин М.М. О В.В. Розанове // В.В.Розанов: Рго еt сопtга.
- Розанова Т.В. Воспоминания об отце.// Там же, т. 1.
- Розанов В.В. Последние листья.- М: Республика, 2000.
- Розанов В.В. Прошение Антонию, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому.// Наше наследие, 1989, № 6.
- Розанов В.В. Смертное.// Наше наследие, 1989,№ 6.
- Розанов В.В. Уединенное. -М: Политиздат, 1990.
- Розанов В.В.Уединенное. -М: Современик, 1991.
- Сукач В.Г. Загадка личности Розанова.// Розанов В.В. о себе и жизни своей. -М: Московский рабочий, 1990.
- Устное сообщение Н. А. Печуриной.
Дарья Холина*,
гимназия № 12 г. Липецка.
Научный руководитель - Т.М. Водопьянова, руководитель музея
