Денисов Ордена Ленина типографии газеты «Правда» имени И. В. Сталина, Москва, ул. «Правды», 24 предисловие вэтой книге собраны очерки и рассказ
| Вид материала | Рассказ |
СодержаниеВ. ильенков В. кожевников А. толстой Б. горбатов С. борзенко Б. горбатов |
- Писателя Рувима Исаевича Фраермана читатели знают благодаря его книге "Дикая собака, 70.52kb.
- Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук, 251.13kb.
- Имени Н. И. Лобачевского, 608.68kb.
- Высшее военно-морское инженерное ордена ленина училище имени, 2642.89kb.
- И. А. Муромов введение вэтой книге рассказ, 11923.67kb.
- Правда Ярославичей". Хранители правды, 144.68kb.
- Разработка комплексной асу технологическим процессом производства изделий электронной, 36.71kb.
- Время собирать камни. Аксаковские места Публикуется по: В. Солоухин "Время собирать, 765.53kb.
- Из зачетной ведомости, 78.76kb.
- Леонид Борисович Вишняцкий Человек в лабиринте эволюции «Человек в лабиринте эволюции»:, 1510.87kb.
В этой простой фразе, неразборчиво написанной на обрывке газеты, содержится суровое и прекрасное величие. В простых словах, рождающихся в момент борьбы, когда там, где нет даже обрывка газеты и возможности написать несколько слов, красноармеец излагает просьбу о приеме в партию устно.
Партийный билет является для него символом, Знаменем, лозунгом. Красный цвет партийной книжечки— это красный цвет ордена, звание коммуниста — самое почетное звание.
На линии огня, в гуле артиллерийской канонады; среди треска взрывов и грохота выстрелов люди вступают в ряды партии.
На плечах новых партийцев солдатская шинель. Их путь к партии идет через трудные дни войны, сквозь ураганный огонь врага, через города и деревни, занимаемые в упорных боях, через величайшее мужество, неустрашимые подвиги, безграничную отвагу и любовь к Родине, которая не остановится ни перед чем.
Партийный билет каждого из нас стал краснее от крови партийцев, погибших на всех фронтах Отечественной войны. К цене его прибавились все подвиги, совершенные во имя его на всех фронтах.
И сегодня больше чем когда-либо он является символом, лозунгом, Знаменем.
А советский народ высоко поднимает свои Знамена.
В. ИЛЬЕНКОВ
ФЕТИС ЗЯБЛИКОВ
Их было двенадцать, и сидели они в холодном колхозном амбаре под огромным висячим замком. Было слышно, как скрипит снег под тяжелыми башмаками часового.
— Видать, крепко забирает мороз,— сказал Фетис, нарушив молчание, тяготившее всех.
А молчали потому, что все думали об одном и том же.
Сегодня утром гитлеровцы их спросили: «Кто из вас коммунисты?» Они промолчали. «Ну что ж, подумайте»,— сказал офицер, выразительно кладя руку на кобуру парабеллума.
Коммунистов в деревне было двое: председатель колхоза Заботкин и парторг Вавилыч. Заботкин был казнен утром на площади на глазах всех колхозников.
Заботкин был человеком могучего сложения, лошадь поднимал: подлезет под нее, крякнет и поднимет на крутых своих плечах, а лошадь только ногами в воздухе перебирает... Накануне Заботкин вывихнул ногу, вытаскивая грузовик из грязи, и не мог уйти в леса.
Его привязали за ноги к одному танку, а руки при крутили к другому и погнали танки в разные стороны Заботкин успел только крикнуть: «Прощайте, братцы!
И все запомнили на всю жизнь глаза его — большие, черные, бездонные и такие строгие, что Фетис подумал: «Этот человек спросит с тебя даже мертвый». И Фетис решил, что За боткин смотрит именно на него, смотрит строго, укоризненно, как бы говоря: «Эх, Фетис, Фетис! Если бы ты вовремя подал мне доску под колеса грузовика, а не чесал в затылке, то я ногу не вывихнул бы", в плен не попал бы и не претерпел бы страшных мук...»
И, припомнив все это, Фетис сказал вслух:
— Доску-то. Доску надо бы...
Кое-кто из одиннадцати посмотрел на Фетиса с недоумением. А парторг Вавилыч переложил свои костыли и поднял голову. Встретив угрюмый взгляд парторга, Фетис подумал: «И этот на меня злобится». Вавилыч и в самом деле смотрел на него неодобрительно, хмуря свои черные брови, и Фетис потупился, думая: «И что за волшебство у этого калеки? Посмотреть, в чем только душа держится, а как глянет на тебя — конец, сдавайся».
Вавилыч охромел два года назад. Везли весной семена с элеватора, а дорога уже испортилась, в лощинах напирала вода. Лошади провалились под лед, и мешки с драгоценными семенами какой-то редкой пшеницы потонули. Вот тогда Вавилыч прыгнул в ледяную воду и давай вытаскивать мешки. За ним полезли и другие, только Фетис оставался на берегу...
С тех пор Вавилыч ходил на костылях, и Фетису стыдно и боязно было глядеть ему в глаза.
Вавилыч сидел сгорбившись и напряженно думал. Он не сомневался, что гитлеровцы казнят и его, и вот теперь было важно установить: что же хорошего сделал он на земле— член Коммунистической партии? Какие слова на прощание скажут ему в душе своей вот эти одиннадцать человек? И найдется ли среди них такой, который укажет на него врагу?
Мысленно Вавилыч стал проверять всех, кто был с ним в амбаре. Он хорошо узнал их за пятнадцать лет и видел, что лежит на сердце у каждого,— так видны камешки на дне светлого озера.
Маленький, высохший дед Данила зябко потирал руками босые ноги: фашисты сняли с него валенки. Ноги у старика были тоненькие, волосатые, с узлами синих вен. Сын его Тимо-ша командовал на фронте батареей. Ни одного слова не выжмут гитлеровцы из человека, сын которого защищает Родину!
Умрет, но стойко выдержит все муки и бригадир-полевод Максим Савельевич. Когда Вавилыч звал его в партию, он сказал: «Недостоин. У коммуниста должна быть душа какая? Чтобы в нее все великое человечество вошло... Я уж лучше насчет урожая хлопотать буду».
И он очень обрадовался, когда услышал, что есть такие непартийные большевики. «Вот это про меня сказано!»
...Рядом с ним сидит Иван Турлычкин — существо безличное, можно сказать, но он кум Максима Савельевича и пойдет за ним в огонь и в воду.
Вот так одного за другим перебрал Вавилыч десять человек и никого из них не мог заподозрить в подлости, на которую рассчитывал враг. Оставался последний — Фетис Зябликов.
Угрюмый этот человек был всегда недоволен всеми и всем. Какое бы дело ни затевалось в колхозе, он мрачно говорил: «Опять карман выворачивай!»
Когда Вавилыч приходил к нему в дом, с трудом волоча свои ноги, Фетис встречал его неприветливо: «На аэропланы просить пришел? Или на заем?»
Вавилыч рассказывал ему о государстве, об обязанностях советского гражданина, и в конце концов Фетис подписывался на заем, причем туч же вынимал из кармана засаленный кожаный кошелек и долго пересчитывал бумажки, поолевывая на пальцы.
«Ты, Фетис, как свиль березовая»,— сказал ему как-то Вавилыч, выйдя из терпения.
Свиль — это нарост на березе, все слои в нем перекручены, перевиты между собой, как нити в запутанном клубке, и такой он крепкий, неподатливый, что ни пилой его не возьмешь, ни топором.
«Так и не обтесал его за все годы»,— с горечью подумал Вавилыч, разглядывая Фетиса.
А Фетис подсаживался то к одному, то к другому и что-то нашептывал, низко надвинув на глаза баранью шапку. Вот он прильнул к уху Максима Савельевича, а тот мотнул головой и отмахнулся.
— Уйди! — сурово сказал он.— Ишь, чего придумал!..
Это слышали все. «Уговаривает выдать меня»,—подумал Вавилыч и, приготовившись к неизбежному, сказал самому себе: «Ну что ж, Вавилыч, держи ответ за все, что сделал ты в этой деревне за пятнадцать лет».
А сделано было немало. Построили светлый скотный двор, сделали пристройку к школе под квартиры учителей. Вырыли пруд и обсадили его ветлами. Правда, ветлы обломаны: никак не приучишь женщин к культуре: идут встречать коров, и каждая сломает по прутику... Что еще? Горбатый мост через речку навели... А сколько нужно было усилии, чтобы уговорить всех строить этот мост!
Вавилыч еще раз оглядел сидящих в амбаре и вдруг припомнил, что все эти люди были до него совсем не такими. Пятнадцать лет назад Максим Савельевич побил деда Данилу за то, что тот поднял его яблоко, переброшенное ветром через забор на огород Данилы, а на другой год дед Данила убил курицу Максима Савельевича, перелетевшую к нему в огород. А потом эти же люди сообща возводили горбатый мост и упрекали того, кто не напоил вовремя колхозную лошадь. Теперь все они члены богатой дружной семьи. И Вавилыч почувствовал радость, что все это — дело его рук, его сердца, что он с честью выполнил долг коммуниста...
И, опершись на костыли, поскрипывая ими, он подошел к двери, чтобы в узкую щель в последний раз окинуть взором дорогой ему мир.
Фетис сидел возле двери и, увидев, что Вавилыч направляется в его сторону, съежился и подался в угол. Здесь было темно. Отсюда он следил за парторгом, и на лице его было удивление, как тогда, когда Вавилыч первым прыгнул в ледяную воду, а он стоял на берегу, не понимая, как это можно лезть в реку и, стоя по грудь среди льдин, вытаскивать мешки с зерном, которое принадлежит не тебе одному.
Вавилыч смотрел в щель, и лицо его было освещено каким-то внутренним светом, он улыбнулся, как улыбаются своему дитяти.
И когда Вавилыч отошел, Фетису страстно захотелось узнать, что такое видел парторг в узкую щель. Он припал к ней одним глазом и замер.
Над завеянной снегом крышей его дома поднималась верхушка березы. И крыша, и опушенная инеем береза, и конец высокого колодезного журавля были озарены золотисто-розовым светом. Это были лучи солнца, идущего на закат. Все это Фетис видел ежедневно, все было так же неизменно и в то же время все было ново, неузнаваемо. Снег на крыше искрился и переливался цветными огоньками. Он то вспыхивал — и тогда крышу охватывало оранжевое пламя, тс тускнел — и тогда становился лиловым, - и вороньи следы-дорожки чернели, как вышивка на полотенце. Опущенные книзу длинные ветви березы висели, как золотые кисти, и вся она была точно красавица, накинувшая на плечи пуховую белую шаль... Вот так выходила на улицу Таня по праздникам, и все парни вились возле нее, вздыхая, гадая: кому достанется дочь Фетиса? Нет теперь Тани, нет ничего... Гитлеровцы увезли ее неизвестно куда...
И только теперь, глядя в щель, Фетис понял, что было у него на земле все, что нужно для человеческого счастья. И он все смотрел и смотрел, не отрываясь от щели, тяжело дыша, словно поднимал большой груз.
Он почувствовал вдруг чей-то взгляд на себе, обернулся и встретился с глазами Вавилыча, и были они такие же огромные, черные, суровые, как у Заботкина в последний миг его жизни.
Но было в этих глазах еще что-то колючее, холодное, отчего Фетис вздрогнул. «Неужто боится, что я выдам его?» Фетису стало страшно, и он в замешательстве вновь повернулся к щели.
Вот улица, по которой ходил он всю жизнь, не замечая ее красоты. Вдали поблескивает молодой ледок на пруду, пустынна его сверкающая гладь, не слышно громкого смеха детей, звонкого перезвона коньков. Угрюмо стоит школа, превращенная врагами в застенок... Солдаты рубят ветлы, посаженные вокруг пруда, словно мало им дров в лесу... Неподвижно стоит на горке ветряк, беспомощно раскинув обломанные крылья,— погас источник яркого и чистого света, горевше-го в каждой избе и даже на скотном дворе. Умолк веселый стук молотилки на току, и, как корабль, затертый льдами, чернеет в поле комбайн...
Фетис вспомнил, с каким трудом все это строилось и росло, как недовольно ворчали многие и громче всех сам Фетис — не по несогласию, нет, а уж такой нрав у него, любит поломаться, повздорить, хотя все знают, что от людей он не отстанет: и пруд копал вместе со всеми, и ветлы сажал, и горбатый мост строил. И никогда так дорог не был ему этот построенный его руками мир, как в эту горькую минуту неволи, когда он смотрел в крохотную щель амбара. И еще горше было видеть в глазах Вавилыча колючие искорки подозрительности.
— «У нас в деревне все коммунисты» — вот как нужно от
ветить фашистам! — прошептал Фетис на ухо Максиму Са
вельевичу.
Но тот замотал головой: нельзя, тогда гитлеровцы всех убьют, а нужно так придумать, чтобы и в живых остаться, и Вавилыча не выдать, и от коммунизма не отрекаться, и гордость свою показать перед врагом. Может, твердо стоять на том, что нет в деревне никаких коммунистов?
Дедушка Данила сказал, что ему все равно помирать и он согласен принять на себя муки Вавилыча, объявиться коммунистом. Однако и это отвергли, потому что какой уж коммунист из дедушки Данилы — чуть на ногах стоит!
...Фетис смотрел в щель на угасающий зимний день, жадно вбирая всем сердцем недоступную и потому такую желанную жизнь. Он принимал ее всю — со всею горечью и отрадой, с беспокойством о делах государства и неустанным трудом на общем поле, с шумными собраниями по ночам и веселым хмелем осенних пирушек. Все было хорошо в этом утерянном мире.
Снег скрипел под башмаками часового, а Фетис все смотрел в щель и думал: «Мне бы в нее раньше глянуть... Вот недогадка...»
Потом он подошел к Вавилычу и, трогая его непривычными к ласке руками, проговорил:
— Озяб, небось... Ну, ничего... Это ничего... На вот,—
он протянул ему свои рукавицы.
Загремел замок. Гитлеровец закричал, открывая дверь, и сделал знак, чтобы все вышли.
Их поставили в ряд против школы. И все они смотрели на новую пристройку к школе, и каждый узнавал бревно, которое он обтесывал своим топором.
По сгупенькам крыльца спустился офицер. Это был пожилой человек с холодными серыми глазами.
— Коммунисты, виходить! — сказал он, закуривая папиросу.
Двенадцать человек стояли неподвижно, молча, а Фетис, отыскав глазами березу, смотрел на бугристый черный нарост на ее стволе, похожий издали на грачиное гнездо.
«Свиль... Ну и что ж. Свиль березовый крепче дуба»,— торопливо думал он, шевеля губами.
И в этот момент до слуха его вновь донесся нетерпеливый крик:
— Коммунисты, виходить!
Фетис шагнул вперед и, глядя в холодные серые глаза врага, громко ответил:
— Есть такие!
Офицер вынул из кармана записную книжку.
— Фамилий?
Фетис широко открыл рот, втянул в себя морозный воздух и натужно, с хрипотой крикнул:
— Фетис Зябликов! Я!
Его окружили солдаты и отвели к стене школы. Он стоял вытянувшись, сделавшись выше, плечистей, красивей. Стоял и смотрел на березу, где чернел нарост, похожий на грачиное гнездо.
В радостно-тревожном изумлении глядели на него одиннадцать человек. А Максим Савельевич тихо сказал:
— Достоин.
В. КОЖЕВНИКОВ
ДАНИЛА
В позапрошлом году колхозники вырыли пруд. Плотину обсадили березами. На две тысячи рублей купили мальков. И в пруду развелись зеркальные карпы.
Данилу назначили сторожем пруда. Он полол водоросли, чистил русла студеных ключей, впадающих в водоем, подкармливал рыбу отрубями.
Колхоз получил доходу с пруда одиннадцать тысяч рублей. Данилу премировали патефоном. Он зазнался и запретил женщинам полоскать в пруду белье. Целые дни Данила ковырялся в воде, полуголый, облепленный тиной и водорослями. Лунными вечерами он разгонял парней, гулявших с гармошкой возле пруда.
— Рыбе покой нужен! — кричал Данила.— Карп, он, как свинья, нервный.
И вот узнали все: близко враг.
Колхозники погрузили свое добро на подводы, и длинные вереницы телег потянулись по расквашенной осенней слякотью земле. Председатель не смог уговорить Данилу уехать. Когда все ушли, Данила поднялся с печи, проковылял по осиротевшему колхозу, поднялся на дамбу, сел там у кривой березы и долго курил, глядя на сверкающую небом воду.
Отряд гитлеровцев расположился в колхозе. Данилу допросили и после не трогали. Посылали рыть картошку, таскать солому в хаты для ночевки солдатам. И побили всего только два раза. Один раз потому, что не снял вовремя шапку перед офицером, другой раз за то, что надел полушубок, хотя на вопрос, есть ли у него теплые вещи, сказал «нет».
Как-то в колхоз пришла танковая колонна. Машины поставили за прудом в балке и замаскировали. Данила сверху, с дамбы, наблюдал, как расстанавливали тяжелые машины, и его морщинистое, старое лицо оставалось равнодушным.
Вечером он пришел в хату, где поселился офицер, и, сняв шапку, сказал:
— Если ваше благородие желает рыбки, то я могу предоставить.
Офицер сказал:
— Карашо.
Ночь была темная. Данила пришел на дамбу со снастью, завернутой в холстину. Отдохнув, он спустился по другую сторону дамбы с лопатой в руках и, поплевав на ладони, принялся подрывать насыпь.
На рассвете из балки послышались крики фашистских танкистов, выстрелы. И когда на помощь им сбежались караульные, балка была полна темной водой, а на поверхности плавали гитлеровцы, взывая о помощи.
Данилу нашли у пустого, теперь безводного пруда. Он сидел обессиленный возле кривой березы и курил. Лопата лежала рядом.
Офицер приказал расстрелять Данилу. Его поставили спиной к березе. Глядя пристально в глаза офицеру, Данила серьезно спросил:
— А как же насчет рыбки, ваше благородие? Я же ее на ваш аппетит наготовил,— и кивнул головой в сторону пруда, где в жидкой тине билась, засыпая, тяжелая рыба.
Офицер выстрелил и промахнулся. Данила вытер о плечо кровь с рассеченной пулей щеки, ясно улыбнувшись, посоветовал:
— Чего торопитесь? Может, меня лучше повесить? Я бы тебя обязательно повесил, чтоб ты ногами землю шкреб, чтобты...
Данилу сбросили вниз с дамбы. Он лежал в тине лицом вниз, и возле его широко раскинутых рук, как золотые скользкие слитки, трепетали засыпающие зеркальные карпы.
А. ТОЛСТОЙ
РОДИНА
За эти месяцы тяжелой борьбы, решающей нашу судьбу, мы все глубже познаем кровную связь с тобой и все мучительнее любим тебя, Родина.
Надвинулась общая беда. Враг разоряет нашу землю и все наше вековечное хочет назвать своим. Даже и тот, кто хотел бы укрыться, как сверчок, в темную щель и посвистывать там до лучших времен, и тот понимает, что теперь нельзя спастись в. одиночку.
Гнездо наше, Родина, возобладала над всеми нашими чувствами. И все, что мы видим вокруг, что раньше, быть может, мы и не замечали, не оценили, как пахнущий ржаным хлебом дымок из занесенной снегом избы,— пронзительно дорого нам. Человеческие лица, ставшие такими серьезными, и глаза всех — такими похожими на глаза людей с одной всепоглощающей мыслью, и говор русского языка — все это наше, родное, и мы, живущие в это лихолетье,— хранители и сторожа Родины нашей.
Все наши мысли о ней, весь наш гнев и ярость — за ее поругание, и вся наша готовность — умереть за нее. Так юноша говорит своей возлюбленной: «Дай мне умереть за тебя».
Родина — это движение народа по своей земле из глубин веков к желанному будущему, в которое он верит и создает своими руками для себя и своих поколений. Это — вечно отмирающий и вечно рождающийся поток людей, несущих свой язык, свою духовную и материальную культуру и непоколебимую веру в законность и неразрушимость своего места на земле.
Когда-нибудь, наверно, национальные потоки сольются в одно безбурное море, в единое человечество. Но для нашего века это за пределами мечты. Наш век — это суровая, железная борьба за свою независимость, за свою свободу и за право строить по своим законам свое общество и свое счастье.
Фашизм враждебен всякой национальной культуре, в том, числе и немецкой. Всякую национальную культуру он стремится разгромить, уничтожить, стереть самую память о ней. По существу фашизм космополитичен в худшем смысле этого понятия. Его пангерманская идея: «Весь мир — для немцев» — лишь ловкий прием большой финансовой игры, где страны, города и люди—лишь особый вид безликих биржевых ценностей, брошенных в тотальную войну. Немецкие солдаты так же обезличены, потрепаны и грязны, как бумажные деньги в руках аферистов и прочей международной сволочи.
Они жестоки и распущены, потому что в них вытравлено все человеческое; они чудовищно прожорливы, потому что всегда голодны и потому еще, что жрать — это единственная цель жизни: так им сказал Гитлер. Фашистское командование валит и валит, как из мешка, эту отупевшую человеческую массу на красноармейские пушки и штыки. Они идут, ни во что уже больше не веря,— ни в то, что жили когда-то у себя на родине, ни в то, что когда-нибудь туда вернутся. Германия— это только фабрика военных машин и место формирования пушечного мяса; впереди—смерть, позади—террор и чудовищный обман.
Эти люди намерены нас победить, бросить себе под ноги, наступить нам сапогом на шею, нашу Родину назвать Германией, изгнать нас навсегда из нашей земли «от-тич и дедич», как говорили предки наши.
Земля оттич и дедич — это те берега полноводных рек и лесные поляны, куда пришел наш пращур жить навечно. Он был силен и бородат, в посконной длинной рубахе, соленой на лопатках, смышлен и нетороплив, как вся дремучая природа вокруг него. На бугре над рекою он огородил тыном свое жилище и поглядел на пути солнца в даль веков.
И ему померещилось многое, тяжелые и трудные времена: красные щиты Игоря в половецких степях, и стоны русских на Калке, и установленные под хоругвями Дмитрия мужицкие копья на Куликовом поле, и кровью залитый лед Чудского озера, и Грозный царь, раздвинувший единые, отныне нерушимые, пределы земли от Сибири до Варяжского моря; и снова— дым и пепелища великого разорения... Но нет такого лиха, которое уселось бы прочно на плечи русского человека. Из разорения Смуты государство вышло и устроилось и окрепло сильнее прежнего. Народный бунт, прокатившийся вслед за тем по всему государству, утвердил народ в том, что сил у него хватит, чтобы стать хозяином земли своей. Народ сообразил свои выгоды и пошел за Медным Всадником, поднявшим коня на берегу Невы, указывая путь в великое будущее...
Многое мог увидеть пращур, из-под ладони глядя по солнцу... «Ничего, мы сдюжим»,— сказал он и начал жить. Росли и множились позади него могилы отцов и дедов, рос и множился его народ. Дивной вязью он плел невидимую сеть русского языка: яркого, как радуга вслед весеннему ливню, меткого, как стрелы, задушевного, как песня над колыбелью, певучего' и богатого. Он назвал все вещи именами и воспел все, что видел и о чем думал, и воспел свой труд. И дремучий мир, на который он накинул волшебную сеть слова, покорился ему, как обузданный конь, и стал его достоянием и для потомков его стала Родиной—землей оттич и дедич.
Русский народ создал огромную изустную литературу: мудрые пословицы и хитрые загадки, веселые и печальные обрядовые песни, торжественные былины, говорившиеся нараспев, под звон струн, о славных 'подвигах богатырей, защитников земли народа, героические, волшебные, бытовые и пресмешные сказки.
Напрасно думать, что эта литература была лишь плодом народного досуга. Она была достоинством и умом народа. Она становила и укрепляла его нравственный облик, была его исторической памятью, праздничными одеждами его души и наполняла глубоким содержанием всю его размеренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связанным с его трудом, природой и почитанием отцов и дедов.
Народ верил в свой талант, знал, что настанет его черед и другие народы потеснятся, давая ему почетное место в красном углу. Но путь к этому был долог и извилист. Культура древнего Киева погибла под копытами татарских коней. Владимиро-Суздальской Руси пришлось почти четыре столетия бороться и с Золотой Ордой, и с Тверью, и с Рязанью, с Нов-, городом, собирая и укрепляя землю. Во главе этой борьбы стала Москва.
Началась Москва с небольшого городища в том месте, где речонка Яуза впадает в Москву-реку. В этом месте заворачивал на клязьминский волок зимний торговый путь по льду, по рекам—из Новгорода и с Балтийского моря — с Болгары на Волгу и далее в Персию.
Младший Мономахович, удельный князь Юрий, поставил при устье Яузы мытный двор, чтобы брать дань с купеческих обозов, и поставил деревянный город — Кремль на бугре над Москвой-рекой. Место было бойкое, торговое, с удобными, во все стороны, зимними и летними путями. И в Москву стал тянуться народ из Переяславля-Залесского, из Суздаля и Владимира и других мест. Москва обрастала слободами. По всей Руси прогремела слава ее, когда московский князь Дмитрий, собрав ополчение, пошатнул татарское иго на Куликовом поле. Москва становилась средоточием, сердцем всей русской земли, которую иноземцы уже стали называть Московией.
Иван Грозный завершил дело, начатое его дедом и отцом, со страстной настойчивостью и жестокостью он разломал обветшавший застой удельной Руси, разгромил вотчинников-князей и самовластное боярство и основал единое русское государство и единую государственность с новыми порядками и новыми задачами огромного размаха. Таково было постоянное стремление всей Руси — взлет в непомерность. Москва мыслилась как хранительница и поборница незапятнанной правды: был Рим, была Византия, теперь — Москва.
Москва при Грозном обстраивается и украшается, Огромные богатства стекаются в нее из Европы, Персии, Средней Азии, Индии. Она оживляет торговлю и промыслы во всей стране и бьется за морские торговые пути.
Число жителей в Москве переваливает за миллион С Поклонной горы она казалась сказочным городом среди садов и рощ. Центр всей народной жизни был на Красной площади — здесь шел торг, сюда стекался народ во время смут и волнений, здесь вершились казни, отсюда цари и митрополиты говорили с народом, здесь произошла знаменитая, шекспировской силы, гениальная по замыслу сцена между Иваном Грозным и народом — опричный переворот. Здесь через четверть века на Лобном месте лежал убитый Лжедмитрий в овечьей маске и с дудкой, сунутой ему в руки; отсюда нижегородское ополчение пошло штурмом на засевших в Кремле поляков. С этих стен на пылающую Москву хмуро глядел обреченный Наполеон.
Не раз сгорая дотла и восставая из пепла, Москва, даже оставшись после Петра Великого «Порфироносной вдовой», не утратила своего значения, она продолжала быть сердцем русской национальности, сокровищницей русского языка и искусства, источником просвещения и свободомыслия даже в самые мрачные времена.
Настало время, когда европейским державам пришлось потесниться и дать место России в красном углу. Сделать это их заставил русский народ, разгромивший, не щадя жизней своих, непобедимую армию Наполеона. Русскому низко кланялись короли и принцы всей Европы, хвалили его доблесть, и парижские девицы гуляли под ручку с усатыми гренадерами и чубатыми донскими казаками.
Но не такой славы, не такого себе места хотел русский народ; время сидеть ему в красном углу было еще впереди. Огромный национальный подъем всколыхнул все наше государство. Творческие силы рванулись на поверхность с мутного дна крепостнического болота, и наступил блистательный век русской литературы и искусства, открытый звездой Пушкина.
Недаром пращур плел волшебную сеть русского языка, недаром его поколения слагали песни и плясали под солнцем на весенних буграх, недаром московские люди сиживали по вечерам при восковой свече над книгами, а иные, как неистовый протопоп Аввакум, в яме, в Пустозерске, и размышляли о правде человеческой и записывали уставом и полууставом мысли свои. Недаром буйная казачья вольница разметывала переизбыток своих сил в набегах и битвах, недаром старушки-задворенки и бродящие меж дворов старички за ночлег и ломоть хлеба рассказывали волшебные сказки,—вся, вся широкая, творческая, страстная, изыскующая душа народа русского нашла отражение в нашем искусстве XIX века. Оно стало мировым и во многом повело за собой искусство Европы и Америки.
Русская наука дала миру великих химиков, физиков и математиков. Первая паровая машина была изобретена в России, так же, как вольтова дуга, беспроволочный телеграф и многое другое. Людям науки, и в особенности изобретателям, приходилось с неимоверными трудами пробивать себе дорогу, и много гениальных людей так и погибло для науки, не пробившись. Свободная мысль и научная дерзость ломали свои крылья о невежество и косность царского строя. Россия медленно тащила колеса по трясине. А век был такой, что отставание «смерти подобно». Назревал решительный и окончательный удар по всей преступной системе, кренившей Россию в пропасть и гибель. И удар произошел, отозвавшись раскатами по всему миру. Народ стал хозяином своей Родины.
Пращур наш, глядя посолонь, наверно, различил в дали веков эти дела народа своего и сказал тогда на это: «Ничего, мы сдюжим...»
И вот смертельный враг загораживает нашей Родине путь в будущее. Как будто тени минувших поколений, тех, кто погиб в бесчисленных боях за честь и славу Родины, и тех, кто положил свои тяжкие труды на устроение ее, обступили Москву и ждут от нас величия души и велят нам: «Свершайте!»
На нас всей тяжестью легла ответственность перед историей нашей Родины. Позади нас — великая русская культура, впереди — наши необъятные богатства и возможности, которыми хочет завладеть навсегда фашистская Германия. Но эти богатства и возможности — бескрайние земли и леса, неистощимые земные недра, широкие реки, моря и океаны, гигантские заводы и фабрики, все тучные нивы, которые заколосятся, все бесчисленные стада, которые лягут под красным солнцем на склонах гор, все изобилие жизни, которого мы добьемся, вся наша воля к счастью, которое будет,— все это — неотъемлемое наше навек, все это — наследство нашего народа, сильного, свободолюбивого, правдолюбивого, умного и не обиженного талантом.
Так неужели можно даже помыслить, что мы не победим! Мы сильнее гитлеровцев. Черт с ними! Их миллионы, нас миллионы вдвойне. Все опытнее, увереннее и хладнокровнее наша армия делает свое дело истребления фашистских армий. Они сломали себе шею под Москвой, потому что Москва— это больше, чем стратегическая точка, больше, чем столица государства. Москва—это идея, охватывающая нашу культуру в национальном движении. Через Москву — наш путь в будущее.
Как Иван в сказке, схватился весь русский народ с чудом-юдом двенадцатиглавым на калиновом мосту. «Разъехались они на три прыска лошадиных и ударились так, что земля застонала, и сбил Иван чуду-юду все двенадцать голов и покидал их под мост».
Наша земля немало поглотила полчищ наезжавших на нее насильников. На западе возникали империи и гибли. Из великих становились малыми, из богатых — нищими. Наша Родина ширилась и крепла, и никакая вражья сила не могла пошатнуть ее. Так же без следа поглотит она и эти гитлеровские орды. Так было, так будет. Ничего, мы сдюжим!..
Б. ГОРБАТОВ
СЧИТАЙТЕ МЕНЯ КОММУНИСТОМ
Мирной и тихой жизнью жил Максим Афанасьев в родном селе. Работал на тракторе. Ухаживал за девушкой. Откладывал деньги на новый костюм. Потом женился. Было маленькое тихое счастье. Маленькие приятные заботы. О тракторе, о трудоднях, о доме, о новых обоях и пластинках к патефону.
И за всем этим обыкновенным, будничным, мелькающим, как спицы в колесе, все некогда было подумать о большом и главном: о своем месте на земле, о своем месте в борьбе. Так и жил Афанасьев тихой жизнью. Хороший тракторист. Хороший муж. Аккуратный и непьющий человек.
И вот пришла война. Гитлеровцы напали на нашу Родину. Куда-то вдаль отодвинулись маленькие семейные заботы. Над большой семьей — над Родиной — нависла беда. Мир пылает. Решается судьба миллионов Афанасьевых. Быть или не быть власти Советов. Быть или не быть нашему счастью.
И когда в первых боях тяжело ранили Максима Афанасьева и товарищи бережно несли его на руках в медпункт, не о молодой жизни жалел Афанасьев, не о доме, не о милой Марусе.
— Эх,— горько шептал он товарищам.— Эх, так и не ус
пел стать я коммунистом.
Мы нашли Афанасьева на медпункте. Увидев нас, он попросил подойти ближе.
— Товарищи,— прохрипел он,— у людей спросите: я честно
выполнял свой долг. Все скажут. Если придется умереть, убедительно вас прошу: считайте меня коммунистом.
Считайте меня коммунистом. Живого или мертвого. Тысячи просьб об этом. Это самое замечательное, самое великолепное, что есть в нашей великой и святой борьбе.
Никогда не приходилось так много работать секретарю партийной комиссии, батальонному комиссару товарищу Устименко, как в эти дни.
— Народ требует принимать в партию до боя, в бою.
Люди хотят идти в бой коммунистами.
И Устименко и его комиссия работают прямо в бою. За дни войны разобрано куда больше заявлений о приеме в партию, чем за шесть предвоенных месяцев.
Каждый день рано утром отправляется партийная комиссия на передовые. Чаще всего пешком. Иногда ползком. Под артиллерийским и минометным огнем.
Где-нибудь в рощице, подле огневой позиции, у стога сена или прямо в поле, или за линией окопов открывает свое заседание партийная комиссия. Тут же под рукой — фотограф Люблинский, молодой человек, вздрагивающий при свисте снарядов. Он фотографирует принятого в партию. Нужно срочно изготовить карточку.
Часто бывает, что Люблинский только что установит свой аппарат на треноге, скомандует «спокойно», а вражеский снаряд шлепнется неподалеку и «сорвет съемку», засыплет землей фотографа и его объект. Тогда партийная комиссия быстро меняет свою «огневую позицию». Сейчас Люблинскому стало легче работать. К снарядам он привык, и вместо старого аппарата на треноге у него «ФЭД».
Принимаемые в партию приходят на заседание комиссии прямо с передовой. На их лицах дым боя. Они садятся на траву. Волнуются. Один нервно покусывает травинку, другой ждет в стороне, курит. Свершается великий момент в их жизни. Они становятся кохммунистами. Отсюда они уйдут обратно в бой. Но уйдут людьми иного качества — большевиками.
И хотя вокруг гремит музыка боя, заседание партийной комиссии проходит строго и сурово, как принято. Коротко излагается биография вступающего, взвешивается, прощупывается его жизнь. Достоин ли он высокого звания большевика? Придирчиво и внимательно смотрят на него члены партийной комиссии.
И главный, решающий вопрос задают каждому:
— Как дерешься? Как защищаешь Родину?
Семь километров нес на плечах Василий Копачевский своего командира, своего парторга Гурковского. Вокруг были враги Они наседали. Но не бросил Копачевский раненого парторга, положил к себе на левое плечо и нес. А к правому плечу Копачевский то и дело прикладывал винтовку и отстреливался. Так и нес его семь километров до ближайшего села. Но и в селе уже были гитлеровцы. Как нашел здесь повозку Копачевский? Как ушел от фашистов и увез Гурковского? Чудом. Но вот они оба здесь, среди своих, и боец и парторг. Только сейчас заметил Копачевский, что и сам он легко ранен.
Вот и принимают в партию Василия Копачевского, разведчика с бронемашины.
— Как дерешься? Как защищаешь Родину? — спрашивают и его.
Он смущается. Ему кажется, еще ничего геройского не сделал он.
- Буду драться лучше,
- Кто рекомендует?
Парторг Гурковский, которого семь километров сквозь вражье кольцо нес Копачевский, может дать ему лучшую рекомендацию: она скреплена кровью.
Вот стоит перед партийной комиссией сапер Павел Вербич, Двадцать лет ему от роду. Украинец. Молодой боец.
Но уже успел отличиться в боях сапер Вербич.
Он минировал участок под огнем противника. С редким хладнокровием делал он свое дело. Враг бил по нему, по его смертоносным минам — он продолжал работать. И, только заложив последнюю мину, ушел.
- Говорят, на ваших минах подорвались четыре вражеские машины и один танк?
- Не знаю,— смущается Вербич,— люди говорят так, а сам я не видел.
Сапер редко видит результаты своего героического труда.
Принимается в партию связист Николай Боев. Только вчера он представлен к награде, сегодня вступает в партию. Боев—морзист. Но эта работа не по нутру ему. Он рвется в огонь, на линию. И часто в горячем бою добровольно идет с катушкой наводить линию. Он знает: только геройский, только смелый боец может стать коммунистом. Он честно заработал право на высокое звание.
И Копачевский, и Вербич, и Боев приняты в ряды Коммунистической партии. Они поднимаются с травы радостные, возбужденные.
- Ну,— обращается к каждому из них Устименко,— оправдаете доверие партии?
- Оправдаем.
- Жизнь за Родину не пожалеете?
- Нет, не пожалеем.
И это звучит, как клятва. Они уходят отсюда в бой. Нет, не пожалеют они жизни за Родину.
Двадцать девятого августа был принят в ряды партии комсомолец Русинов. Четвертого сентября он пал смертью героя. Такой смертью, о которой песни петь будут.
— Комсомольцы, ко мне! — кричал он.
И с двадцатью комсомольцами бросился в лихую и последнюю атаку. Это было в бою под Каховкой. К старой песне о Каховке поэты прибавят новые строки о коммунисте Русинове, павшем в бою.
В грозные военные дни огромной волной идут в партию бойцы и командиры. Еще крепче связывают они свою судьбу с Коммунистической партией. Они знают: быть коммунистом сейчас — трудное, ответственное дело. Они рады этой ответственности. Они знают: быть коммунистом сейчас — значит драться впереди всех, смелее всех, бесстрашнее всех. Они готовы к этому. Они не боятся смерти и презирают ее. Они верят в победу и готовы за нее отдать жизнь.
Такой народ невозможно победить. Такую партию победить ,нельзя.
С. БОРЗЕНКО
КОННИКИ
...Кириченко скакал крупной рысью впереди небольшого отряда на худой породистой лошади, прикрытой буркой, с которой струилась дождевая вода.
Навстречу брел усталый, забрызганный грязью пехотинец, подремывая на ходу, не отрывая глаз от земли.
Кириченко остановил красноармейца, вытиравшего обвисшие пшеничные усы, которому было уже лет за тридцать.
- Почему не приветствуешь? — раздраженно спросил генерал, отбрасываясь на мокром седле и вытягивая вперед отекшие ноги.
- А зачем? — безмятежно спросил красноармеец.
- Как зачем?.. Я командир дивизии.
- Командиру дивизии можно и откозырять,— сказал красноармеец и нехотя поднес руку к засаленной, мокрой пилотке. Потом поднял кверху голубые глаза, вспыхнувшие какой-то насмешливой укоризной: — Вот кабы шли вперед на германа, тогда без напоминаний бы, а то деремся, кровь проливаем, а вы, генералы, приказываете отступать. Доотступа-лись, что скоро на Дону будем...
- Помолчи... Развязал язык,— крикнул адъютант генерала майор Осипчук.
- Не шуми, Алексей Захарович. То, что он сказал, многие думают,— заметил генерал, трогая коня, но через несколько шагов повернулся и, нагнав красноармейца, спросил: — Куда идете-то?
Красноармеец Иван Колесниченко держит путь в Чистяково. Дивизию нашу потрепали... Ну, вот и разбрелись, ищем своих.
- Какой части?
- Части я знаменитой — девяносто шестой горнострелковой дивизии. Может, слыхали?
- Пойдешь служить в кавалерию?
— Пойду... Только временно, до встречи со своей частью.
Кириченко тронул коня, но потом, как бы вспомнив,
спросил:
- А верхом ездить умеешь?
- Нет, не умею. Я человек пеший.
— Тоже казак! Ну, ладно. Со временем научишься,— и,
обращаясь к Осипчуку, сказал: — В полк, к Ялунину.
Разговор с красноармейцем усилил дурное настроение генерала. Фашисты продолжали наступать по всему фронту. Главный удар танковая группа гитлеровского генерала Швеллера наносила по шоссе Макеевка — Чистяково.
Остатки наших стрелковых дивизий месили грязь на дорогах, стекавшихся в район Харцызск — Зугрэс. Кириченко понимал: овладев Зугрэсом, противник получит возможность выйти на тылы армии.
У сгоревшего моста через безымянную речушку стояло несколько застрявших штабных автомобилей. Их вытаскивали волами. Высокий человек, с головы до ног измазанный глиной, пошел навстречу всадникам. С трудом Кириченко узнал в нем командующего 18-й армией генерал-майора Кол-пакчи.
Командующий отвел Кириченко в сторону.
- Николай Яковлевич,— сказал он,— Зугрэс надо удержать любой ценой хотя бы на двое суток. Надо дать возможность перегруппироваться фронту. Задача эта возложена на нашу армию. Из всех войск армии только одна ваша дивизия осталась по-настоящему боеспособной...
- Есть удержать Зугрэс,— как-то озорно вытянувшись, произнес Кириченко.— Мне надлежит оторваться от противника, уничтожить все переправы и не давать фашистам форсировать озеро и реку. Я уже получил из армии распоряжение начальника штаба и еду на рекогносцировку.
- Надеюсь на вас, Николай Яковлевич... Между прочим, у нас с вами одинаковое отчество. Я — Владимир Яковлевич. Мы вроде как бы братья,— тихо проговорил командующий.
Кириченко понял, улыбнулся, взял под козырек и ловко прыгнул в седло. Поехал он все той же крупной неторопливой рысью, внимательно разглядывая сквозь туман дорогу и прилегающие к ней высоты.
В Зугрэсе генерал нашел вместо двух рот, оставленных для прикрытия, как сообщал ему начальник штаба армии, всего лишь пятнадцать человек. Красноармейцы беспечно варили
уху из рыбы, наглушенной гранатами. Ни плотина, ни мост еще не были взорваны, не была подготовлена к взрыву и электростанция.
На улице к генералу обрадованно бросился человек в разорванном пиджаке.
— Вот хорошо, что вы приехали,— произнес он.—Я инженер электростанции, оставленный здесь для взрыва. Идите, покажу все. Я было уже собрался сам взрывать, но никогда ни чего подобного не делал, а тут такая махина, не знаю, с какого конца начинать.
Инженер тщетно пытался унять волнение. Кириченко успокоил его.
— Может быть, сначала зайти к нам,— предложил инженер,— обсушитесь... Жена вскипятит чаю.
Предложение было заманчивое. Кириченко любил крепкий чай. Он молчаливо кивнул головой в знак согласия, и они быстро прошли к дому.
В пустой квартире было неуютно, на грязном полу лежали огромные, туго связанные узлы. Навстречу вышла высокая молодая женщина — жена инженера. Она протянула Кириченко узкую, украшенную крохотными часами руку, и сокрушенно произнесла:
— Вот все уехали, а мы остались караулить станцию. Муж
никак не может с ней расстаться, а я с ним, так и сидим на узлах... Да и ехать-то уже не на чем, да и некуда.
Легкой походкой она вышла в кухню. Оттуда через несколько минут послышался шум примуса. Генералу вспомнился родной дом в Пятигорске, встало перед глазами лицо дочери. Захотелось лечь на диван, закрыть глаза, ни о чем не думать... Он резко встряхнул головой и, вызвав начальника разведки капитана Тимофеева, дал указание — взять взвод и проехать вперед до сближения с противником.
Худой и высокий Тимофеев, потеряв двух казаков убитыми, вернулся раньше, чем его ждали. Фашисты приближались. Надо было спешить.
Кириченко потребовал к себе командиров саперных взводов и приказал немедленно начать взрывы. Артиллеристам было приказано занять огневые позиции, а полкам майоров Лашкова и Каплина — подтянуться к городу.
Через час галопом подошли казаки. Лошади всех мастей казались вороными от струившегося с них пота.
Командиры отдали приказ готовиться к обороне, казаки спешились, в руках появились лопаты, и по всему берегу замелькала свежая земля.
Противник приближался. Подойдя к разбитому окну, Кириченко невооруженным глазом мог заметить передовые дозоры, медленно спускавшиеся с холма. Видны были темные пятна грузовиков и артиллерии.
Сторожевое охранение, находившееся впереди, рысью отошло под гору. Звонко, очень звонко прозвенели подковы о камни моста, как бы напоминая, что медлить нельзя.
Два молчаливых связиста установили в комнате телефон. Кириченко позвонил к саперам. У них все что-то не ладилось: тол не успели подвезти, и взрывать они собирались местным динамитом, предназначенным для взрыва породы в шахтах.
— Поторапливайтесь,— сказал Кириченко командиру саперного батальона. В телефоне забулькало — очевидно, сапер пытался что-то объяснить, но генерал положил трубку.
Хозяйка застелила стол белой скатертью, налила в стакан с серебряным подстаканником янтарного чаю и вдруг с надеждой в голосе обратилась к генералу:
— Может, и уезжать не стоит... Ведь вы не пустите сюда
гитлеровцев?.. Ну, скажите, не пустите?..
Кириченко ничего не ответил. Допив чай, он подошел к окну. Взвод фашистов бежал по плотине. Наши пулеметные очереди выхватывали людей, но оставшиеся в живых перепрыгивали через раненых и убитых и, наклонив тела, бежали вперед. И вдруг сильный взрыв потряс воздух. К небу поднялись камни и фонтаны воды. В брызгах преломились радужные лучи «а мгновение выглянувшего из-за туч солнца.
Хлынувшая вода затопила с десяток гитлеровцев. Подходившие колонны противника остановились на мокрых склонах — прямой путь через плотину и мост был отрезан. В то же мгновение между вражескими солдатами начали рваться тяжелые снаряды.
— Анатолий Колосов бьет,— довольно промолвил генерал.
Кириченко пошел посмотреть, как идут оборонительные работы.
Казаки торопливо рыли окопы, минировали дороги, на пыльных, паутиной занавешенных чердаках устраивались автоматчики.
Через час к переправам подошел полк противника. В укрытиях гитлеровцы установили восемнадцать орудий. Разорвавшийся невдалеке снаряд обдал генерала комьями сухой земли.
- Коня! — крикнул Кириченко, и тотчас перед ним появилась гнедая кобылица. Генерал легко прыгнул в седло, выхватил из ножен, обтянутых зеленой материей, легкий клинок. На нем было написано: «Герою Сиваша Н. Я. Кириченко от Реввоенсовета Республики».
- Что, хороша шашка? — спросил Осипчук, перехватывая взгляд казака, подавшего генералу коня.
- Хороша!
— Ее генералу сам Фрунзе вручал...
Кириченко молча поскакал туда, где начинался изнурительный бой. Фашисты засыпали наш берег минами. Со всех сторон строчили пулеметы. Сотни автоматчиков, укрывшись за камнями и сваленными столбами, вели беспрестанный огонь. Стены домов, прилегающих к озеру и реке, были исцарапаны осколками, под ногами валялись битые стекла и срезанные пулями, покрытые желтыми листьями ветви. Пороховой дым смешался с туманом. Было трудно дышать, еще труднее видеть: дым разъедал глаза.
На черных резиновых лодках, на плотах, а кое-где и вброд бросились фашисты через реку. Их было несколько тысяч.
Наша артиллерия перенесла огонь на воду. Пулеметчики расстреливали врагов в упор. В одном из станковых пулеметов выкипела вода, солдат Тимофей Шепелев под огнем противника опустился к реке, зачерпнул каской воды, вернулся и налил в кожух. К тому времени весь расчет пулемета был перебит. Шепелев лег за пулемет и мелкими очередями переколотил взвод фашистов, переправившийся через реку и бросившийся было в атаку.
Солдаты видели, как 152-миллиметровые пушки Колосова выводили из строя орудия фашистов. За два часа боя под его снарядами замолчало десять вражеских орудий.
— Передайте нашу благодарность Колосову,— просили казаки офицеров связи.
Мы несли потери. К вечеру в полковых батареях было убито и ранено по два расчета.
Старший сержант Тихон Божков в начале боя был ранен осколком мины в бедро. Он не покинул орудия, продолжал стрелять, накрыв сряду два станковых пулемета и роту атакующей пехоты противника.
Оккупанты не бросались теперь так рьяно к реке. По ней плыли убитые. Противоположный берег покрывали трупы в сероватых шинелях.
Быстро темнело. Дождь прекратился, сгущался туман, и капли воды падали с веток скалеченных деревьев.
Потеряв два батальона пехоты, противник, не подбирая раненых, покинул берега озера и реки.
В кромешной тьме небо слилось с землей. Звезд не было видно. Низкие тучи неслись над головами, казалось, задевая короткие трубы электростанции. Стрельба прекратилась, но сквозь свист ветра слышен был скрип колес и какое-то передвижение на вражеской стороне.
В казачьем лагере никто не спал. Командиры полков: майоры Каплин и «Пашков, начальники штабов — капитаны Кайтмазов и Андреев руководили организацией обороны.
Казаки рыли окопы глубиной в человеческий рост, устанавливали пулеметы: орудийные расчеты меняли огневые позиции, выдвигались вперед для стрельбы прямой наводкой.
Полк под командованием майора Ялунина отвели в резерв. С Григорием Гавриловичем Ялуниным я встречался в Могилев-Подольске, куда прорывались фашистские войска, начавшие наступление из Румынии. Там Ялунину поручили1 взорвать мост через Днестр. Он смело пропустил через него фашистскую роту, уничтожил ее и лишь после этого взорвал мост.
Среди бойцов находились политработники, объясняя поставленную задачу, подбадривая людей. Комиссар дивизии — полковой комиссар Сергей Быков осмотрел походные кухни всех эскадронов, лично проверил, все ли казаки сыты.
Позванивали котелки, стучали ложки, вился душистый запах баранины. Невдалеке стояли оседланные кони, пожевывая овес.
Длинная осенняя ночь прошла быстро. Вряд ли кто-либо заснул хоть на час. Люди не испытывали тревоги, но какое-то сдержанное волнение предстоящего боя мешало спать.
На рассвете капитан Тимофеев привел в штаб двадцатилетнего фашистского ефрейтора, захваченного на том берегу у затухающего костра. Поеживаясь от холода .и страха, пленный рассказал, что тут наступает их четвертая горнострелковая дивизия, которая вместе с первой такой же дивизией составляет «альпийский букет» — одну из любимейших группировок Гитлера, хорошо проявивших себя в горах Югославии и Греции. Пленный назвал количество орудий и батальонов и фамилию командира дивизии генерала фон Геккера.
Альпийские стрелки первыми открыли стрельбу. Им ответила батарея Колосова.
Завязалась бесплодная артиллерийская перепалка, ибо целей не было видно. Ориентироваться на слух было трудно — густой туман скрадывал звук.
В полдень слоистый туман рассеялся, и сквозь просветы в облаках выглянуло солнце. Фашисты обрушились на нашу оборону всеми огневыми средствами. От свиста мин и грохота разрывов болели уши.
На воде показались плоты, сколоченные из срезанных телеграфных столбов — фашисты начали переправу. Она была стремительной. Отдельные мелкие подразделения врага достигли нашего берега и быстро окопались, поддерживая огнем свои войска, плывшие на плотах. Наши пулеметчики и стрелки встретили их огнем.
Разрывная пуля ранила пулеметчика. Пулемет замолк, бессильно повисли ленты с патронами, а фашисты наступали на этом участке. На помощь раненому прискакал командир пулеметного эскадрона Степан Грошев. Его зеленый развевающийся плащ светился дырами, разорванными пулями. Грошев не успел соскочить с седла, как под ним грохнулась убитая лошадь. Командир эскадрона освободил из стремян ноги, лег за остывающий пулемет и стрелял из него до последнего патрона, потом поставил пулемет на катки и утащил за собой.
Бой кипел по всему берегу Зугрэса.
У здания почты враг переправил на наш берег миномет и открыл из него частую и меткую стрельбу. Сержант Егор Кривобоков со своим отделением бросился на миномет и захватил его. Фашисты окружили отделение, но солдаты, следуя примеру своего командира, выхватив сабли, бросились на врагов, разорвали окружение и вышли из него, не потеряв ни одного своего, но оставив на земле десяток фашистских трупов.
Казак Степан Зайцев, раненный в голову, обливаясь кровью, наотрез отказался уйти в тыл. Он лег за камень и* хладнокровно застрелил трех фашистов.
Гитлеровские автоматчики дрались за каждый метр земли. Да иного выбора у них и не было. Казаки видели, как вражеские офицеры стреляли из парабеллумов в своих солдат, попятившихся назад.
К берегу причаливали новые и новые плоты, наполненные фашистами, но бой шел без заметного перевеса в чью-либо сторону.
Ранили командира взвода. Бойцы, попавшие под обстрел минометов, остановились в нерешительности. Вперед выбежал сержант Петр Безуглов. Многие знали его в лицо — весельчака и запевалу эскадрона.
— За Родину, вперед, товарищи! Вперед, казаки! — крикнул он и побежал на фашистов, размахивая шашкой.
Мина разорвалась у его ног, подняв столб огня и черного дыма. Бойцы упали на землю, прижимаясь к мокрым камням мостовой. Когда дым рассеялся, они увидели своего сержанта далеко впереди с шашкой в руках. Не задумываясь, они догнали его. Через несколько минут я увидел Безуглова —он бежал и падал, обливаясь кровью.
Фашистские вояки не выдержали удара, поспешно побежали к реке, роняя оружие, на ходу раздеваясь. Человек пять утонуло, остальные были расстреляны из винтовок.
Бой продолжался, и исход его решала теперь рукопашная схватка. Дрались на улицах города. Несколько гитлеровских автоматчиков ворвались в жилые дома и начали стрелять из окон. Сзади к ним подкрадывались женщины-домохозяйки и валили их ударами топоров и лопат.
В жарких местах боя казаки видели военфельдшера Федора Лобойко. Молодой, почти мальчик, он наклонялся над раненым, успокаивал его, сильными руками перевязывал рану,
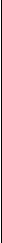 туго стягивая концы бинтов, брал раненого на плечи и уносил к санитарной машине. Пятьдесят двух раненых бойцов с оружием вынес с поля боя в тот день Лобойко.
туго стягивая концы бинтов, брал раненого на плечи и уносил к санитарной машине. Пятьдесят двух раненых бойцов с оружием вынес с поля боя в тот день Лобойко.Не бросали товарищей и казаки. Максим Бондарь вынес троих. Иван Калабухов — двух. Святой солдатский закон взаимной выручки был выше чувства самосохранения.
В пылу боя я не всегда знал, где в тот или иной момент находится наш командир дивизии генерал Кириченко, но он как бы присутствовал рядом, и я старался вести себя так, чтобы заслужить его похвалу. Капитан Тимофеев как-то сказал:
— Заслужить похвалу генерала — большая честь.
Бой продолжался. Генерал Кириченко не терял из виду ни одного подразделения. Он руководил боем с той же молодой страстью, с какой двадцать лет назад во главе конной бригады прорвался через ледяные воды гнилого Сивашского моря и, зайдя во фланг врангелевской армии, напал на ее лучшую часть — конницу генерала Барбовича. Сейчас Кириченко стоял на возвышенности, не замечая ни холода, ни дождя. Офицеры связи дважды передавали ему просьбу командиров полков Лашкова и Каплина — двинуть в дело резервный полк Ялу-нина. Он отклонял их просьбу, говорил себе — нет, не время еще!
Тридцать лет пробыл генерал в строю, двадцать четыре года в партии. Всем своим военным и партийным чутьем он по-, нимал, что из тысячи минут боя нужно выбрать одну, самую верную и тогда бросить все силы, сразу смять врага и уничтожить его. Надо было найти эту минуту, не ошибаясь.
Каплин доложил о больших потерях. Полковой комиссар Быков предложил отойти, чтобы сберечь людей. Генерал согласился и отдал приказ покинуть станцию, отойти на командные высоты, дать возможность переправиться двум вражеским батальонам, а затем контратаковать их и сбросить в реку.
В три часа дня полк Каплина, поддерживаемый с юга, со стороны шоссе, стрелковыми полками майоров Овчаренко и Дорожкина, а также артиллерией, стремительно, в конном строю, обрушился на фашистов. Впереди с обнаженным клинком мчался капитан Асланбек Кайтмазов. Боевой азарт этого смуглого высокого офицера передавался всему полку. Недаром капитан в свое время получил первый приз на конных состязаниях в Персияновке, где формировалась дивизия. у Фашисты побежали назад беспорядочной толпой. Прижатые к озеру, они пытались спастись вплавь. Многие утонули, многие были перебиты. Ни один не добрался к своим.
...День кончился. Солнце закатывалось, и близлежащие холмы казались кроваво-красными.
Электростанция по-прежнему оставалась в наших руках. Но разведка доложила генералу о движении к месту боя первой горнострелковой дивизии врага, о концентрации его сил в селе Палагеевке;
Случилось то, что предвидел и чего опасался генерал. С подходом своей резервной дивизии противник получал пятикратное преимущество в живой силе и семикратное — в огневых средствах.
Но надо было выстоять во что бы то ни стало. Это понимали все.
Третьи сутки генерал не смыкал глаз. Третьи сутки не спала вся дивизия.
С наступлением темноты над полем боя воцарилась тишина. Туман сгустился еще больше. Даже в девять часов утра нельзя было разглядеть озера.
Пользуясь туманом, фашисты подвели два пехотных полка к тому месту водохранилища, где в него впадает река Кринка. Вражеские саперы принялись наводить мост. К одиннадцати часам этот мост был готов. Альпийские стрелки бросились по нему бегом, но их тотчас накрыли снаряды батареи Колосова. Полетели кверху бревна, сооружение рухнуло в воду.
К полудню туман стал рассеиваться. На флангах затрещали пулеметы. Канонада слилась в один гул.
Трижды противник пытался переправиться на наш берег и трижды с большими потерями был отбит.
Наконец, атакой с юга фашистам удалось вклиниться в нашу оборону. Попав под сильный фланговый огонь, казаки, цепляясь за каждый бугорок, стали отходить. Но инициатива боя по-прежнему оставалась в руках Кириченко. Он приблизил командный пункт к месту боя. Слез с седла, расправляя отекшие ноги. Лицо его было полно сосредоточенной решимости, круглые серые глаза горели.
Казаки весело приветствовали генерала.
- Ну, как герман дерется? — спросил он у забинтованного Колесниченко, того самого солдата, что недавно встретился ему на дороге.
- Слабше нашего,— ответил солдат, расправляя мокрые усы.
Кругом шел бой. Подлетали мокрые на мокрых. конях офицеры связи:
— Противник ворвался в город и атакует высоту 181,4. Гитлеровцы хотят перерезать шоссе и окружить наши части.
Вот она, минута, решающая участь всего боя! И генерал смело бросил вперед резервный полк майора Ялунина.
Первый эскадрон старшего лейтенанта Ярошевского пошел по шоссе. Четвертый эскадрон младшего лейтенанта Горохова бросился на противника в лоб. С эскадроном шли началь-
 ник штаба капитан Осадчий и комиссар полка старший политрук Тымченко. Сам Ялунин двигался с эскадронами Приходько и Ермоленко. Ладно сбитый, в кавказской бурке, с обнаженным клинком, он скакал впереди конников.
ник штаба капитан Осадчий и комиссар полка старший политрук Тымченко. Сам Ялунин двигался с эскадронами Приходько и Ермоленко. Ладно сбитый, в кавказской бурке, с обнаженным клинком, он скакал впереди конников.Двенадцать тачанок с пулеметами развернулись и с высоты пошли вдоль железной дороги навстречу врагу. Став на огневой рубеж, тачанки развернулись, и пулеметы открыли губительный огонь. Фашистские офицеры повели своих солдат на огневые точки.
Пулеметчик Фома Гринкин, залегший в водосточной канаве под насыпью железной дороги, один сдерживал роту вражеской пехоты. Пулемет его был установлен удачно: в сектор обстрела попадало широкое пространство, а сам он оставался почти неуязвимым. Но вот с пулеметом что-то случилось, он перестал работать. Гринкин видел фигуры бегущих на него разъяренных врагов. Но у него хватило мужества быстро разобрать оружие и прочистить замок. Он в упор расстрелял взвод фашистов
Осколок снаряда оторвал голову пулеметчику. Но и убитый, Гринкин не выпустил рукоятку затыльника, и его пулемет продолжал стрелять. Фашисты, прекратив атаку, залегли.
Гитлеровцы начали было теснить спешившихся казаков. Но тут из-за холмов показалось девять, а потом еще двенадцать советских бомбардировщиков. Они засыпали фашистов бомбами. Появление своих самолетов как бы вдохнуло энергию в уставших бойцов. Раздалась команда:
— По коням!
Словно вихрь, понеслись конники. Сверкнули клинки, и снова начался сокрушительный бой. Фашисты бежали по склонам холма, им некуда было укрыться, клинки настигали их всюду. Руководил схваткой Ялунин. К нему сходились все сведения, он был в курсе каждого события, бросал вперед подразделения, приказывая одним залечь, другим подняться, третьим заходить противнику во фланг.
Связь между эскадронами и командиром полка, между командиром полка и генералом Кириченко осуществляли три казака: Трегубов, Бушнев, Мазур. Там, где спешенные бойцы под вражьими пулями пригибались к мокрой земле, связные проносились бешеным галопом на своих огромных конях.
С раздутыми ноздрями, одним махом переносясь через каменные заборы, перепрыгивая через канавы с бурлящей водой, мчался* рыжий конь Трегубова. Он был великолепен, этот конь; великолепен был и всадник, размахивающий сверкающим клинком. Точно и аккуратно передавал Трегубов приказы командира. Вот он очутился вместе с Ялуниным около двух орудий. Расчеты этих орудий были перебиты. Капли дождя испарялись с металла раскаленных пушек. Фашисты были совсем близко, намереваясь, очевидно, захватить орудия. Как быть? И вдруг мимо мчится тройка обезумевших коней, впряженная в бричку. Прыжок — и два человека вцепились в спутавшиеся вожжи, повисли на вспененных конских мордах, остановили их стремительный бег. Еще несколько минут. Кони впряжены в орудие, и оно отвезено в балку к артиллеристам. За первым орудием вывезено второе.
А бой бушует с неистовой силой. Без умолку строчат гитлеровские автоматы, тяжелые снаряды подымают фонтаны мокрой земли, острых камней и грязной воды. Но чуткое ухо Ялунина, его острый взгляд хорошо разбираются во всех перипетиях схватки. Командиру надо послать своих людей на фланг, узнать, не грозит ли оттуда опасность. Трегубов, Мазур и лейтенант Должук разом прыгнули в мягко скрипнувшие седла. Удар шпорами, и кони, прижав уши, понесли их вперед, мимо взрывов.
Вот она, насыпь железной дороги, с поломанными рельсами и вывернутыми шпалами. Конь берет ее в четыре прыжка. За насыпью совсем близко фашисты. Их около сотни, не меньше, но еще ближе на земле распластались двое в красноармейской форме. Кто они? Трегубов подлетает к ним, спрыгивает с коня, слышит мягкий грудной голос:
— Не волнуйся, милый. Сцепи зубы и терпи.
Трегубов видит: темно-зеленые медицинские петлицы, два вишневых кубика, золотистые пряди волос, выбившиеся из-под пилотки. Женщина-военфельдшер делает перевязку раненому лейтенанту.
Короткий, неприятный свист. Женщина хватается за грудь, ее тонкие пальцы окрашивает кровь.
Впереди фашисты. Через пять минут они будут здесь. Правая рука женщины ищет револьвер. Но пальцы уже не слушаются, и она просит склонившегося над ней казака:
— Пристрели меня... Не хочу живой в фашистские лапы...
Трегубов смотрит влево и видит, что и оттуда движутся фашисты.
Надо скорее предупредить об этом командира полка. Но надо также спасти родных советских людей. Как это сделать? Ведь их двое. Кого-то придется оставить. Лейтенант решительно говорит:
- Берите женщину. Я отобьюсь...
- Что ты, братушка? Один, раненный, против фашистов?
- За меня не волнуйся,— отвечает лейтенант. Он ложится на насыпь и дает длинную очередь из автомата.
Трегубов взял военфельдшера на руки и прыгнул в седло. Две вражеские пули тут же вонзились в хрипящего коня, струйки крови потекли по его золотистой шерсти. Но умный конь понимал, чего от него хотел хозяин. Он рванулся, вынес
 седоков из-под обстрела и, промчавшись галопом, упал на землю.
седоков из-под обстрела и, промчавшись галопом, упал на землю.Трегубов сдал раненую полковому врачу и на другом коне умчался к Ялунину. Майор двинул на фланг станковые пулеметы и отбросил фашистов.
...Задача была выполнена. Противник задержан на трое суток, и Кириченко дал приказ: дивизии отходить на новый рубеж.
Я ехал верхом по грязному шоссе, только что разбитому вражескими бомбардировщиками. Какой-то солдат, ухватившись двумя руками за жестяное перо стабилизатора, вытаскивал из земли неразорвавшуюся бомбу.
- Что вы делаете? Взорветесь! — крикнул я.
- Разве не видишь, генерал Кириченко скачет? Вдруг заденет конь копытом? Пропадет ведь тогда генерал.
В этих словах прозвучало столько неподдельной любви, что я заглянул в лицо солдату и сразу узнал в нем Ивана Ко-лесниченко, нагрубившего генералу перед ' боем. Упершись в землю ногами, сильным рывком, словно репу, он выдернул бомбу и тут же сел на нее, обливаясь потом.
Мимо проскакал Кириченко в сопровождении адъютанта майора Осипчука. Узнав меня, Осипчук махнул рукой: следуйте, мол, с нами. Обгоняя нас, на рысях прошел один из эскадронов полка Ялунина. Кириченко влюбленным взглядом посмотрел вслед бойцам и сказал:
— Трое суток стояли насмерть... И всю войну будут стоять
так... До победы...
Б. ГОРБАТОВ
ПИСЬМА К ТОВАРИЩУ Отечество
1
Товарищ!
Где ты дерешься сейчас?
Я искал тебя в боях под Вапняркой, под Уманью, под Кривым Рогом. Я знал, что найти тебя можно только в жарком бою.
Помнишь морозные финляндские ночи, дымящиеся развалины Кирка-Муолы, ледяную Вуокси-Вирта и черные камни на ней? Помнишь, обнявшись, чтобы согреться, мы лежали в землянке на острове Ваасик-Саари, говорили о войне и Родине? Над нами было маленькое небо из бревен в два наката. Чужой ветер дул в трубе. Чужой снег падал на крышу. Мы дрались тогда на чужой земле, но защищали безопасность нашей Родины. Каждый метр отвоеванного нами льда и снега становился родным: мы полили его своей кровью. Мы не отдали бы его ценою жизни: он принадлежал Родине.
Родина! Большое слово. В нем двадцать один миллион квадратных километров и двести миллионов земляков. Но для каждого человека Родина начинается в том селении и в той хате, где он родился. Для нас с тобой — за Днепром, на руднике, в Донбассе. Там наши хаты под седым очеретом— и твоя и моя. Там прошумела наша веселая юность—и моя и твоя. Там степь бескрайна, и небо сурово, и нет на земле парней лучше, чем донбасские парни, и заката красивей, чем закат над копром, и запаха роднее, чем горький, до сладости горький запах угля и дыма. Там мы родились под дымным небом, под глеевой горой; там до сих пор звенит се-ребряной листвой тополь, под которым ты целовал свою первую девушку; там мы плескались с тобой, товарищ, в мелком рудничном ставке, и никто меня не уверит, что в море купаться лучше. Но и спорить об этом не буду ни с одесситом, ни с севастопольцем. Каждому — свое.
Для нас с тобой, товарищ, Родина началась здесь. Здесь начало, а конца ей нет. Она безбрежна. Чем больше мы росли с тобой, тем шире раздвигались ее границы. Больше дорог— больше сердечных зарубок.
Помнишь городок на далекой границе — Ахалцых? Тут мы начали свою красноармейскую службу. Помнишь первую ночь? Мы стояли с тобой на крепостном валу и глядели вниз, на серо-зеленые камни зданий, на плоские крыши, на яблоневые сады, на весь этот непонятный и чужой нам мир, слушали непонятный, чужой говор, скрип арб, рев буйволов и говорили друг другу:
— Ну и забрались мы с тобой! Далеко!
Отчего же, когда через два года уходили мы отсюда «в долгосрочный», горько заныло сердце? Весь город шел провожать нас до Большого прощального камня на шоссе у сахарной высотки, и полкового барабана не было слышно из-за гула напутственных криков.
- Швидобит! — кричали нам друзья грузины, и мы уже знали: это значит — до свидания.
- Будь счастлив в большой жизни, елдаш кзыл—аскер! — кричали нам наши друзья тюрки. Родные наши!
Так входили в наши сердца разноплеменные края нашей Родины: и апшеронские песчаные косы, и черные вышки Баку, куда ты ездил с бригадой шахтеров, и ржавая степь Магнитки, и снега Сибири. И хотя ты никогда не был на Северном полюсе, сердце твое было там. Потому что там, на льдине, плыли наши советские люди, плыла наша слава.
Вот и сейчас я сижу в приднепровском селе и пишу тебе эти строки. Бой идет в двух километрах отсюда. Бой за это село, из которого я тебе пишу.
Ко мне подходят колхозники. Садятся рядом. Вежливо откашливаясь, спрашивают. О чем? О бое, который кипит рядом? Нет! О Ленинграде!
— Ну, как там Ленинград? А? Стоит, держится?
Никогда они не были в Ленинграде, и родных там нет,— отчего же тревога в их голосе, неподдельная тревога? Отчего же болит их сердце за далекий Ленинград, как за родное село?
И тогда я понял. Вот что такое Родина: это когда каждая хата под седым очеретом кажется тебе родной хатой и каждая старуха в селе — родной матерью. Родина — это когда каждая горючая слеза наших женщин огнем жжет твое сердце. Каждый шаг фашистского кованого сапога по нашей земле — точно кровавый след в твоем сердце.
Товарищ!
Я не нашел тебя под Вапняркой, под Уманью, под Кривым Рогом. Но где бы ты ни был сейчас, ты бьешься за родную землю.
У Днепра мы задержали врага. Но, как бешеный, бьет он оземь копытом. Рвется дальше. Рвется в Донбасс. На нашу родную землю, товарищ! Я видел: уже кружат над нашими шахтами его стервятники. Уже не одна хата под очеретом зашаталась под бомбами и рухнула. Может, моя? Может, твоя?
Пустим ли мы врага дальше? Чтоб топтал он нашу землю, по которой мы бродили с тобой в юности, товарищ, мечтая о славе? Чтоб вражеский снаряд разрушил шахту, где мы с тобой впервые узнали сладость труда и счастье дружбы? Чтобы вражеский танк раздавил тополь, под которым ты целовал свою первую девушку? Чтобы пьяный гитлеровский офицер живьем зарыл за околицей твою старую мать за то, что сын ее — красный воин?
Товарищ!
Если ты любишь Родину, бей, без пощады бей, без жалости бей, без страха бей врага!
