«Между Питером и Ленинградом»
| Вид материала | Интервью |
- Экономистом Питером Друкером как не имеющая закон, 393.11kb.
- Сочинение на тему: «Страшные годы войны- грозные годы блокады», 55.96kb.
- -, 1144.3kb.
- Конкурс знатоков истории Великой Отечественной войны. Цель, 73.21kb.
- Реферат на тему: “Изображение деревни в романе Ф. А. Абрамова, 64.13kb.
- Конкурс знатоков истории «Ленинград город герой», 292.57kb.
- Юрий Ротенфельд "На пороге третьей мировой, 51.32kb.
- Говори меньше. Скажи больше, 749.19kb.
- 1. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности, 73.63kb.
- Имя собственное в поэтике яна сатуновского, 294.65kb.
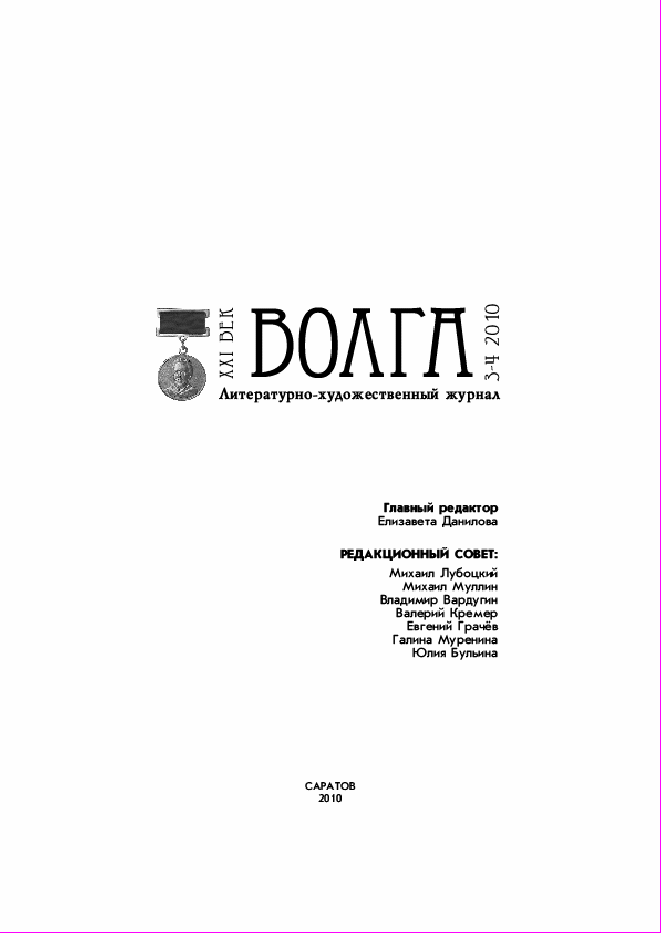
3-4
2010
Содержание
ПОЭТОГРАД
Елена ЕЛАГИНА. О, дерево, сойди с сияющих небес…
ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА
Владимир АВИЛОВ. Молитва
ПОЭТОГРАД
Иван РУСАНОВ. Чем дальше жизнь – тем проще слово…
ОТРАЖЕНИЯ
Татьяна БРЫКСИНА. Трава под снегом. (Продолжение)
В МИРЕ ИСКУССТВА
Ефим ВОДОНОС. Кочевья души.
«Искусство делают романтики». Беседы с Михаилом Козаковым.
Ответ на извечный вопрос. Интервью с Ксенией Степанычевой.
КАМЕРА АБСУРДА
Ольга СОЛОВЬЕВА. Эмигрантские записки.
В САДАХ ЛИЦЕЯ
Ксения СЫЗГАНЦЕВА. С любовью к жизни.
ПОЭТОГРАД
Александр МЕЛЕДИН. Бесконечное, чистое горе.
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЕГОДНЯ
Екатерина ИВАНОВА. Осень в раю.
Александр КОБЫЛИНСКИЙ. Время глубокого зрения.
Елизавета МАРТЫНОВА. В поисках родства.
НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ
Николай КУРАКИН. Время Байконура.
КОНКУРС
Борис ФЕДОТОВ. Два эпизода одной войны.
поэтоград
Елена
ЕЛАГИНА
Елена Елагина – петербургский поэт, критик и арт-критик, автор книги стихов «Между Питером и Ленинградом» (1995 г., номинировалась на литературную премию «Северная Пальмира»), «Нарушение симметрии» (1999 г., номинировалась на литературную премию «Северная Пальмира»), «Гелиофобия» (2004 г., премия им. А. Ахматовой), «Как есть» (2006 г.), «Островитяне» (избранные стихи, 2007 г.), участница поэтической антологии «Там звёзды одне» (ФРГ, 2002 г.). Стихи Елены Елагиной переводились на немецкий, итальянский, чешский языки, печатались в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Вестник Европы», «Континент», «Зарубежные записки», «Крещатик», «Звезда», «Нева», «Сибирские огни», «Волга –
ХХI век», «Новая Юность» и др. Лауреат премии журнала «Звезда» за 1998 г. в номинации «Поэзия», лауреат премии журнала «Нева» за 2003 г. в номинации «Литературная критика», дипломант конкурса «Люди нашего города» в номинации «Телевизионная программа о культуре» («Петербург. ХХI век», 2000 г.).
***
Будет тебе счастье с несчастьем вровень,
Будет тебе радость размером с бивень,
Если разрастётся смиренья корень,
Если возмужает июньский ливень.
Если звёзды встанут своим порядком,
Если птицы встанут заветным клином,
Если муравьями в косой тетрадке
Буквы замелькают забегом длинным.
***
Бинокль – полевой или морской? –
К которому прильнёшь с былой тоской,
Но углядеть давно уже не в силах
Ни свет в конце туннеля, ни туннель,
Ни выгнутую шаром параллель,
Ни ангела, того, что в вечных силах.
Мир покачнулся, черепахи спят,
Слоны меланхолично вдаль глядят,
Киты уплыли, унеся с собою
Земную ось. И призрачный ковчег
Дрейфует в вечности, рывками для свой бег
Под шум межпланетарного прибоя.
***
Клубятся, как космос, белила на кобальтовом холсте,
И снова Самсон и Далила навеки сплелись в темноте.
Что скажешь, что скажешь, приятель,
сквозь ветер и хладную тьму?
Назначил, как видишь, Создатель тебе лишь брести одному.
Тебе с этой нищей котомкой, где фляга да хлеба кусок,
В обнимку с искристой позёмкой и городом, что изнемог
В тисках как бы предназначенья,
мол, каждый – творец и герой,
Где блещет, как страз, пораженье, лучистей триумфа порой,
Где правят судьбой сновиденья, где грозен придирчивый Бог,
Где выверен шаг провиденья, а выигрыш – позора залог,
Где сфинкс и грифон златокрылый к испытанным жмутся камням,
Где шепчет Самсону Далила сквозь сон: «Никому не отдам!»
***
Знаешь прекрасно, как это всё происходит:
Поначалу сходишь с ума, а потом всё бесследно проходит,
Будто и не было. Сам удивишься – куда
Всё подевалось? А так. Рассосалось со временем. Чушь, ерунда.
Что, полегчало? Как будто. А впрочем, как знать, как знать...
Спит, захмелев, вповалку вся королевская рать.
Тебе одному не спится. Ломтик луны горчит.
Над овдовевшей страницей ослепшая муза парит...
***
Во времена блаженных фармацевтов
Поэты были – Боже! – соловьями,
Порочными пророками и гласом
Не то небес, не то, напротив, ада.
И жгли сердца разборчивым глаголом,
Орудуя, как нынче, разве нефтью
Иль банковскими верными делами
Умеют управляться, дивиденды
Без риска набирая! Их носили,
Как триумфаторов, как теноров, как прочих
Кумиров шоу-мира в нашем веке,
Буквально на руках, в чаду, в экстазе.
Признания писали, анемоны
Без счёта им дарили, на могилах
Стрелялись или снадобьем травились...
Живою жизнь была и страстной.
Слово жило.
И пело.
И губило.
И плясало.
А что теперь?
Кривляется, как в цирке.
Кричит кикиморой.
Влачится инвалидом.
И ничего не значит.
Ни-че-го.
***
Сто двадцать вариантов толкований
Предложит бодрый критик – без обмана
Все хороши, и, между прочим, каждый
Уместен и исчерпывающ. Что ж.
Такое нынче время разночтений:
Не то что правды – истины одной
Как будто бы не стало. Между тем
Интерпретация из всех умений
Ценнее нынче прочих. Будто слово
Возжаждало вторичным стать, а право,
Божественное право первородства,
За чечевичную похлёбку славы
И кабинетных мудрствований модных
Отдав, не глядя, в руки честолюбцев,
Перепевающих чужие мысли
Своими буквами и нотами. Бесспорно,
Занятие их внимания достойно,
Но большего?
Что скажешь, милый друг?
***
Всё, что есть в поле зренья, больше похоже на хаос,
Чем на что-то иное. С легчайшим привкусом глины.
Не о том ли скорбел прозорливый Мишель Нострадамус,
Не мессии второго страшась, но явленья второй Мессалины?
Не о том ли пытался сказать нам, беспечным потомкам,
Не о том ли предупреждал, прорицал, шифруя
Предсказанья свои, чтобы знанье его по котомкам
Не совали небрежно, а в холод вселенский, в жару и
В непогоду любую, катрены читая прилежно
И дивясь совпаденьям, пытались осмыслить хоть что-то
В дробном ходе истории, в гуле её незалежном,
В шуме времени тайном... А дальше – не наша забота,
Кто сумеет выжить, кого отберёт Всевышний
Для дальнейших над родом упрямым своих наблюдений,
Всё равно ни одна душа не окажется лишней
В этом циркульном круге извечных смертей и рождений.
***
Как гром среди ясного неба,
Как медленный шёпот травы,
Как трепет летящего Феба,
Как лёгкий наклон головы,
Как всё, что подвижно и зыбко,
Как шаг на висящем мосту,
Как чует хохляцкая зыбка
Нечистого дух за версту,
Как всё, что таится во мраке
И льётся лучами с небес,
Как ангел, мятущийся в драке,
Как пляшущий в пламени бес...
***
Дерево не знает обездоленности.
Б. Паскаль
О, дерево, сойди с сияющих небес,
Омой себя дождём, войди в поля и травы,
Тебе кричат птенцы, и рукоплещет лес,
И радуга, как нимб, встаёт триумфом славы.
О, дерево, яви жестоковыйный нрав,
Усердие семян, коры невероломность,
Держись своих корней, стой на своём! Тот прав,
Кто верит в связь с землёй и в воздуха огромность.
Держись за небосвод – или держи его? —
Вы в связке, кто кого – не сразу и узнаешь.
О, дерево, прошу, не бойся ничего,
Ведь страх живёт, пока спасенья не взалкаешь.
И я к тебе, дай Бог, приду, как кельт-друид,
В поношенном плаще – ни славы, ни подбоя,
Тобою лишь дано изжить следы обид,
Покрыть твоей корой, укрыть твоей листвою.
Вей кроною своей, под снегом замирай —
Что тесные кусты с их кружевным объёмом?
О, дерево, цвети, единственный мой рай,
Во всей своей красе за дальним окоёмом....
десятая планета
Владимир
АВИЛОВ
МОЛИТВА
Повесть
Владимир Авилов родился в 1941 году в станице Каменской Ростовской области. Окончил Саратовский автомобильный техникум. Работал на авиационном заводе и в автошколе, бригадиром монтажников в строительном кооперативе, котролёром технического состояния транспортных средств в объединении «Саратовнефтегаз». Публиковался в альманахах «Саратовский вестник», «Саратов литературный», «Новая Волга», «Волга – ХХI век», «Новая Польша» (Варшава). Автор трёх книг.
В тексте соблюдена авторская пунктуация (Ред.)
Не сотворив себе кумира,
Талант! светилом миру будь!
В быту мирском сквозь дрязги мира
Пробей монашественный путь!
... Любви небесной дай нам пламень,
Явись с участьем – не с грозой,
И грудь людскую – этот камень –
Прожги молитвенной слезой!
В. Г. Бенедиктов («ИНОКИНЕ», 1862 г.)
«Боже, еси на небеси, праведный, добрый, хороший, Боже в каждом, Всеведущий, – просвети, образумь, поправь... Запутался я, заблукал, нет и нет просвета в метаниях, поостыл душой, недоброе в ней появилось – вразуми! Сам вижу, сам понимаю, нельзя, поправь, Боже, увидь пылинку Твою, человека горького, тоскливого, – скажи: «Эх, ты, человече, разве можно так...» Скажи – и брошу я всё, жизнь свою никчемную поставлю на алтарь Твой жертвенный, лишь бы... лишь бы написать холст этот, последний, чувствую, холст мой, последний... А потом – дай только, дай! – буду писать лишь Тебя, лик Твой единственный, в котором вся душа Твоя, лёгкая, дыханная, светлая, как июньское облачко – окажи... окажи благодеяние, Спаситель. Огладь душу, как мать головку ребёнка кровного оглаживает, а ребёночек спит – красивый, маленький, робкий. Трогает мать его головку, и сразу сны ему засняются, сны чудесные, рай ему, сады Вифлеемские – огладь, Боже... Благоволен будь, скажи: «Нельзя так, человече». Скажи – и я не буду. Не злой я, запутался, душа тенётами, чувствую, покрываться стала, добро как уходит – старею? Просвети, Боже, направь, дай душе силу... последнюю... последнюю мне написать в жизни картину... светскую. А уж после я сразу же – да-да, сразу же! – начну писать Тебя. И напишу! Нет в нашем роду иконописцев, а – напишу! В душе Ты у меня потому что, давно в душе, но доселе незрим был, духом лишь Своим веял в лучшие минуты мои, а светом, ясностью лишь здесь озарил всё нутро моё, в избушке этой маленькой, в деревеньке этой тихой, русской, безвестной. Не знаю, как краски лягут, ни разу не писал лик Твой единственный, но чувствую – нет, знаю! – лягут краски, лягут. Свет во мне потому что – Ты...
Слово только скажи своё, Слово Божеское, единственное. «Не надо, – скажи, – не надо, раб Мой, усмири гордыню, ослабься, волком не будь другам своим, смирись. Такие же они, как ты, слабые... смирись!»
Боже, скажи! А я заплачу и возлюблю всех – сиротных людей всех, одних на Земле, хоть и днём, но во тьме блукающих, зло делающих, вольно-невольно делающих, не понимающих: зло – зло.
А, Боже? Окажи, а? Сделай – и я сделаю! Есть у меня доски старые с ликом Твоим, но ремесленники делали, не художники. А я – художник! И Ты знаешь это... Прости... прости, Светлый... Можешь подумать, в торг вступаю с Тобою. Единый, не праху с ног Твоих вступать в торг с Тобою. Видишь же: маюсь я. Иссыхаю. Нет, не блажь это и не торг, а п о с л е д н е е моё.
А лик Твой – сделаю. Сделаю, чего там. В кровь изобьюсь, а – сделаю. Но... потом, в городе когда буду, передумать, перечитать сколько надо, церквей сколько обойти, икон с ликом Твоим сколько пересмотреть, впитать в себя лучшие... А сейчас – холст, холст, пятно это белое, белизной своей жгучее, заподрамленный давно, грунтованный, ждёт, ждёт когда красками начну его сытить – холст... боль моя, надёжа моя последняя, спасение...
Не даётся он мне только, не даётся!
...Какой же Ты, Боже, однако, молодец, дал понятие мне в красках, в свете, в оттенках его мириадных, и я, раб Твой, удосужился. Сколько таланта отмерил Ты мне, неведомо, но – удосужился. И за это ниц припадаю пред Тобою. Спасибо, Светлый. К сонму людей, редких, таланных, придвинула меня просвира Твоя. Сказал Ты: «Подыми очи горе». Подымал я, поднял. И открылось мне всё людское, весь сор его, мученичество его рабское, им самим, сорняком, содеянное. А и кто он? Пылинка, клок облака, в небе тающий под ветром, сам ветер-ветерок – фу! – и нет его. Продунул, пролетел – и нет его. Да и ко всему – гордыня он, человек, гордыня! Глупый, думает: Он – Царь Всего. Глупый. Не царь он. И пылинки даже меньше. Всплеск в ночи, хлопок, дух: пронёсся – и нет. Мгновение вся жизнь его. И темь.
А свет? А свет и перед и за темью. Он – всегда. Он – тайна. Вот он, свет, вокруг меня. Тво-ой свет. Ночь – а свет! Кто он, что он, откуда? А? А-а-а... Неведомо. Глупые и мы, художники: «Репин познал тайну света, Микеланджело...». Глупые. Никто не познал. И не познает. Маленькую лишь щёлочку приоткрывает каждый в тайне этой Твоей света. Прикасается лишь. Так – лёгкое дуновение. Ты разрешил. Сказал: «Коснитесь лишь». И лишь касаются. Но – кто, как, сколько? Божий свет и ничей больше.
... Прости, Всемилостивый: химера – слова мои. С пути сбился я. Какую ночь стою возле пятна этого белого, холста этого разнесчастного, а сейчас молю – соблаговоли... Никогда не молил, Ты свидетель, а вот сейчас на коленях молю – соблаговоли. Отметь печатью Своей вечной, укажи перстом Своим Божественным – и молви... Нет-нет! Гордыня обуяла! Не молви – укажи лишь! Раб я презренный, чтобы Слово Твоё слышать, раб. Укажи лишь...
Знаешь же, как маюсь я. Порушилось во мне что-то, сломалось. Дошёл до предела. До последнего? Всё в руках Твоих, Господи. Мне бы... Молю...»
Светало. Сквозь фиолетовую ещё темень, но можно было определить – утро. Он встал с колен и нетвёрдою, мученической походкой направился к столу – выпить.
Шёл девятнадцатый день его бессонницы.
I
Иван Николаевич Васильев, художник, пятидесяти восьми лет от роду, уже третий месяц жил в Марьевке, в своём маленьком домишке, купленном ещё бог весть когда, в те уже далёкие времена, когда водились ещё деньжата и было ему чуть за сорок. Любой дом требует ухода, а этот, и так переживший целую долгую жизнь прежних его владельцев, хирел без хозяйского глаза и потихоньку-потихоньку разваливался. Вначале, как только купил его, много лет подряд Иван Николаевич приезжал сюда с весны и жил до глубокой осени, аж до снегу. Приезжал и зимой на натуру, но реже и только по настроению. Но тогда была семья и всё шло как-то само собой, вроде бы со стихийностью, но которая на самом деле и есть порядок и уют. А теперь семьи давно уже не было, не стало порядка и дом разваливался. Разваливался и Иван Николаевич.
Сюда, в Марьевку, Иван Николаевич и приехал потому, что вспоминал-вспоминал, сколько не был, да так и не вспомнив точно, решил, что года полтора. Ему стало вроде как бы и совестно перед заброшенным им домом, он прослезился – и решил ехать. Мгновенно решил, и вот он здесь.
Слёзы бы не помогли, конечно, если бы не повезло и он не подхалтурил, продав пару этюдов так кстати подвернувшемуся американцу. Того интересовал исключительно «социалистический реализм», а такового добра у Ивана Николаевича было предостаточно, и он с лёгким сердцем расстался с ними, тем более за доллары. А доллары – они и в Греции доллары. Иван Николаевич разменял их в «комке» у знакомого продавца, получив пачку десятитысячных да полтора десятка сотенных, дал «отходную» друзьям своим, художникам, в основном, конечно, соседям по мастерским. «Отходная длилась два дня, могла бы и больше, но утром третьего Иван Николаевич проснулся рано, ещё затемно, и что-то засвербило внутри. Как всегда после пьянки, мысль работала чётко, чувства были обострены. Он встал, посмотрел в окно, за которым был так любимый им полумрак, но сквозь который на фоне уже светлеющего неба проступали трубы небольшого соседского заводишка. Посмотрел он, посмотрел – и слёзы навернулись на глаза. На кой чёрт сдались ему эти трубы! Яркой картиной вдруг представилась ему тихая, заснеженная, спящая Марьевка, крохотное оконце в его крохотной спаленке, которое в былые его приезды зимой всё ещё потрясало калейдоскопом удивительных рисунков-узоров. Ему вспомнились детство его в такой же, даже похуже, развалюшке и такое же окошечко с потрясшими его тогда впервые звёздочными картинками на стекле. Может, поэтому и потянуло его к художеству?
Ехать! Не ждать старого Нового года, а – ехать! Сейчас же!
И он стал потихоньку собираться, а потихоньку – чтобы не разбудить спящих прямо на полу, на толстом поролоне, любимых его забулдыг, простяг-художников. Чемоданишко был рядом, он побросал в него кое-что необходимое из одежды, аккуратно обернул плотной бумагой несколько раз свой «походный» мольберт, перевязал шпагатом, взял кисти, краски кое-какие (он помнил, какие есть в Марьевке, помнил и про холст), защёлкнул чемодан – и стал готов. Присел на дорожку. На столе, как всегда, был бардак – закуска в пепле, окурки в недоеденных консервах (это, конечно, Серёга...) и – вот это фокус – почти целая литровая бутылка «Империала». Выпить? Поправиться немного? Нет. Лучше – всё равно ждать автобуса – он в «комке» возьмёт с собой. А там уж, в Марьевке, там видно будет. Да... записку...
Он черкнул – всего несколько слов – записку Серёге (тот спал в своей, соседней, мастерской), положил на неё четыре десятитысячных, придавил ключом от мастерской и встал. Пора.
Так Иван Николаевич и попал в Марьевку.
Поначалу всё шло как и в былые его приезды. Он угостил – хорошо угостил! – соседей своих ближайших (А как же! Они и за домом присматривали, и молоком-мясом снабжать будут!), договорился с Анной-соседкой, как в былые времена, готовить ему, выдал ей пять стотысячных (у неё аж глаза полезли на лоб, никак не хотела брать) и принялся за дело.
Эта зима, как, впрочем, и все последние, была тёплой, снежной, а места... да что про эти места говорить!.. Места были чудесные, и он махом, недели за две, написал девять этюдов.
Написал – и остановился, точнее, что-то остановило его. Этюды были обычными, небольшими, с некоторых вполне можно писать и большие полотна, но... Он расставил их на кухне, как мог, на стульях, табуретках, смотрел при различном освещении, выносил во двор, иногда подчищал, тыкая кистью в уже готовые – он это понимал – этюды. И не становился спокойнее. Чего-то не хватало.
Подолгу он просиживал, простаивал возле них – и мучился. Чего-то не хватало. Чего?
Он ещё был на натуре, написал ещё с десяток работ, некоторыми был увлечён не на шутку, но... чего-то не хватало. Чего?
В самой закраине где-то брезжил ответ, но был далёк и нерезок, как на недодержанной фотографии. Ответ был. Но он был пугающ. Всё его естество напрягалось, прямо-таки восставало и не хотело этого ответа. Иван Николаевич почувствовал себя вдруг страшно одиноким, старым и потерянным. И запил.
Шестая неделя шла, как он жил здесь, не пил почти, так, иногда рюмочку-другую, с морозца, а вот запил по-серьёзному.
Первый раз в жизни по-серьёзному и так, оказалось, надолго...
Вначале он думал – ша! – попьёт немного, разъяснится ему, и всё пойдёт по-старому: дальние, до соседней Сергеевки, походы и одновременно выбор натуры. Там много прудов, тихие, заснеженные сейчас, с могучими, воистину сказочными дубами по берегам, они бередили сердце вечным, умиротворяющим покоем. Но так не случилось. Скрылась, исчезла в алкогольном тумане милая Сергеевка с её потрясающими прудами.
В день «бражения» он опять пригласил всех своих, поближе, соседей. По его заданию самый его, через три дома, сосед-шустряк Никита смотал кое-куда на тракторе и привёз ящик спирта в бутылках, нашего, хорошего, а не туфты американской, а персонально ему, по строжайшему наказу, два ящика «Распутина».
Выпили, хорошо посидели, утром желающие опохмелились – и всё. У них. Но не у Ивана Николаевича.
Он проводил Никиту, самого «устойчивого» своего гостя, сунул ему бутылку в карман и сказал: всё.
Было уже к полудню, Анна практически всё прибрала, перемыла, он лишь слегка доубрал и прилёг отдохнуть.
...Проснулся он ночью. Чуть полежав, встал, включил настольную лампу, поправил висевшее на ней полотенце – сделался любимый его полумрак. Было тихо, так тихо, как никогда не бывает в городе. За этим он сюда и приехал – за тишиной и покоем.
Но то, неясное, точило его изнутри, и он занялся этюдами, теми, которые тянули на картины. Расставил и долго-долго смотрел их, взглядом ощупывая, как врач рукой. Неясное становилось ясным, даже, можно сказать, стало.
Он сел за стол и долго сидел – без мыслей, без желаний, в бездумье. Просто сидел и смотрел в одну точку. Затем так же бездумно потянулся за бутылкой, налил в стопку, выпил. Загорчило, зажгло во рту, зажгло и в желудке, но он не обратил внимания, словно это был не его рот и не его желудок. Потом всё в той же прострации он подошёл к этюдам, кое-какие убрал, собрал полотенце с лампы, чуть поправил её и стал смотреть.
При более ярком освещении они были другими, но теперь он уже знал, что это не то.
Он ещё выпил стопку, опять подошёл к этюдам, отошёл, зашёл сбоку, включил верхний свет, выключил. Постоял. Потом, без размаха, но с силой пнул ногой. Стулья и табуреты стояли рядом, ни один не упал, но этюды загрохотали на пол все. Так им и надо.
Он прошёл к столу, сел и пил уже до утра.
Все последующие дни стали походить один на другой. Всю ночь он просиживал за столом, пил, утром ложился, но не спал, а пребывал в какой-то полудрёме-полуяви, два-три часа, не больше, а после ходил и ходил по своим микроскопическим комнаткам, нет-нет ложился опять, но заснуть не мог. И думал, думал…
Это нельзя было назвать мыслями в прямом их значении. Это была одна-единственная мысль, питаемая одним-единственным чувством-вопросом: кто он? что он? И – Художник ли он? Да-да, именно так, с большой буквы – а Художник ли он? А если был, то – кончился? Ведь если разобраться, за десять лет последних – ничего стоящего! Одни растреклятые эти этюды! А где же оно, Искусство? Где боль человеческая, где показ её, где сострадание, а, Иван Николаевич Васильев, заслуженный художник России, сукин ты сын, убогий подельщик, ремесленник? Где она, боль всесветной русской души? Ты закис в рассоле повседневности, погряз в никчёмном суесловии художников, писателей, журналистов, политиков. Затуманили тебе голову, разъели душу, и покрылась она ржавчиной. А Искусство, то, великое, единственное, – где оно? Где оно, и именно сейчас, когда его Родине, его вечной страдалице-России – больно. Она опять попала в заварушку-перестройку, и долго-долго ей ещё, как раненому зверю, зализывать раны, нанесённые неумелыми и неумными перестройщиками. И долго-долго страдать людям...
Выпив стопку, он усмехнулся: докатился до публицистики?
«Публицистика»... Это была старая история, а если точнее – принцип. И пониманию сути этого принципа предшествовали долгие, даже яростные споры – и среди них, художников, и приходивших к ним «на огонёк» писателей. А суть проста: в чём суть Искусства. (Иван Николаевич ещё усмехнулся: уж не стихами ли спьяну заговорил?) Разумеется, во все времена суть Искусства понимали все великие, задолго до эпохи Возрождения, но каждое поколение имеет право на своё определение его. Если вкратце, всё сводилось к дилемме: «свободен» ли художник или «обязан»? Последних, конечно, обвиняли как поборников конъюнктуры, а первых не только в аполитичности, но и в забвении нужд и тягот «простого народа». Только и слышалось: «Художник обязан» или «Художник никому ничего не должен». Молодые они тогда были, горячие... путали просто понятия гражданина и творца. А что же неясного? В конце XIX, в начале даже XX века было течение такое среди интеллигентной либерально настроенной молодёжи – в деревню, «в народ», образовывать, просвещать его. И ехали в глушь, и образовывали, да годами, да презрев всю неустроенность деревенской тогдашней жизни, всю дикость её. Их никто не заставлял, они были свободны в своём выборе, но они считали себя обязанными ехать просвещать тёмный, забитый народ. Это свобода выбора Гражданина. А у Художника? А у Художника должна быть свобода выбора творца. И где и над чем он решит работать – там его и место. Пусть будет и публицистика. «Боярыня Морозова» – не публицистика? А «На смерть Поэта» Лермонтова? Публицистика. Только публицистика великих. Это не жалкий лепет сегодняшних «новых» или конъюнктурная мазня бездарей советского времени...
Ивану Николаевичу вдруг стало душно, и он затравленно (он всегда видел себя со стороны) заозирался. Он опять посередине. Зерно между жерновами. Одиссей между Сциллой и Харибдой. Он не принимал и ту уже прошедшую «советскость», время самой беспросветной и беспроглядной массовой серости в искусстве, но он не принимает и этого, как сейчас говорят, постсоветского, клоаку какого-то дикого, не понятного никому строя, в который, как в ловушку, угодила его Родина. И не время это даже, а безвременье, топор которого всегда падает на голову непринимающего его. Зерно... жернова... Судьба?..
Душно. Иван Николаевич прошёл в свою тёмную спаленку. Ставни он не закрывал, и маленькое заледенелое оконце светилось. И не светилось даже, а искрилось – луна напрямую била снаружи сквозь ледяные узоры на стекле. Это было волшебство, и он замер, поражённый им. Как в детстве. Божий, Божий мир...
Он присел на кровать. Прилечь? Какой день он не спит? Не поленился встать. Нож лежал на подоконнике, и он сделал ещё одну риску на нём. Посчитал их. Итак, семнадцать. Семнадцать суток он не спит. Сколько ещё?
II
Ивану Николаевичу кто-то как крикнул в ухо. Он вскочил. Кукушка? Он спал? Сколько же? На часах-ходиках было два. Точно, кукушка. И сколько же он спал? Сорок минут. Но чувствовал он себя как никогда свежим и отдохнувшим. На безрыбье и рак рыба, сорок минут – это ой-ёй как.
Он прошёл в кухню. На столе стояла початая бутылка, конечно, незакрытая, две стопки (почему – две?), тарелка с квашеньем. Странно, но выглядело всё опрятно, как на натюрморте, ни огрызков хлеба, ни крошек. Не упал он ещё до конца в яму-то?!
Он задержал взгляд на бутылке. Выпить? Нет. На воздух?
Накинув на плечи старую фуфаёшку, он сунул ноги в калоши – неизменный атрибут местного обихода – и вышел во двор.
Вышел – и застыл поражённый. Всё окрест было залито молоком суховатого, но резкого света полной луны. Топлёным молоком. Небо было просто засыпано звёздами – серебряные деньги во всесветном Монетном дворе. Не было, наверное, ни облачка, и эти точки-миры прямо-таки горели в ночи. Как это у Цвейга: «Алмазными гвоздями прибитые к небу...»?
Есть ли там жизнь? Всю юность, ещё со школы, с училища, убеждали его, что жизнь только здесь, на Земле. Но он и тогда не верил этому: необъятность мира диктовала необъятность жизни и форм её. Да и кто убеждал-то? Лжекоммунисты да лжеучёные...
Морозец начинал пощипывать всерьёз. Середина марта, а градусов десять-двенадцать, не меньше. Да и что это он расфилософствовался на морозе? Иван Николаевич развернулся и пошёл в дом. И за каким «надом» он и выходил-то? Ну, память...
Он оставил входную дверь открытой – надо выветрить всю эту пьянь, перед Анной стыдно.
Подбросить полешек? На железном листе лежало их с десяток, и, повозившись немного со щепой, Иван Николаевич растопил свою дряхлую, но спасительную печь. Сухие дрова сразу запотрескивали, и он слегка прикрыл заслонку. Прикрыл и входную дверь. Присев на маленькую скамеечку возле печки, не сняв и фуфайки с плеч, Иван Николаевич прикрыл глаза и поддался неге тепла.
В мозгу всё не исчезал отпечаток звёздного ночного неба. А и действительно, есть ли там жизнь? И если да, то что за существа там, что основа жизни их? И что за Рок движет ими, ибо совершенного не может быть, а несовершенное может быть и дорогой в Никуда. Хорошо бы Разум и Добро были движителями их цивилизаций и хорошо бы Добро было в основе, ибо если Разум не подчинён Добру, это и есть Рок. Как у нас, на Земле.
В печи уже полыхало. Он любил смотреть на огонь. Да разве один он? Огонь – стихия, а она всегда над человеком и не может не поглощать его. Огонь-отец, мать-Земля...
Он вдруг, неожиданно для себя, озлился. Ма-ать... Говорим, фарисеи, а сами с яростью людоедов вгрызаемся в неё миллионами ковшей экскаваторов, бурим её чуть не насквозь и выкачиваем, выкачиваем кровь её, рвём её жилы и, несчастные Цари Природы, забываем о её отмщении нам. А оно неизбежно. И аз воздам.
И во имя чего же всё порушаем? А чтобы ещё была одна блестящая железка, а чтобы ещё была одна кнопка, управляющая ей, и чтобы всё наизобретённое выдыхало вонь и смрад и отравляло всё вокруг, и так уже отравленное донельзя. Марафон смерти. Если вдуматься, жуткий, не оставляющий надежды марафон.
Человечество уже выкопало себе могилу – что же остановит его? Что оттолкнёт неразумных от края этой чёрной всесветной ямы? Искусство? Рафаэлева «Мадонна»? Глаза Ивана Грозного, убившего своего сына? Что же остановит его, это чёрное, белое, жёлтое человечество, зверя, пожирающего самого себя? «Красота спасёт мир»... Да вон её, этой красоты, только выдь за порог и греби хоть лопатой! Красота – миг, отдохновение души человеческой, а как вот сделать её всеобъемлющей, чтобы невынимаемой занозой она колола душу каждого: вот так делай, человече, ведь вот я, добро, ведь вот я, красота...
Как? Как – чтобы каждый проникся вечным?
Наука? Может, придумают какой-нибудь «сникерс», пожевал его, запил водичкой, и – нате вам! – в душе чисто, светло, и любит каждый каждого как самого себя? Или НЛО, эти маленькие зелёные человечки? Компьютеры, Интернет, голография... ещё какая-нибудь виртуальщина? Да не-ет, долго ждать (хотя живя и действуя). В жизни всё сделано так, что всё достаётся через труд, а самое великое и доброе – через страдание. Страдание – неизлечимая болезнь людей. Болезнь? Нет. Это, к сожалению, выход. Жестокий, на грани самоистребления, но выход. Человечество должно ответить за тот ложный путь, который выбрало. Или путь Атлантиды, или, не дай Бог, ещё более ужасного.
...В далёкой юности, когда Иван Николаевич пописывал ещё и рассказики, в одном из них он тоже задавался подобными вопросами. Но тогда, в начале шестидесятых, были напуганы этим выпущенным из бутылки джинном-атомом, и, может быть поэтому, он подошёл в том рассказе к неизбежному концу человечества. Он и сейчас помнит одну фразу: «...Разве нужен стон, последний протяжный стон содеянного греха, разве нужна расплата за н е в е д е н и е?..» Даже сейчас, через почти сорок лет, он всё ещё при убеждении, что расплата неизбежна, что XX век человечество ещё переживёт, но вот XXI... А расплата придёт не за неведение, а за человеческое неразумие: дубина дикаря пересилила сияние звёзд, щебет беспечных пташек, заговорщицкий шепоток ласковых весенних листочков...
Искусство, наука... Те ли это проводники с клюкой или без, ведущие всех и вся в царство почти Божие? Моисей сорок лет водил свой несчастный народ по пустыне, веря в разум народившихся новых поколений – и что? Умерли давно и Моисей, и те поколения, народились десятки новых, и потихоньку-потихоньку всё вошло в круги своя. Всё стало как есть. Пруд подёрнулся ряской, и вот это уже болото с его беспроглядной и почти непроходимой трясиной.
Почти? «Почти» – это что, Надежда? Не отпускает человека этот вечный зов жизни, этот умиротворяющий выплеск инстинкта самосохранения, мы почти ощущаем её, Надежду, это сестра наша, но почему мы плачем, что она есть? И не самообман ли – её лучи, как самообман – лучи давно умершей звезды, которые всё идут и идут к Земле, а самой звезды нет, она умерла ещё тысячу лет назад. А лучи всё идут, и несчастный земной астроном видит, почти осязает этот далёкий и такой реальный свет, но не ведает того, что звезды – нет, что лучи эти – последний вскрик умирающего в ночи, что всё темень за ними, пустота. И не должно быть никакой Надежды. Рано или поздно лучи иссякнут. И явь станет блефом. И блеф станет явью.
Человеческий опыт диктует: всё имеет конец. Человек, звезда, галактика. Не зря в Библии говорится про конец света. Но одно дело – потухло Солнце, исчерпав себя, – это чистая физика. Другое дело – человечество, состоящее вроде бы из разумных «гомо», века терзающее само себя, планету, братьев своих меньших, – человечество-самоубийца, стоящее на краю всесветной видовой пропасти.
Тупик. Конец. И нужен ли будет Ной-2 с его ковчегом? Да и куда ему, бедному, плыть? В другие галактики? А станется ли сил и времени? Да и нужно ли начинать всё сначала?
«Зачем мятутся народы и племена замышляют тщетное?»
III
В обед зашла Анна. Она заходила два раза на день – так они договорились – утром и в обед. Утром приносила банку молока, пару-тройку яиц, а в обед варево: кастрюлю щей с большим куском мяса или сковороду картошки с тем же мясом. Так они договорились – без разносолов. Но... женщина русская, настоящая, деревенская, она, конечно, приносила нет-нет да грибков баночных, бочкового – капусты солёной, огурцов с помидорами, да и всякого другого, что у неё было. Баловала его, да и деньги, по её понятиям, он дал ей незаслуженно большие. Хотя какие сейчас это деньги...
Анна – он это чувствовал – уже давно поняла, что он пьёт все эти дни, и сейчас по-простому, по-деревенски попеняла ему. А он? Он разухабисто налил, чтобы скрыть неловкость, и ей, и себе: «Аннушка, ну-ну, рюмочку!» Она отказалась. Не жеманно, как большинство деревенских и как она сама иногда, а... что-то другое он увидел в ней –
печаль, боль. «Не надо», – сказала она. И вышла.
Ну вот... Он механически выпил свою стопку, которую ещё держал в руке, вяло зажевал чем-то в миске и задумался.
Анна – это целая история. Муж-пьяница (он хорошо знал его: Фёдор – тракторист, хороший, впрочем, мужик) умер, сорока ещё не было, оставил ей двоих ребят, сейчас мужики уже, живут своими семьями и – не пьют. А всё она, Аннушка, светлая душа. Хорошая, красивая даже, только бледненькая не по-деревенски, за сорок едва, а вот одна вековует. Всё, как и положено, по закону: хорошим – не везёт.
Он в сердцах ещё выпил рюмку, Анину. Ч-чёрт! Он же хотел поговорить с ней! Козёл старый!
Иван Николаевич торопливо сунул ноги в калоши, набросил фуфайку, вышел. Анна была только со двора, раздевалась ещё. Она удивлённо, даже как-то испуганно посмотрела на него.
– Вы?
– Аннушка, я по делу, – чтобы загладить неловкость, он и заговорил быстро, сбивчиво, – забыл совсем, козёл старый... Понимаешь, Аннушка, мне нужна икона, любая, но Христа, Бога... Если у тебя нет, то попроси у какой-нибудь старушки, а? На время...
Он, видя её непонимающие глаза, заговорил ещё горячее:
– Мне на время, я потом верну, как уезжать... Понимаешь, Анна, я хочу попытаться написать картину... мне нужно, а, Ань? И ещё молитвослов, это где молитвы... Ни Библию, ни Завет там никакой – это есть, – а молитвослов, а, Ань? Мне для дела... – уж чуть и не жалобно закончил он.
Она помолчала, она думала. Она всё поняла.
– Ладно, – наконец сказала она, – я принесу. Только вот этот... молитвослов... Да ладно, по крайности, в Ёловку схожу, у тётки Натальи уж точно есть... Ладно. – Она хорошо улыбнулась.
Больше ему вроде и не надо было ничего, а он всё переминался с ноги на ногу – старый пень. Затем как-то заискивающе улыбнулся и пошёл-поплёлся восвояси. Ну и жалкая же у него была улыбка! Он всегда видел себя со стороны. И видел её, явственно видел, она словно и не исчезала с его лица – глупая, жалкая его улыбка. Плохо, когда видишь себя со стороны.
Утром, он опять не ложился, издали ещё – слух у него пока Слава Богу – он заслышал шаги. Анна? С молоком? А можно написать эти хрустящие – хрум-хрум – шаги? Он был не здорово пьян, а так, одурманен.
На этот раз Анна принесла не только молоко.
– Вот, – сказала она, вынимая из сумки квадратный свёрток, – вот, вы просили...
Он развернул. Икона. В хорошем светлом окладе. Серебряном? И молитвослов, вроде бы, да какой! С ятями, толстенный!
– Аннушка, – спазм забил ему дыхание, – да как же ты это... В Ёловку, наверное, ходила?
Она, смущаясь, замахала руками: «Да ладно, ладно, чего там» – и выбежала.
Слёзы потекли у него по щекам. Вот она, Русь! Вот оно, Русское! Кому бы он нужен, пьяница непутёвый, шалманщик, ветрогон – а вон нате! Вёрст восемь до Ёловки, да обратно... А он? Пьяная образина! Да сколько же духа доброго ещё в России, людях её золотых! Не за его же паршивые деньги пошла она в даль такую – ночью уж явно пришла – не за-ради художника такого великого, а затем, что... «человек погибает, и человеку этому нужно, нужно хорошее, вечное, к Богу тот хочет прислониться...» – вот почему пошла Анна! Доброе ты сердце, Аннушка, ясная твоя душа, сколько же выпало на долю твою, семерым не свезти, а поди ж ты... И верно, верно: в страдании – святость. И только прошедший через него, через все закоулки тяжкого его бремени, может познать самую суть жизни, горесть её и благо, свет и тьму. Милое, чистое создание – Аннушка...
Иван Николаевич, почти не осознавая того, что делает, бросился к столу, трясущимися руками налил в гранёный стакан больше половины – и выпил.
Затем целый день вялость, полусон, правда, сходил два раза во двор, за водой да за дровами, и читал, читал молитвослов, временами хватался за Библию (осталась от прежней хозяйки), понимая, что глупо это, отрывочно, не то состояние, что не читают так сложнейшие вещи, но в душе-голове был сумбур, он ничего не мог поделать с собой, не надо было пить… и уж смеркалось, когда он отложил всё в сторону, затравленно заозирался, встал, сел и, когда уж рука сама взяла стакан, успокоился. Выпил. И отключился.
Пришёл в себя он ночью. Да не проснулся, как обычный, нормальный человек, как обычный, нормальный художник, а пришёл в себя. Пьющее животное не просыпается, оно приходит в себя.
На душе было скверно. А в доме прохладно, даже холодно. Он стал вспоминать. Ну, конечно, забыл задвинуть... как её – вьюшку? Вот и выдуло всё тепло из избы. Он посмотрел на чугунную чертовину вверху печки, которую он не задвинул. Может, это и не вьюшка совсем, забыл, вот это называется деревенский! Нет, не поэтому, стареет он. Всё потихоньку стирается с магнитофонного и видеодиска памяти. А и действительно, ведь последние не годы даже, а месяцы, чуть не дни, он прямо-таки физически, можно было едва не потрогать, чувствовал, осязал, обонял старость, которая не наступила, не пришла, а действительно подкралась. Как в друговом стихотворении, Ивановом:
