Москва 2008 ббк 87 б 202 Балашов Л. Е. История философии (материалы)
| Вид материала | Документы |
СодержаниеПонятие меры в философии Аристотеля Мера всегда однородна с измеряемым |
- Л. Е. Балашов противоречия гегелевской философии москва ● 2006 Балашов Л. Е. Великий, 3352.39kb.
- Л. Е. Балашов учебное пособие москва ● 2011 ббк 87. 7 Б 20 Л. Е. Балашов. Этика: Учебное, 4343.08kb.
- Кафедра истории отечественной философии история русской философии программа курса москва, 631.65kb.
- Материалы научно-методической конференции Красноярск 2010 г. Ббк 74. 202, 2226.17kb.
- Кафедра современных проблем философии История зарубежной философии Учебно-методический, 2107.18kb.
- Программа Вступительных испытаний Врамках экзамена история философии по направлению, 462.46kb.
- Учебно-методическое пособие Рабочие материалы для самостоятельной подготовки к практическим, 591.28kb.
- Ю. Е. Скрыльник // Живые объекты в условиях антропогенного пресса: Х международной, 54.1kb.
- Учебно-методический комплекс дисциплины «История западной философии», часть 6 («Западная, 386.4kb.
- Учебное пособие Москва ● 2008 удк 343. 851. 5 Ббк 67. 518. 8-91, 1217.93kb.
Понятие меры в философии Аристотеля
Аристотель был практически первый, кто специально исследовал меру — и как феномен, и как понятие, определяемое в координатах тех или иных категорий. Тексты Аристотеля, посвященные мере, это уже не платоновский "кристаллический раствор", в котором черты формирующейся категории меры только угадываются, но еще и не категориально-логический образ-анализ меры, как он был дан у Гегеля. Вот эти тексты:
"... о части (meros) говорится в различных значениях, и одно из них — мера (metron), прилагаемая к количеству”1.
“... быть единым — значит быть неделимым именно как определенным нечто и существующим отдельно либо пространственно, либо по виду, либо в мысли; иначе говоря, это значит быть целым и неделимым, а скорее всего быть первой мерой для каждого рода, главным образом для количества; ведь отсюда /это значение единого/ перешло на другие /роды сущего/. Мера есть то, чем познается количество; а количество как таковое познается или через единое, или через число, а всякое число — через единое, так что всякое количество как таковое познается через единое, и то первое, чем познаются количества, есть само единое; а потому единое есть начало числа как такового. Отсюда и во всех остальных областях мерой называется то первое, чем каждая вещь познается, и для каждого мерой служит единое — в длине, в ширине, в глубине, в тяжести, в скорости (...) Так вот, во всех случаях мерой и началом служит нечто единое и неделимое, ибо и при измерении линий мы как неделимой пользуемся линией величиною в одну стопу: всюду в качестве меры ищут нечто единое и неделимое, а таково простое или по качеству или по количеству. А где представляется невозможным что-то отнять или прибавить, там мера точна (поэтому мера числа самая точная: ведь единица принимается как нечто во всех отношениях неделимое); а во всех остальных случаях стараются брать эту меру как образец: у стадия, у таланта и вообще у того, что покрупнее, бывает менее заметно, когда что-то прибавляют к ним или отнимают от них, чем у величины меньших размеров. Поэтому все делают мерой то, что как первое по свидетельству чувственного восприятия не допускает /такого прибавления или отнятия/, — для жидкого и сыпучего, и для имеющего тяжесть или величину, и полагают, что знают количество, когда знают его с помощью этой меры. Равным образом и движение измеряют простым и наиболее быстрым движением, так как оно занимает наименьшее время; поэтому в учении о небесных светилах за начало и меру берется такое единое (а именно: в основу кладется равномерное и наиболее быстрое движение — движение неба, и по нему судят обо всех остальных), в музыке — четверть тона (так как она наименьший тон), а в речи — отдельный звук. И все это — единое не в том смысле, что оно обще им всем, а в указанном выше смысле.
Мера, однако, не всегда бывает одна по числу; иногда мер больше, например: имеется два вида четверти тона, различающиеся между собой не на слух, а своими числовыми соотношениями, и звуков, которыми мы производим измерение, несколько, а также диагональ квадрата и его сторона измеряются двоякой мерой, равно как и все /несоизмеримые/ величины. Таким образом, единое есть мера всех вещей, потому что мы узнаем, из чего состоит сущность, когда производим деление по количеству, либо по виду. И единое неделимо потому, что первое в каждом /роде вещей/ неделимо. Однако не все единое неделимо в одинаковом смысле, например стопа и единица: последняя такова во всех отношениях, а первую надо относить к тому, что неделимо лишь для чувственного восприятия (...): ведь, собственно говоря, все непрерывное делимо.
Мера всегда однородна с измеряемым: для величин мера — величина и в отдельности для длины — некоторая длина, для ширины — ширина, для звука — звук, для тяжести — тяжесть, для единиц — единица (именно так это надо принять, а не говорить, что мера чисел есть число...).
По той же причине мы называем также знание и чувственное восприятие мерою вещей, а именно потому, что мы нечто познаем при посредстве их, хотя они скорее измеряются, чем измеряют. Но с нами получается так, как будто кто-то другой измеряет нас, и мы узнаем свой рост благодаря тому, что столько-то раз прикладывают к нам меру длины — локоть. Протагор же говорит: "человек есть мера всех вещей", что равносильно тому, как если бы он сказал: "человек знающий" или "воспринимающий чувствами" /есть мера всех вещей/, а они потому, что обладают: один — чувственным восприятием, другой — знанием, о которых мы /и так/ говорим, что они меры предметов. Таким образом, это изречение ничего не содержит, хотя кажется, что содержит нечто особенное.
Итак, ясно, что единое в существе своем, если точно указывать значение слова, есть превыше всего некоторая мера, главным образом для количества, затем для качества. А мерой оно будет если оно неделимо — в одном случае по количеству, в другом — по качеству"1.
"Ум приводится в движение предметом мысли, а один из двух рядов /бытия/ сам по себе есть предмет мысли; и первое в этом ряду — сущность, а из сущностей — сущность простая и проявляющая деятельность (единое же и простое не одно и то же: единое означает меру, а простое — свойство самой вещи). Однако прекрасное и ради себя предпочтительное также принадлежит к этому же ряду: и первое всегда есть наилучшее или соразмерное наилучшему"2. (Примечание редактора: В "Эвдемовой этике" (1 8, 1217b 1-35) Аристотель говорит о лучшем (первом) в различных категориях: в категории сущности это ум (в смысле перводвигателя), который есть благо само по себе; в категории качества — справедливое; в категории количества — имеющее надлежащую меру; в категории "когда" — благоприятное время)3.
"А что единое означает меру, это очевидно. И в каждом случае субстрат — особый, например: у гармонии — четверть тона, у /пространственной/ величины — дактиль или стопа или что-то в этом роде, в стихотворных размерах — стопа или слог; точно так же у тяжести — определенный вес; и у всего — таким же образом: у качества — нечто обладающее качеством, у количества — нечто количественное; и мера неделима, в одних случаях по виду, в других — для чувственного восприятия, так что единое само по себе не сущность чего-либо. И это вполне обоснованно, ибо единое означает меру некоторого множества, а число — измеренное множество и меры, взятые много раз (поэтому также правильно сказать, что единое не есть число: ведь мера — это не множество мер, и мера и единое — начало). И мера всегда должна быть присуща как нечто одно и то же всем предметам /одного вида/, например: если мера — лошадь, то она относится к лошадям, а если мера — человек, она относится к людям. А если измеряемое человек, лошадь и бог, то мерой будет, пожалуй, живое существо, и число их будет числом живых существ. Если же измеряемое — человек, бледное и идущее, то меньше всего можно говорить здесь об их числе, потому что бледное и идущее присущи одному и тому же, притом одному по числу; тем не менее число их будет числом родов или числом каких-нибудь других подобных обозначений”4. (Везде подчеркнуто мной — Л.Б.).
Это специальное рассмотрение меры касается в основном лишь ее значения как средства измерения, познания, что кажется, на первый взгляд, странным. Ведь Аристотель прекрасно знал и о других значениях меры. Об этом свидетельствуют тексты в "Политике", этических сочинениях. В чем тут дело?
А дело в том, что Аристотель как эмпирически ориентированный философ обо всем рассуждал конкретно. В его время еще не было общего понятия меры. И он, соответственно, не говорил о мере вообще.
Вполне логично, что Аристотель подверг специальному рассмотрению в "Метафизике" не какое-то другое значение меры, а именно ее значение как средства измерения, познания. Скорее всего с этого значения началось формирование понятия меры в сознании людей. Оно же является тем категориобразующим ядрышком, из которого со временем "выросла" категория меры.
Итак, что показывают приведенные тексты?
Во-первых, что Аристотель близко подошел к осознанию меры как единства качества и количества. Он, с одной стороны, не отдавал предпочтения ни качественной, ни количественной трактовке меры, а, с другой, рассматривая меру в основном в координатах единого, количества и качества, фактически признал двойственный, качественно-количественный характер меры. Ведь единое — по преимуществу качественная категория или, во всяком случае, соответственно качеству.
Во-вторых, что Аристотель наметил идею иерархии мер — подобной родо-видовой иерархии качеств. Он рассуждает о менее общих и более общих мерах (для конкретных людей общая мера — человек как таковой; для человека, лошади и бога общая мера — живое существо). В этой идее есть зачаток представления об общей мере как некотором стандарте.
В-третьих, что Аристотель, говоря о менее точных и более точных мерах, указывает на критерий, по которому можно судить о количественной определенности меры — "где представляется невозможным что-то отнять или прибавить, там мера точна". Этот критерий играет важную роль у Стагирита не только для характеристики меры как средства измерения, но и для характеристики ее как середины между избытком и недостатком1.
В "Политике" и этических сочинениях Аристотель развил концепцию меры как середины.
О важной роли понятия середины в истории античной мысли говорит А.Ф. Лосев:
"Понятие середины, или центра, имеет огромное значение во всех областях греческой науки, искусства и философии. В последнее время это понятие подверг серьезному исследованию Н. Laue в своей работе "Маss und Mitte" ("Мера и середина", Munster, 1960). В результате этого исследования можно считать установленным колоссальное значение этой категории в арифметике, геометрии, музыке, этике (например у Демокрита), риторике (например, у Исократа), эстетике, натурфилософии, медицине и в социально-политических учениях. Без этого уравновешивающего все бытие принципа, начиная от психологии и кончая космологией, совершенно немыслимо никакое античное мировоззрение. Это именно он заставил древних учить о пропорциях в связи с геометрическими телами, физикой и акустикой и арифметикой. Везде грек видел нечто цельное. А это и значит, что он прежде всего фиксировал центр наблюдаемого или построенного предмета. Можно различать архаическую "середину" (mesotes), куда можно отнести Гомера, Гесиода, Солона, Фукидида, первых гномиков (у которых всегда отвергается все слишком большое и все слишком малое, а проповедуется именно "среднее"), и классическую "середину", то есть научную и математически организованную (Эмпедокл, Эсхил, Еврипид, Аристотель). Без понятия середины немыслимы также античные учения о пропорции, мере, симметрии или о гармонии; немыслимо такое диалектическое объединение "беспредельного" и "предела", которое мы находим в античной философии очень часто, и прежде всего в платоновском "Филебе", немыслимо аристотелевское учение о добродетели как середине и равновесии между двумя крайностями; немыслимо демокритовское и эпикуровское учения о внутреннем покое личности и т.д."1
У Аристотеля "середина" употребляется главным образом в значении меры, т.е. середины между "больше" и "меньше". В "Никомаховой этике" он пишет:
"Прежде всего нужно уяснить себе, что добродетели по своей природе таковы, что недостаток (еndeia) и избыток (hуреrbоle) их губят, так же как мы это видим на примере телесной силы и здоровья (ведь для неочевидного нужно пользоваться очевидными примерами). Действительно, для телесной силы гибельны и чрезмерные занятия гимнастикой, и недостаточные, подобно тому, как питье и еда при избытке или недостатке губят здоровье, в то время как все это в меру (ta symmetra) и создает его, и увеличивает, и сохраняет. Так обстоит дело и с благоразумием, и с мужеством, и с другими добродетелями. Кто всего избегает, всего боится, ничему не может противостоять, становится трусливым, а кто ничего вообще не боится и идет на все — смельчаком. Точно так же, вкушая от всякого удовольствия и ни от одного не воздерживаясь, становятся распущенными, а сторонясь, как неотесанные, всякого удовольствия, — какими-то бесчувственными. Итак, избыток (hуperbole) и недостаток (еlleipsis) гибельны для благоразумия и мужества, а обладание серединой (mesotes) благотворно"2.
"Если же всякая наука успешно совершает свое дело таким вот образом, т.е. стремясь к середине и к ней ведя свои результаты (откуда обычай говорить о делах, выполненных в совершенстве, "ни убавить, ни прибавить", имея в виду, что избыток и недостаток гибельны для совершенства, а обладание серединой благотворно, причем искусные мастера, как мы утверждаем, работают с оглядкой на это /правило/, то и добродетель, которая, так же как природа, и точнее и лучше искусства любого /мастера/, будет, пожалуй, попадать в середину.
Я имею в виду нравственную добродетель, ибо именно она сказывается в страстях и поступках, а тут и возникает избыток, недостаток и середина. Так, например, в страхе и отваге, во влечении, гневе и сожалении и вообще в удовольствии и в страдании возможно и "больше" и "меньше", а то и другое не хорошо. Но все это, когда следует, в должных обстоятельствах, относительно должного предмета, ради должной цели и должным способом, есть середина и самое лучшее, что как раз и свойственно добродетели"3.
Для характеристики середины и отношения к ней Аристотель обычно употребляет те же слова и выражения, которыми он характеризует меру:
"ни убавить, ни прибавить",
"ни больше, ни меньше", "между "больше" и "меньше",
"преступать меру", "нарушать меру",
"для обладания серединой в чем бы то ни было существует известная граница (horos), которая, как мы утверждаем, помещается между избытком и недостатком”4.
Аристотелевское учение о середине-мере, хотя и касается лишь того, что несет на себе печать человеческого5, имеет более широкое значение.
Аристотель по-своему знал меру как объективную характеристику вещей самих по себе. На это указывают уже цитированные тексты. Об этом же свидетельствует и такой текст из "Политики":
"... для величины государства, как и всего прочего — животных, растений, орудий, существует известная мера. В самом деле, каждое из них, будучи чрезвычайно малым или выдаваясь своей величиной, не будет в состоянии осуществлять присущие ему возможности, но в одном случае совершенно утратит свои естественные свойства, в другом — придет в плохое состояние. Так, например, судно в одну пядь не будет вообще судном, равно как и судно в два стадия; судно, доведенное до определенных размеров, будет совершать плохое плавание в одном случае из-за малых размеров, в другом — из-за чрезмерных"1.
В учении о середине-мере для нас важны два момента:
1. Середина-мера у Аристотеля не просто середина между "больше" и "меньше", а некоторый интервал значений, допускающий колебания в большую или меньшую сторону до известной границы-предела. Точнее, Аристотель понимал середину-меру как вершину вместе с окрестностями. Графически ее можно изобразить так:
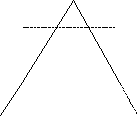 вершина граница середины | Обратимся теперь к текстам Аристотеля: “Именно поэтому по сущности и по понятию, определяющему суть ее бытия, добродетель есть обладание серединой, а с точки зрения высшего блага и совершенства обладание вершиной". "И подобно тому, как не существует избытка благоразумия и мужества, потому что середина здесь — |
это как бы вершина, так и /в названных выше пороках/ невозможно ни обладание серединой, ни избыток, ни недостаток”1. “...осуждения заслуживает не тот, кто немного отходит от совершенства, будь то в сторону большего или меньшего, а тот, кто далеко отходит, ибо такое не остается незамеченным. Не просто дать определение тому, до какого предела и до какой степени /нарушение меры/ заслуживает осуждения...
Итак, стало быть, ясно по крайней мере, что срединный склад во всех случаях заслуживает похвалы и что следует отклоняться в одних случаях к избытку, а в других — к недостатку, ибо так мы легче всего достигнем середины и совершенства"2.
"... кто немного переходит /грань/ — или в сторону большего, или в сторону меньшего, не заслуживает осуждения; действительно, иногда мы хвалим и признаем ровными тех, кому не достает гнева, а злобных признаем воистину мужами за способность начальствовать. Не просто поэтому определить в понятиях, насколько и как переходит /грань/ тот, кто заслуживает осуждения, ибо судят об этом по обстоятельствам и руководствуясь чувством"3.
"Да и что мешает, чтобы удовольствие, будучи, подобно здоровью, определенным /понятием/, допускало большую или меньшую степень? Ведь во всех /существах/ не одно и то же соотношение /элементов/ (symmetria), и даже в том же самом /существе/ не всегда одно какое-то соотношение, но это существо остается собой при нарушении соотношения до известного предела и допускает различия в степени. Значит, такое может быть и с удовольствием"4.
"В общем же, как мы определили вначале, добродетели — это середина, и, чем добродетель выше, тем в большей мере она середина. Поэтому добродетель, возрастая, сделает человека не худшим, а лучшим"5.
Эти тексты говорят о том, что Аристотель допускал некоторую (объективную и субъективную) неопределенность меры, допускал большую или меньшую степень внутри ее, более того, различал в середине-мере середину "в большей мере", которую называл совершенством, лучшим, и различные отклонения в ту или иную сторону — не осуждаемые и даже в известных случаях необходимые.
2. Аристотель хорошо сознавал, с одной стороны, специфичность и даже индивидуальность человеческой середины-меры, а, с другой, то, что в ней содержится момент общего, типического или, выражаясь современным языком, унифицированно-стандартизированного.
О специфичности и индивидуальности меры он говорил в таком далеко не рядовом, тексте:
"Я называю серединой вещи то, что равно удалено от обоих краев, причем эта /середина/ одна и для всех одинаковая. Серединою же по отношению к нам я называю то, что не избыточно и не недостаточно, и такая середина не одна и не одинаковая для всех (курсив мой — Л.Б.). Так, например, если десять много, а два мало, то шесть принимают за середину, потому что, насколько шесть больше двух, настолько же меньше десяти, а это и есть середина по арифметической пропорции.
Но не следует понимать так середину по отношению к нам. Ведь если пищи на десять мин много, а на две — мало, то наставник в гимнастических упражнениях не станет предписывать питание на шесть мин, потому что и это для данного человека может быть /слишком/ много или /слишком/ мало. Для Милона этого мало, а для начинающего занятия — много. Так и с бегом и борьбой. Поэтому избытка и недостатка всякий знаток избегает, ища середины и избирая для себя /именно/ ее, причем середину /не самой вещи/, а /середину/ для нас"1.
Признавая наличие специфического и индивидуального в человеческой мере, Аристотель тем не менее делал в ней упор на моменте общего, типического. Он считал, что середина-мера лишь в той мере середина-мера, в какой она соответствует мере-образцу (эталону, стандарту меры). Носителем меры-образца с его точки зрения является добропорядочный рассудительный человек. Вот как Аристотель объясняет свою теорию меры-образца:
"Но применительно по крайней мере к одному виду — людям — удовольствия все-таки разнятся немало, ибо одни и те же вещи одних услаждают, других заставляют страдать, а что вызывает страдания и ненависть одних, другим доставляет удовольствие и вызывает приязнь. Это бывает даже со сладостями: не одно и то же кажется сладким человеку в горячке и здоровому, а теплым не одно и то же кажется слабому и закаленному. Соответственно и в других случаях.
Пожалуй, во всех подобных случаях имеет место то, что видится добропорядочному. Если же такое определение, как кажется, удачно и в каждом отдельном случае мерой является добродетель и добродетельный человек как таковой, то и "удовольствиями" будут, пожалуй, те вещи, что кажутся ему удовольствиями, а "доставлять удовольствие" будет то, чем он наслаждается.
Ничего удивительного, если отвратительное для этого человека кому-нибудь покажется доставляющим удовольствие, ведь много есть /видов/ человеческого растления и уродства. Но это не то, что /в действительности/ доставляет удовольствие...
Поэтому ясно, что удовольствия, которые согласно считаются позорными, не следует признавать удовольствиями"2.
(Сравн. в "Метафизике": "... никогда одно и то же не кажется одним — сладким, другим — наоборот, если у одних из них не разрушен или не поврежден орган чувства, т.е. способность различения вкусовых ощущений. А если это так, то одних надо считать мерилом, других — нет. И то же самое говорю я и о хорошем и о дурном, прекрасном и безобразном и обо всем остальном в этом роде"3).
" ... желанным каждому кажется свое, а если так, то, может статься, даже противоположное.
Если же это не годится, то не следует ли сказать, что, взятый безотносительно, истинный предмет желания — это собственно благо, а применительно к каждому в отдельности кажущееся благом? И если для добропорядочного человека предмет желания истинное благо, то для дурного — случайное; так ведь даже с телом: для людей закаленных здоровым бывает то, что поистине таково, а для болезненных /совсем/ иное; подобным же образом обстоит дело с горьким и сладким, с теплым, тяжелым и со всем прочим. Добропорядочный человек правильно судит в каждом отдельном случае, и в каждом отдельном случае /благом/ ему представляется истинное/благо/. Дело в том, что каждому складу присущи свои /представления/ о красоте и удовольствии и ничто, вероятно, не отличает добропорядочного больше, чем то, что во всех частных случаях он видит истину так, будто он для них правило и мерка (каnоn kai metron). А большинство обманывается явно из-за удовольствия, ведь оно, не будучи благом, кажется таковым"1.
"Итак, добродетель есть сознательно избираемый склад /души/, состоящий в обладании серединой по отношению к нам, причем определенной таким суждением, каким определит ее рассудительный человек"2. (Примечание переводчика Н.В. Брагинской: "Из определения явствует, что верность суждения обеспечивается интеллектуальной добродетелью носителя нормы (рассудительный), который выше был охарактеризован только с точки зрения нрава (добропорядочный: 1099а 23)... Только из кн. VI становится ясной связь рассудительности и нравственной добродетели и то, что логос (суждение), дающий общее правило, корректируется применительно к обстоятельствам при помощи полуинтуитивной рассудительности (ср. ниже, 1113а 29)"2.
"Итак, поступки называются правосудными и благоразумными, когда они таковы, что их мог бы совершить благоразумный человек, а правосуден и благоразумен не тот, кто /просто/ совершает такие /поступки/, но кто совершает их так, как делают это люди правосудные и благоразумные"3.
"Если назначение человека — деятельность души, согласованная с суждением или не без участия суждения, причем мы утверждаем, что назначение человека по роду тождественно назначению добропорядочного человека, как тождественно назначение кифариста и изрядного кифариста, и это верно для всех вообще случаев, а преимущества в добродетели — это /лишь/ добавление к делу: так, дело кифариста — играть на кифаре, а дело изрядного кифариста — хорошо играть — воли это так, (...) то человеческое благо представляет собою деятельность души сообразно добродетели, а если добродетелей несколько — то сообразно наилучшей и наиболее полной /и совершенной/. Добавим к этому: за полную /человеческую/ жизнь"4;
"как уже было сказано, добродетели и добропорядочному человеку в каждом частном случае положено быть мерой: он ведь находится в согласии с самим собой и вся душа /его во всех ее частях/ стремится к одним и тем же вещам. Далее, он желает для себя самого того, что является и кажется благами, и осуществляет это в поступках (ибо добропорядочному свойственно усердие в благе), причем /и желает, и осуществляет он это/ ради самого себя, а именно ради мыслящей части души, которая, как считается, и составляет /самость/ каждого. Кроме того, он желает, чтобы он сам был жив, цел и невредим, и прежде всего та его часть, благодаря которой он разумен. В самом деле, "быть" — благо для добропорядочного человека, и каждый желает собственно благ себе, так что никто не выберет для себя владеть хоть всем /благом/ при условии, что он станет другим /существом/ (а ведь бог-то как раз и обладает /всем благом/); напротив, /только/ при условии, что он останется тем, кто есть, — кем бы он ни был — /человек желает себе блага/. Между тем каждый — это, пожалуй, его понимающая часть, или прежде всего она. И /добропорядочный/ человек желает проводить время сам с собою, ибо находит в этом удовольствие, ведь и воспоминании о совершенных поступках у него приятные, и надежды на будущее добрые, а такие вещи доставляют удовольствие. И для его мысли в изобилии имеются предметы умозрения"1.
“...поступки, сообразные добродетели, будут доставлять удовольствие сами по себе. Более того, они в то же время добры и прекрасны, причем и то и другое в высшей степени, если только правильно судит о них добропорядочный человек, а он судит так, как мы уже сказали"2. (Примечание переводчика Н.В. Брагинской: "Конечной инстанцией, определяющей нравственную норму, благо и добродетель, оказывается у Аристотеля добропорядочный (или рассудительный — 1107а 1, или добродетельный, т.е. обладатель добродетели, — 1113а 29-33, 1166а 12-19). Выход из этого логического круга указывается только в кн. Х (гл. 7-8), когда выясняется, что совершенная добродетель наидобродетельного человека (мудреца-философа) обеспечивается божественностью высшей и руководящей части души. Таким образом, последние основания этики, имеющей вполне "светский" характер, оказываются если не религиозными, то во всяком случае санкционированными авторитетом божественного. Аналогично решается проблема оснований этики в Евдемовой этике. Иначе Д. (Ф. Дирлмайер) (284): представление о "добропорядочном муже" как носителе нормы имеет глубоко традиционные корни (культ героев) и не подвергается рефлексии у Аристотеля; ср. у Платона "царственный человек" ("Политик") и "великий человек" ("Законы")"3. (Везде курсив мой — Л.Б.).
Во всех этих текстах мера фигурирует не как единица измерения, и не как середина между избытком и недостатком, а как образец, эталон или, говоря по-современному, как стандарт. Это, по существу, одна из первых, если не первая, теорий стандартизации, точнее, унификации (см. об этом ниже, п. 3224.4 "Стандарт"). Аристотель как универсально мыслящий философ-ученый не мог оставить без внимания этот важный аспект меры. Представлением о мере-стандарте он хотел, по всей видимости, объяснить феномен одинаковости, тождественности, общности, сходства в вещах хоть и различных, но принадлежащих к одному и тому же виду или роду. Он понимал, что мера — не только взаимосвязь качественной и количественной определенности в пределах одной, отдельно взятой вещи, но также и взаимосвязь качественной определенности вещи и ее количества, множества в пределах одного вида, рода, взаимосвязь качества и количества вещей, качественно и количественно определенных вещей одного и того же вида, рода.
И последнее. Аристотель, как и Платон, говорил не только о простой мере (как середине между избытком и недостатком), но и о сложной органической мере, норме, представляющей собой сложную взаимосвязь, пропорцию, соразмерность различных простых мер (частей целого). Показательны такие приводимые Стагиритом примеры:
"Это можно пояснить примером, взятым из области иных искусств и наук. Разве может допустить художник, чтобы на его картине живое существо было написано с ногой, нарушающей соразмерность, хотя бы эта нога была очень красива? Или разве выделит чем-либо кораблестроитель корму или какую-нибудь иную часть корабля? Разве позволит руководитель хора участвовать в хоре кому-нибудь, кто поет громче и красивее всего хора?”1.
"Государственные перевороты происходят также вследствие несоразмерного возвышения. Известно, что тело состоит из частей и должно увеличиваться в своем росте соразмерно, чтобы сохранялась пропорциональность. В противном случае оно гибнет, если, например, нога будет длиной в четыре локтя, а остальное тело всего в две пяди; а иногда тело примет вид другого живого существа, если при этом будет развиваться также несоразмерно не только в количественном, но и в качественном отношении. Точно также и государство состоит из отдельных частей; из них некоторые вырастают зачастую незаметно"2.
Добросовестное исследование Аристотелем понятия меры и его различных значений оставалось непревзойденным вплоть до Гегеля. Пожалуй, только у Ф. Бэкона мы можем найти рассуждения о мере как важной объективной характеристике природных тел, вещей.
