Новый золотой листок, тонкий, вибрирующий, не хотел прилаживаться к стерженьку старого элек-|| троскопа
| Вид материала | Документы |
Содержание349 «очередь тратить деньги», лучшей игрушки он 353 «Гамлет». Перевод Б. Пастернака. 23 |
- Старая сказка о Золотой рыбке на новый лад, 47.62kb.
- Лекция №2 элекТрические сигНАлы инТЕгральных миКРОсхем, 64.56kb.
- Этот старый Новый год!, 113.66kb.
- На маршруте «От Николая до Иордана» новогодний тур для детей и взрослых восточный экспресс, 106.11kb.
- * Законный представитель, 30.63kb.
- Изобретение электрической сварки, 31.46kb.
- Московский новый юридический институт мировая экономика контрольные вопросы по курсу, 55.8kb.
- Листок нетрудоспособности. Заполняем новый бланк проверка заполнения больничного листка, 216.67kb.
- Новый год в индии: золотой треугольник + гоа, 215.15kb.
- Сказки "золотой клетки", 811.87kb.
Он думал об этом в тихие дни рождества (на этот раз — тихие по сравнению с прошлогоднияи, «нобелевскими»), когда в доме на Уилмслоу-роуд собрались все его рисёрч-стыоденты и шла нескончаемая болтовня обо всякой всячине и он под испытующим взглядом Мэри старался говорить не громче и не дольше остальных. Его подспудные мысли — все о том же! — летели сквозь праздную беседу, как альфа-частицы сквозь атом: только чуть отклоняясь в стороны, совсем незаметно рассеиваясь.
Размышления о моделях Ленарда и Томеона были только эпизодами на его пути. И не очень существенными. В конце-концов его мысли приходилось работать так, как если бы никаких атомных моделей до'той поры вообще никто не придумывал. Так она и работала.
Прочной опорой для нее служило его собственное неопровержимое умозаключение, что атомы — средоточия сильных электрических полей. В принципе этого было достаточно, чтобы отражени" альфа-частиц от атомов не выглядело сверхъестественным событием. Не нужно было даже предполагать, что эти внутриатомные поля сильнее, чем думалось прежде, когда речь шла о рассеянии на малые углы. Сразу напрашивался логичный вывод: отражение — суммарный эффект многих актов рассеяния. Это результат накопления малого отклоняющего действия бесчисленных атомов!.. Разве удивительно, если бегун, ворвавшийся в гущу народа, не желающего уступать ему дорогу, будет — после несчетных столкновений — выброшен из толпы в ту же сторону, откуда прибежал? Случай незаурядный, но возможный. Так ведь и в потоке альфа-частиц лишь одна из восьми тысяч претерпевает такое бедствие. Вот и объяснение чуда, похожее на правду...
Образ бегуна, затолканного толпой и постепенно растерявшего всю свою энергию, действительно годился для той доли альфа-частиц, что поглощались веществом мишени. Утратив 'первоначальную скорость и захватив блуждающие в металле электроны, эти неудачницы становились обычными атомами - гелия. (Оттого-то в радиоактивных минералах искони накапливалась гелиевая примесьт) Хаотическое перемещение могло пригнать такие бывшие альфа-частнцы и к той стороне мишени, с какой некогда они ворвались в нее. Но с отраженными альфа-частицамя дело обстояло иначе: они возвращались обратно, не став «бывшими» — не растратив своей колоссальной энергии.
И все-таки велик был соблазн — объяснить отражение, как результат многократного рассеяния альфа-частицы на малые углы. Среди кривых Тейгера-Марсдена одна показывала
347
прямо, что с возрастанием толщины мишени количество отраженных частиц росло. Значит, им важно было углубляться в мишень — важно было встретить на своем пути побольше атомов. Тогда большая их доля возвращалась назад. (От мишени из двух листков золотой фольги за секунду отражались в среднем две частицы, а при толщине в шесть листков — пять частиц...) Действительно, складывалось впечатление, что эффект накапливается: пронизывая атом за атомом, удачливая частица отклоняется от своего прямого пути все ощутимей, так что атомные поля постепенно даже заворачивают ее обратно и она, описав в полете крутую кривую, появляется с той же стороны мишени, с какой влетела в нее. И чем больше атомов на пути альфа-потока, тем больше таких удачливых частиц.
И однако... Тут брала слово математика.
Теоретически капля воды на пылающей плите может замерзнуть: достаточно такой удачи, чтобы все быстрые молекулы покинули каплю одновременно; оставшиеся — объединятся в льдинку. Вот только вероятность подобной удачи столь мало отлична от нуля, что за все миллиарды лет истории нашей Галактики не появится и шанса на ее претворение в жизнь. Очень вероятно, что альфа-частица, летя сквозь тысячи атомов, в одном будет отклоняться в одну сторону, в другом — в другую, и в итоге рассеется на малый угол. Но вероятность того, что тысячи атомов, один за другим, будут поворачивать ее в угодную нам сторону, и только в эту сторону, такая вероятность почти равна нулю. И юный Марсден вместе со всеми своими потомками никогда не дождался бы этого желанного, но несбыточного события.
А оно сбывалось! Он его наблюдал — порою десятки раз в минуту. И от счета сцинцилляций уставали даже его молодые глаза. Спорить с логикой теории вероятностей было так же бессмысленно, как с лабораторными фактами. Следовало признать, что многократным — постепенным — рассеянием невозможно объяснить акты отражений альфа-частиц.
Что же оставалось?
Сегодня, издалека, все представляется совершенно элементарным. Выбора не было: понятию «многократно» противостой! понятие «однократно»; если что-то не может происходить постепенно, значит оно совершается сразу; над чем тут голову ломать?! Оставалось предположить, что альфа-частицы отражаются назад в единичных актах столкновений с атомами. Оставалось сказать, что в каждом таком событии лишь два героя:
одна альфа-частица и один атом. Всякий раз это дуэт> И всякий раз это дуэль. Атом побеждает. Альфа-частица воз-
348
вращается вспять. Вот и поднят шлагбаум, чтобы двигаться
дальше!
Между тем вскоре после рождественских каникул, в начале 1910 года, Гейгером была написана, а Резерфордом прочитана, одобрена и направлена в Королевское общество статья, где о различии между двумя видами рассеяния — малыми отклоненьями и отраженьями назад — говорилось так:
Сейчас не представляется полезным и обещающим дискутировать предположение, которое может быть сделано для объяснения этого различия.
Огтого-то Норман Фезер решил, что в Манчестере надолго — почти на год — забросили неблагодарную тему. «Резер-форд был поставлен в тупик», — заметил Фезер. И это, конечно, справедливо. Но только это1 Нередки случаи, когда исследователи оставляют до лучших времен разработку бесперспективной проблемы: ждут новых опытных данных. Тут был иной случай. Нигде и ни разу Резерфорд не пожаловался, что ему не хватает фактов. А если бы их вправду не хватало, его мальчики не занимались бы другими делами. По крайней мере Марсден и Гейгер. Он сумел бы направить их поиски в нужную сторону. Нет, в тупик попала мысль. И тут надо было только думать, думать и снова думать. И лучших времен тут не предвиделось.
В процитированной фразе Гейгера — Резерфорда замечательна одна деталь: слово «предположение» там было написано в единственном числе. Это не стилистическая случайность. Это точность языка. Это было подчеркнутым указанием, что возможен единственный выход из тупика, да только не стоит о нем пока дискутировать, ибо ничего хорошего он не обещает впереди. Какой же выход? А уже знакомый нам — логически неизбежный: рассматривать всякий акт отражения, как итог столкновения альфа-частицы с каким-нибудь одним атомом мишени.
Так что же — стало быть, уже в начале 1910 года Резерфорд прекрасно видел поднятый шлагбаум? Конечно! Но он видел и другое: поднятый шлагбаум был нарисован на отвесной скале — он открывал дорогу, которой не было.
Оставалось думать.
И он думал.
Он думал — все о том же! — сидя за рулем четырехместного «уолслея-сиддлёя», тарахтевшего по весенним дорогам Ланкашира, Дербншира, Чешира... С тех пор, как дошла его
А
349
«очередь тратить деньги», лучшей игрушки он не мог бы себе завести. Тогда это была еще редкость — маститый профессор за рулем собственного автомобиля.
Но, может быть, устройство атома стало бы известно на три дня раньше если бы в страстную пятницу 1910 года на Уилмслоу-роуд, 17 не была доставлена эта самокатящаяся машина мощностью в 16 лошадиных сил. Три дня пасхи, с утра до вечера, забыв обо всех прочих обязанностях и вожделениях, мальчик с берегов пролива Кука учился управлять своим бензиновым экипажем. И под конец сообщил матери в Пунгареху, что отлично, «без единого происшествия, не задавив даже цыпленка», овладел этим искусством, показавшимся ему -совсем легким. А к сведению отца добавил, что автомобиль «гораздо проще держать под контролем, чем лошадь». Для истории физики и атомного века те три дня были потеряны безвозвратно.
Но, пожалуй, упущенное наверсгалось потом. Объясняя матери, зачем он купил автомашину, Резерфорд написал, что ему очень хотелось «обрести какое-нибудь средство побыстрей добираться до свежего воздуха». И не только ради маленькой Эйлин. Там, где легче дышалось, легче думалось. И еще:
«Я чувствую необычную работоспособность благодаря упражнениям в автомобильном спорте». Но и это не все. За рулем естественней молчалось. И кроме того, в минуты нервных вспышек ему, как многим, помогала стать на якорь плавная скорость бесцельной езды. Так он лечил и себя и других.
Гейгер в одной короткой мемуарной заметке о Резерфорде вспомнил любопытный эпизод. ...У тонкостенных трубочек Ба-умбаха был роковой недостаток — хрупкость. Неосторожный жест — и эманация расползалась по лаборатории. Приборы начинали врать. «С типичной для него крутой решительностью Резерфорд грозил суровейшими наказаниями за такого рода преступление». Однажды он совершил его сам. Гейгер и другие сотрудники, раздосадованные вмешательством посторонней радиации в их опыты, учинили следствие и установили, что эманация выползала из кабинета шефа. Это было совсем скверно: шеф осуждению не подлежал и не на ком было отвести душу. А Резерфорд, не подозревая о своей вине, как ни в чем не бывало зашел к Гейгеру и спросил о ходе очередного эксперимента. Выбитый из колеи и тихо негодующий Гейгер вместо ответа сказал, что вести работу бесполезно, ибо здание полно эманацией, а источник ее... Резерфорд посмотрел на него удивленно и прорычал: «Отлично! Так считайте, что вы получили еще одно доказательство могущества, заключенного в этой эманации!» И вышел вон. (Конечно, Гейгер не решился напи-
350
сать, что шеф «прорычал», в тексте у него только скромное — «ответил»; но по духу сцены интонация этого ответа безошибочно слышится и через десятилетия.) Теперь был выбит из колеи и Резерфорд. Но скоро он снова появился в дверях. Сказал Гейгеру, — аа этот раз действительно сказал, и не более, — что тот «чем-то расстроен» и ему «нужно глотнуть немножко свежего воздуха». Без промедлений он выволок его из лаборатории, усадил в свой автомобиль, и они покатили за город. «Ничто не бывало таким освежающим и таким вдохновляющим, как час в машине, проведенный наедине с Резерфордом».
А Резерфорд этим способом проводил наедине с собой многие часы. Так что история атомного века, потеряв в апреле 1910 года три дня, в конце концов не прогадала.
Неотлучно думая все о том же, он, разумеется, сразу отверг нереальное предположение, будто тяжелые и стремительные альфа-частицы могут сколько-нибудь заметно рассеиваться на легоньких электронах, несомненно входящих в конструкцию атома. Автомобиль, скользящий по дороге со скоростью 25 миль в час (курьерской казалась она s те дни), не будет отброшен за обочину от соударения с недостойным препятствием.
Кажется, сделать бы тут всего один логический шаг вперед, и верное решение проблемы пришло бы само собой. Совершенно ясно: дабы в акте единичного столкновения отскочить в сторону яли отразиться назад, летящей альфа-частице нужно встретить внутри сквозного атома достойное препятствие. А это в неявном виде — идея массивного заряженного атомного ядра. Так про-сто1 Сделать же этот шаг иочему-то было трудно...
Конечно, он думал о загадке атома не столь наивными образами, связанными с обиходом жизни. По давнему предрассудку ученому вообще полагается мыслить не образами, а понятиями, яе метафорами, а уравнениями. Но, по-видимому, Резерфорд не знал этого предрассудка: он часто сначала «мыслил образами». Это была одна из его фарадеевских черт. И к достоверной модели атома ему помогали пробиваться, хоть и не грубо-быто-вые, однако же наглядные, чувственно-осязаемые ассоциации.
— Внутри атома должны действовать ужасающие силы!
Манчестерский математик Чарльз Дарвин — внук великого сэра Чарльза Дарвина — запомнил, как Резерфорд произнес однажды эту фразу. Для учебника она бы не годилась. Но в ней звучало уже нечто новое по сравнению с прежним, строго и сдержанно отчеканенным: «Атомы — средоточия сильных электрических полей». И произнесена была эта фраза не с кафедры.
а
351
Шло традиционное чаепитие. Ежедневно, после полудня, все сотрудники лаборатории поднимались наверх — в комнату физ-практикума по радиоактивности, неподалеку от кабинета шефа, чтобы передохнуть за этим непринужденным обрядом. Чай подслащивали сахаром, печеньем и — главное — незапрограммированной беседой обо всем на свете. В отличие от томсонов-ских чаепитий в Кавендише тут не запрещалось говорить и о физике. Если днем шеф куда-нибудь отлучался на своем «уолслее-сиддлее», к этой церемонии он возвращался. Он любил ее. Там царили естественность и дружелюбие. Кому было что сказать, говорил, не'испрашивая слова. И Резерфорд обычно с веселым оживлением выкладывал своим мальчикам то, что нынче пришло ему в голову. (Так бывало неизменно, уверяет Гейгер.) За этим-то чайным столом Резерфорд и сказал однажды об «ужасающих силах». Сказал и, как удостоверил Дарвин, сразу оставил эту тему. И в другой раз внезапно повторил ту же фразу и тотчас осекся. И в третий раз вернулся на круги своя и — замолк...
Более чем ясно: обсуждать еще не выношенную идею ему, как всегда, не хотелось. Но вынашивать ее наедине стало ему теперь еще трудней, чем прошлой осенью в Виннипеге.
Теперь тоже стояла осень. 1910 год подходил к концу. Хотя Дарвин не задатировал свое воспоминание, отнести его к более раннему времени нельзя: только осенью 1910 года Дарвин начал бывать на манчестерских чаепитиях, сменив в это время Бэйтмена на посту лабораторного математика.
Так, стало быть, даже через полтора года после завершения работы Гейгера — Марсдена атомная модель Резерфорда была еще совсем не готова? Да, перед его мысленным взором к этому времени лишь забрезжил образ могучего центрального тела в атоме: образ вещественного источника «ужасающих сил». По трем приметам строился образ этого центрального тела: оно мало по объему, раз атом почти пуст; оно несет большой заряд, если его электрическое поле способно отбросить назад альфа-частицу; оно велико по массе, поскольку в итоге силового единоборства резко изменяется не его собственное движение, а движение частицы.
Так как же выглядит атом в целом?
Он думал об этом на континенте — в сентябрьском Мюнхене, где в обществе старых друзей, Бертрама Болтвуда и Отто Хана, спокойно отдыхал, готовясь к предстоящему Всемирному радиологическому конгрессу в Брюсселе. Они ходили в зна-
352
39
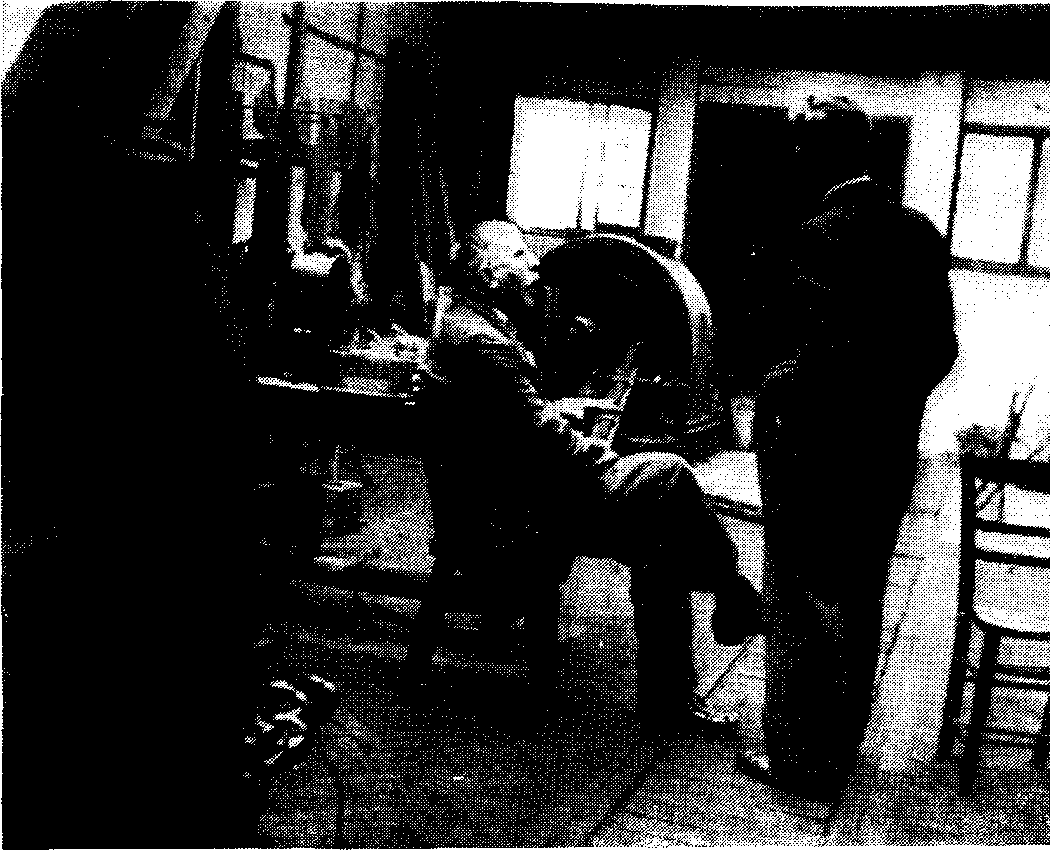
40
39. В Монд-лаборатории (Спиной стоит Дж Коккрофт.)
40. После завтрака. Кембридж. 30-е годы.
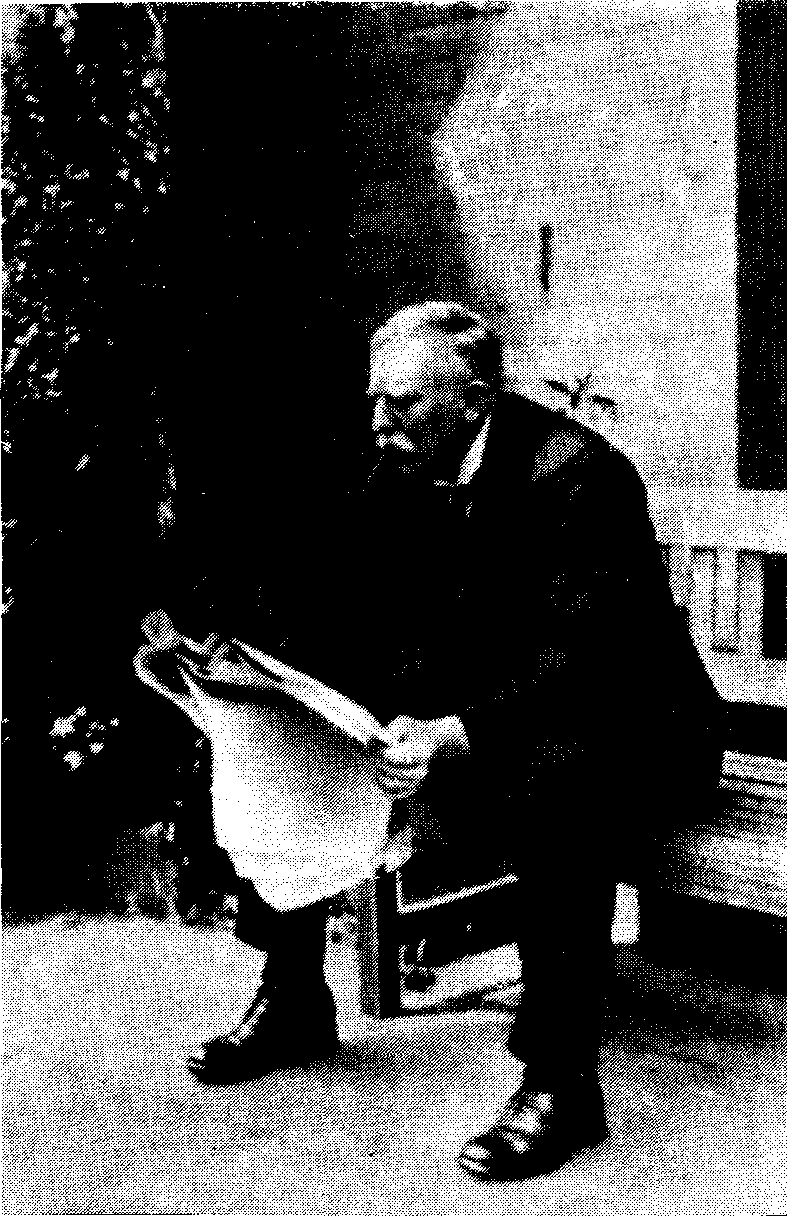
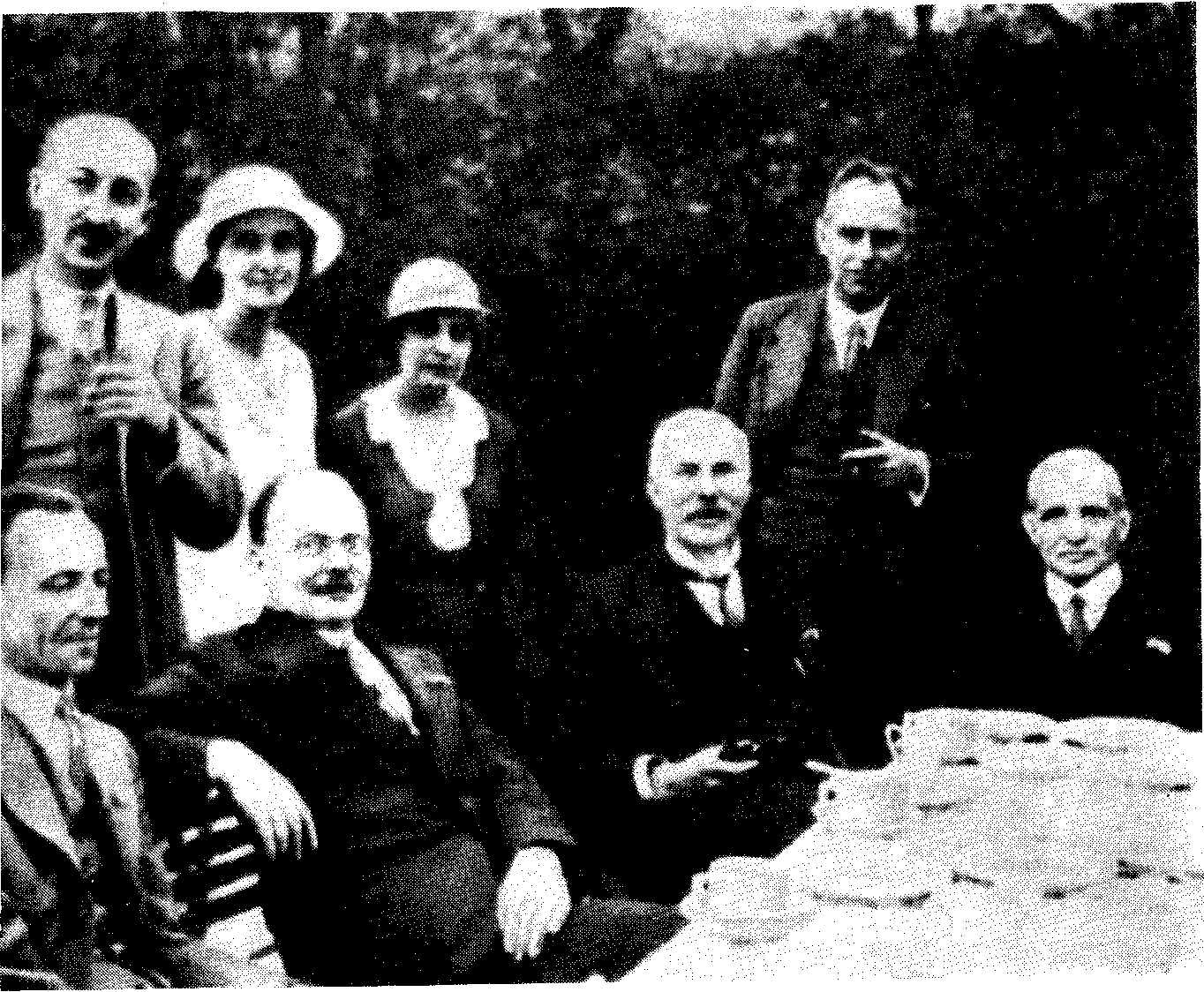
41. Резерфорд со старыми друзьями. Мюнстер, 1932. Слева направо: Дж. Чадвик, Дьердь фон Хевеши, фрау Гейгер, Ганс Гейгер, Лиза Мейтнер, Эрнст Резерфорд, Отто Хан, Стефан Мейер.
менитую Мюнхенскую пинакотеку и говорили о радиевом стандарте. Ездили на поклон к великому органику Байеру и спорили о номенклатуре радиоэлементов. Просиживали вечера в баварских пивных и обсуждали план Словаря радиоактивности. Но все равно он думал о своем. Мысленно осматривал и ощупывал атом.
Он втайне был занят этим и в бельгийской столице — в дни самого конгресса, когда редких часов отдыха и молчания не хватало даже на сон. («Я провел в Брюсселе четыре дня, разговаривая по 18 часов из 24, так что не удивился, потеряв голос», — писал он 16 октября матери.) И с еще большим трудом, чем раньше, удерживался он в потоке непрерывного говорения от соблазна выдать коллегам и сделать предметом шумной дискуссии свои конструкторские идеи. Он знал теперь о возможном устройстве сквозного атома довольно много, но знание это было малоутешительным.
Как мнимо-развлекающийся Гамлет при встрече с актерами, он все время думал о. своем. Однако не столько предвкушал мышеловку для короля, сколько чувствовал себя пойманным в мышеловку. В самом деле, невозможно отделаться от ощущения, что он снова, и на этот раз вовсе не по личному поводу, такому, как переезд из Кембриджа в Монреаль, впал в несвойственный ему гамлетизм. Только этот припадок в отличие от первого не задокументирован его собственными признаниями. {Но, пожалуй, довольно и того, что рассказал Дарвин:
это ли не похоже на Гамлета — делая решительный шаг и уже произнося слова об ужасающих силах, вдруг осадить себя и замолкнуть! «Если тут перестараться или недоусердствовать, непосвященные будут смеяться, но знаток опечалится...» *)
Образ сквозного атома с заряженным массивным телом в центре стал мышеловкой для его конструкторской мысли потому, что немедленно потребовал ответа на вопрос: а как заряжено центральное тело — положительно или отрицательно? Простейший этот вопрос провоцировал массу неприятностей.
Для статистической картины рассеяния альфа-частиц на любые углы — малые и большие — знак заряда сердцевины атома совершенно безразличен. Если этот заряд «+», то альфа-частица, пролетая сквозь атом, отталкивается центральным телом. И отклоняется от прямого своего пути, скажем, вправо. Если знак заряда «—»,. то она притягивается сердцевиной атома. И отклоняется в своем полете влево. Атомов в мишени тьма. Частиц в альфа-луче множество. Отклонения во все стороны осу-
353
«Гамлет». Перевод Б. Пастернака. 23 Д. Данин
ществляются с равной вероятностью. И если бы в опыте внезапно изменился знак заряда атомных сердцевин — был «+», а стал «—», или наоборот, — в картине рассеяния не изменилось бы ничего.
Но, может быть, отраженные частицы — рассеянные на столь большие углы, что они возвращаются от мишени назад, — давали информацию о знаке заряда центрального тела в атоме? Тоже нет. И по той же причине.
Хотя возвращение вспять — результат взаимодействия альфа-частицы с единичным атомом, она переживает это редкое событие под влиянием все тех же сил электрического отталкивания или притяжения. Такой частице просто очень повезло: ей удалось пролететь совсем близко от сердцевины одного из атомов мишени. Ведь силы взаимодействия быстро растут с уменьшением расстояния между зарядами. Когда расстояние мало, силы громадны. И если заряд сердцевины «+», она способна отбросить назад положительную частицу, осмелившуюся подлететь к ней слишком близко. А если заряд центрального тела «—»? Тогда действуют силы притяжения и начинает казаться непонятным, по какой причине альфа-частица должна повернуть обратно. Да по той же причине, по какой наша Земля, приближаясь к Солнцу, не может оторваться от него и улететь в мировое пространство. Именно силы притяжения — только не электрического, а гравитационного — заставляют планету, летящую мимо Солнца, огибать его и снова появляться по ею сторону сцены. Так и при отрицательно заряженной сердцевине атома альфа-частицу заставят обогнуть ее и вернуться обратно силы притяжения. Ив говорит, что для этого случая Резерфорд рисовал себе образ кометы, по гиперболе облетающей Солнце.
Вот так и получалось, что картина рассеяния совершенно не зависела от знака заряда центрального тела. Она зависела лишь от величины этого заряда. И от массивности этого тела. И "от его малости.
Малость была особенно важна. Делалась тотчас понятной редкость актов отражения. Уже не вызывало удивления, почему из восьми тысяч альфа-частиц, упавших на мишень, всего одна получала шанс пролететь настолько близко от сердцевины какого-нибудь из атомов, чтобы испытать всю мощь ее отталкивания или притяжения.
А заодно легко объяснялось, почему с утолщением мишени росло число отраженных частиц. Сделать мишень толще значило поставить на пути каждого альфа-снаряда больше атомов. Естественно, увеличивалась вероятность «попадания в цель». Но вместе с тем становилось ясно,
354
что у толщины мишени должен быть предел, за которым число отражений уже не сможет увеличиваться. Ведь каждая отраженная частица проделывала путь обратно и на этом обратном пути снова встречала толпу атомов. Поэтому с толщиной убывала вероятность вырваться после отражения наружу. Так одна вероятность росла, а другая уменьшалась. Должно было наступать равновесие. Гейгер и Марсден действительно наблюдали его на опыте.
В общем идея маленького, но могучего центрального тела в атоме работала хорошо! Однако какой же заряд оно несло:
«+» или «—»? Не зная этого, можно ли было сконструировать атомную модель?! Из двух вариантов верным мог быть один. Следовало сделать выбор.
И тут-то захлопнулась мышеловка.
Стоило допустить, что сердцевина заряжена отрицательно, как "снова выползали наружу неправдоподобные черты томсо-новской модели. Если в центре заряд «—», значит там сосредоточены атомные электроны. Но там же, по исходной идее, сконцентрирована основная масса атома. Стало быть, снова появлялось на свет многотысячное скопление электронов. И снова появлялась призрачная — почти невесомая — сфера с положительным зарядом, ибо надо же было как-то обеспечить нейтральность атома в целом. А при распаде радиоактивных атомов откуда брались тяжелые положительно заряженные альфа-частицы?.. Смущающие и безответные вопросы обступали толпой.
Но стоило допустить, что сердцевина заряжена положительно, как возможная атомная модель вообще становилась эфемерной. На первый взгляд все получалось красиво и убедительно. Нейтральность достигалась естественно и просто:
в центре тяжелый заряд «+», вокруг легкие электроны с зарядом «—». Понятно, почему электроны так легко отрываются от атомов и становятся свободными: они живут вдали от сердцевины и связь их с нею не очень прочна — ее несложно нарушить. Даже трением можно наэлектризовать многие тела. (Старые добрые школьные опыты!) И за атомный вес в такой модели несут ответственность не электроны, а центральный тяжелый положительный заряд. И становится понятно, откуда берутся при радиоактивном распаде альфа-частицы: их выбрасывает в результате каких-то внутренних процессов массивная атомная сердцевина. И наконец, легко удовлетворяются такой моделью требования теоремы Ирншоу. Конечно, электроны не покоятся вдали от центрального заряда; они вращаются вокруг него. Так, значит, в довершение всех достоинств этого атома,
