Глубинное
| Вид материала | Документы |
- Ценностей, 711.67kb.
- Программа заседаний секции «Комплексные геолого-геофизические исследования недр», 87.35kb.
- Рене Генон – Восточная метафизика, 258.18kb.
- Теоретико-методологические основания характерологической акмеологии а. А. Филозоп (г., 170.14kb.
- Курс предназначен студентам, знакомым с основами планирования и проведения эмпирического, 115.12kb.
- Эмоциональное выгорание педагога и психологическое здоровье ребёнка, 72.85kb.
- План проведения маркетингового исследования регионального it-рынка Анализ емкости рынка, 24.92kb.
- Конспект Меньшенина Дмитрия, 57.33kb.
ВЫСШИЕ ЭТАПЫ ПРАКТИКИ
71. Пути к релаксации и медитации
Релаксация как настрой
Две тысячи лет назад великий мастер йоги Патанджали отмечал в «Йогасутре» (2.47), что каждую йогическую позу следует завершать, снимая все стрессовое напряжение. Данное предписание заключает в себе саму суть йоги и приложимо к любым ее практикам.
Стрессовое напряжение (перенапряжение) всегда сигнализирует о помехах со стороны нашего эго, о том, что мы не плывем по течению, а пытаемся вызвать какоето событие, весьма возможно, исключительно насильно. Но такой настрой неизбежно создает в нас напряжения, которые рано или поздно негативно скажутся на эмоциях и теле. Перенапряжение в конечном итоге — стратегия самопоражения. Получается, что мы вообще не должны делать усилий? Краткий ответ: это невозможно. Даже просветленному человеку, обретшему идеальную гармонию с течением жизни, приходится совершать определенные усилия, чтобы есть, пить, ходить, говорить. С внутренней точки зрения эта деятельность кажется происходящей спонтанно, однако, пока мы пребываем в теле, поневоле приходится совершать поступки. Любые же поступки несут в себе элемент усилия, т. е. приложения энергии. Разница между усилием просветленного и обычного человека состоит в том, что первый не испытывает субъективно стресса от усилия.
Что, если просветленному человеку предстоит подняться на Эверест или на вершину небоскреба? Разумеется, он ощутит те же физические трудности, как любой другой альпинист. Возьмем более пассивный пример. Что будет, если просветленный человек окажется вынужден в течение многих часов слушать рев музыки диско? Его тело, разумеется, почувствует атаку звуковых волн, но это ни на йоту не нарушит внутреннего блаженства. А если
359
<»: Георг Фойерштейн
ГЛУБИННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЙОГИ £»'
просветленному человеку придется часами терпеть прочистку корневых каналов зуба без новокаина? Скорее всего, ему будет больно, однако боль эта будет восприниматься сквозь защитные слои безразличия, словно она происходит на расстоянии. Некоторые йоги приобретают такую способность задолго до просветления. И разумеется, просветленный человек не усилит действительную боль дополнительным страхом перед ней и непринятием боли.
Просветление уничтожает иллюзию эго, иллюзию существа, заключенного в своем «я» отдельно от других. Нет эго — нет стресса. Нет стресса — нет страдания. Возможно, именно поэтому у стольких продвинутых адептов лбы без морщин и мягкие, словно бы детские тела. Кроме того, если вглядеться в их изображения, обнаруживается, что зрачки подвижников как бы расширены. Обычно это считается признаком страха или удивления. Поскольку все адепты заявляют, что преодолели страх, приходится заключить, что они пребывают в состоянии постоянного удивления. Собственно говоря, одна из школ йоги (кашмирский шиваизм) действительно называет экстаз состоянием изумления (каматкара).
Релаксация является, вопервых и в основном, освобождением от иллюзии эго. Пока мы отождествляем себя с именем, телом, имуществом, связями и репутацией, дверь для страданий (дукха) остается открытой. В течение жизни нам, скорее всего, придется испытать физический дискомфорт, потерю родственника или близкого друга. У нас могут украсть кошелек, угнать машину, мы можем стать жертвой зависти или злых сплетен. При всех подобных случаях, если существует отождествление себя с эголич ностью, неизбежно приходят разочарование, раздражение, гнев, печаль, горе, зависть, ревность и многие другие негативные эмоции, столь обычные в повседневной жизни. Однако по мере ослабления хватки эго, эмоции эти оказывают на нас все меньшее и меньшее влияние, пока, наконец, у истинного йога виртуально не исчезают.
Весь моральный кодекс йоги может быть понят как средство уклонения от «кулака» эго. Именно поэтому пять ям, или дисциплин (непричинение вреда, правдивость, воздержание от воровства, целомудрие и нестяжательство), демонстрируют всеохватывающее направление релаксации. Точно так же включают элемент
релаксации и пять ниям, или ограничений (чистота, умение довольствоваться, аскетизм, изучение и посвящение себя высшему принципу). Так, через практику чистоты мы ослабляем любую заботу о низшей, материальной природе. Через умение довольствоваться — перестаем цепляться за вещи. Через аскетизм — уменьшаем привычку пользоваться удобствами и доставлять удовольствие собственному «я». Через изучение — бросаем привычку перескакивать от одного к другому, заменяя ее ментальной дисциплиной. Через посвящение себя высшему принципу, обычно понимаемое как поклонение Богу (Ишвара), мы снимаем стрессовое усилие по крепкому удержанию собственной эго личности.
Подругому данное направление мысли называется «невозмутимость» или родственным термином «уравновешенность» (саматва). Этот род гармонизированного настроя лежит в основе и всех прочих составляющих йоги. Так, практики поз, владения дыханием, подавления чувств, сосредоточения, медитации и экстатического слияния не могут привести к успеху без отучения себя от привычки к напряженным усилиям. В случае выполнения асан перенапряжение может привести к болезненному разрыву сухожилий и связок. Чересчур интенсивные занятия контролируемым дыханием способны причинить еще больший вред, включая повреждение сердечной мышцы.
Если насильно добиваться прогресса в практике подавления чувств, можно испытать шок от столкновения с собственным внутренним миром, пребывая в состоянии смятения. В этом состоит одна из проблем использования искусственных средств (например, психоделических) с целью заставить себя достигнуть глубинных областей сознания. Сосредоточение без релаксации просто вызовет головную боль. Сходным образом, вынужденная медитация лишь усилит нервозность, а экстаз (самадхи), который является тотальным переключением сознания, вообще не наступит (разумеется, естественным путем) без релаксации. Если преждевременно заставить себя испытать экстатические переживания с помощью наркотиков или других искусственных средств, итогом станут, скорее всего, смятение, самообман, а может даже и психический срыв. Само же переживание, будучи всего лишь симуляцией, а не истинным опытом, вряд ли приведет к какимлибо положительным духовным результатам.
360
361
?бъ< Георг Фойерштейн
ГЛУБИННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЙОГИ £$&>'
 Реакция релаксации
Реакция релаксацииПуть йоги от начала до самого конца можно понять как прогрессирующую релаксацию тела и мысли. Настрой на релаксацию можно воспитать посредством особых упражнений по соматической релаксации. Хатхайога дает целый набор подобных упражнений, прекрасное введение в которые и их разбор приведены в книге Джудит Ласатер «Релаксация и обновление» (1).
На Западе необходимость сознательной релаксации впервые была рассмотрена американским психологом Эдмундом Джекоб соном (1885—1976), который придумал прогрессивную мышечную релаксацию. С помощью этого упражнения он лечил гипертонию, бессонницу, несварение, колиты и «нервозность». Его книга «Вы должны отдыхать» вышла в 1934 г. В тот год в «Пыльном котле» разыгралась буря, сдувшая, согласно оценкам, 650 миллионов тонн почвы; Мао Цзедун и примерно 100 000 коммунистов начали стомильный марш, чтобы свергнуть китайское правительство под руководством Чан Кайши; в Германии произошло судьбоносное объявление Адольфа Гитлера фюрером.
Монография Джекобсона положила начало дальнейшим исследованиям релаксации, а в 1970х гг. Герберт Бенсон, профессор медицины Гарвардского университета, предложил релаксацию вниманию миллионов американцев сначала в статьях в журналах «Ведение хозяйства» и «Семейный круг», а затем в книгах «Реакция релаксации» (1975) и «За гранью реакции релаксации» (1984). Что именно представляет собой реакция релаксации, Бенсон объясняет так:
«При появлении реакции "дерись или беги" задействуется симпатическая нервная система, которая представляет собой часть автоматической, или не поддающейся влиянию воли, нервной системы. Симпатическая нервная система заставляет выделяться особые гормоны: адреналин (эпинефрин) и норадреналин (норэпинефрин). Упомянутые гормоны, эпинефрин и его производные, вызывают такие физиологические изменения, как повышение кровяного давления, частоты пульса и метаболизма тела... Поскольку импульс "дерись или беги" связан с гиперактивностью симпатической нервной системы, то есть и другой импульс, который успокаивает эту систему. Доказано, что гипертоники могут понизить свое кровяное давление, регулярно
вызывая в себе этот другой импульс. Это и есть реакция релаксации» (2).
Бенсон называл гипертонию «скрытой эпидемией» и напрямую связывал ее со стрессом, который приводит к синдрому «дерись или беги». Вопреки расхожему мнению жизнь, полная стрессов, не представляет собой ничего нового. Как указывал Брентон, еще 4600 лет назад китайский летописец оплакивал свою эпоху, отмеченную бедствиями, неподчинением, бунтами, горем и внутренней горечью. Сходные жалобы мы встречаем и на шумерских табличках, заполненных около 5000 лет назад. История говорит, что подобная ситуация превалировала в течение долгих веков во многих культурах, хотя надо признать, что современная скорость жизни подвергает огромным, неизвестным ранее стрессам небывалое количество людей по всему миру.
Доказано, что сознательная релаксация является эффективным средством против стресса и связанных с ним вредных физиологических последствий. Бенсон разработал собственную методику вызова реакции релаксации, однако она хорошо известна по традиционным техникам йоги. В конце 1960х гг. в Лаборатории памяти Гарварда Тондайка (городской госпиталь Бостона) Бенсон даже проводил исследования по трансцендентальной медитации — популярному методу, пропагандируемому Махариши Махеш Йоги. Этот метод представляет собой простую мантра йогу, в которой посвящаемым дается мантра для повторения. Однако мантраджапа — лишь один из многих путей, рекомендуемых мастерами йоги для успокоения тела и мысли. Так, в хатха йоге релаксация осуществляется прямо на уровне тела.
Йогическая релаксация
Позу релаксации на санскрите чаще всего называют шавасана. Слово это составлено из «шава» (труп, мертвое тело) и «асана» (поза).Большинство западных писателей переводят его как «поза трупа», хотя более точно такой перевод соответствует санскритскому синониму мритаасана. Это довольно забавное определение. Как замечал Свами Гитананда из Южной Индии, мастера йоги обычно очень точны и глубокомысленны в наименовании поз, однако в данном случае определенно, говоря современным
362
363
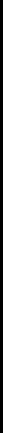 >iafe Георг Фойерштейн
>iafe Георг ФойерштейнГЛУБИННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЙОГИ i54>'
языком, вытянули не тот номер (3). Ведь йог, отдыхающий в шава асане, далек от смерти. Тем не менее почтенный Свами допускает, что это образное выражение намеренно подчеркивает неподвижность, в которой отсутствует любое напряжение, словно у трупа. Поскольку слово «труп» в подобном контексте режет уши чувствительных людей как на Западе, так и на Востоке, даже индийские учителя йоги переименовывают данное упражнение в шантаасана (уравновешенная поза), прашантаасана (спокойная поза), нишкалаасана (неподвижная поза), акалакрия (практика неподвижности). Свами Гитананда предлагал называть ее прашритаасана (лежачая поза) (4). А почему бы не назвать это упражнение шайтилияасана (поза релаксации), поскольку положение лежа чаще всего используется для снятия напряжения с тела? Кстати, термин шайтилия встречается уже в «Йогасутре» (2.47) в контексте снятия напряжения (прайятна) при выполнении йогических поз. Шаваасана направлена именно на релаксацию. Вот краткое описание этой техники:
- Лягте на спину, слегка разведя ноги и положив руки ладонями вверх примерно в футе от тела.
- Закройте глаза и рот, дышите спокойно через нос.
- Проверьте свое тело и снимите любое напряжение, уделяя особое внимание плечам, мышцам лица, груди и живота.
- Сохраняйте ощущение всего тела, продолжая дышать спокойно и естественно.
72. Что такое медитация
При рассмотрении достаточно обширной литературы по медитации выясняется, что описать эту технику можно самыми разными способами. Вот несколько определений, которые встретились мне при написании данного эссе.
«Медитация — это метод, с помощью которого человек все глубже и глубже сосредоточивается на все меньшем и меньшем. Цель заключается в полном опустошении мысли, которая остается при этом, как ни парадоксально, бодрствующей» (1).
«Концепция медитации относится к набору техник, которые являются продуктом психологии другого типа, нацеленной скорее
на личностные, а не интеллектуальные знания. Как таковые, эти упражнения направлены на изменение в сознании, переключение его с активного, ориентированного вовне, линейного режима на рецептивный, статический режим и, как правило, переход сосредоточения внимания с внешнего фокуса на внутренний» (2).
«Медитация — это процедура, позволяющая исследовать процесс собственного сознания и восприятия и открыть более фундаментальные, основные качества существования в качестве внутренней реальности» (3).
«Медитация... это намеренное "выключение" внешних стимулов, которые подготавливают нервную систему для боя или для бегства, и прислушивание к подсознательным стимулам, которые до этого были сведены к минимуму процессом индивидуального селективного сознания» (4).
«По сути медитация может быть описана как любая дисциплина, направленная на усиление сознательного наблюдения посредством сознательного направления внимания» (5).
Из приведенных выше определений очевидно, что медитация — сложный феномен, который можно рассматривать под различными углами. Каждое определение раскрывает какието моменты и затемняет другие. В конечном счете, медитация предстает в качестве трудного для понимания, даже таинственного процесса.
Если возможно осмысленно рассуждать о медитации подобно тому, как мы рассуждаем о любви или самой жизни, то все же приходится медитировать, жить и любить, чтобы понастоящему понять, что же это такое. В данном случае я буду говорить о медитации, основываясь, вопервых, на священной литературе индуизма, а вовторых, на собственном опыте. В частности, я обращусь к «Ригведе», некоторым упанишадам, «Бхагавадгите», «Йогасутре» и некоторым рукописям хатхайоги.
Начнем с приемов медитации, описанных в древних Ведах более трех тысяч лет назад. Как показала британская исследовательница вед Дженин Миллер, барды (риши), которые составили ведические гимны, были не просто вдохновенными поэтами, но и пророками. Они утверждали, что видели гимны (6), а затем лишь воспели то, что открылось им в видениях. Таким образом, ведические гимны были преимущественно хвалебными песнями, звучавшими при различных ритуалах.
364
365
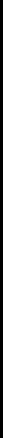 *&>< Георг Фойерштейн
*&>< Георг ФойерштейнГЛУБИННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЙОГИ :$&>'
 Видения пророковбардов назывались дхи. Это слово имеет тот же корень, что и дхиана — самый употребительный санскритский термин, обозначающий медитацию.
Видения пророковбардов назывались дхи. Это слово имеет тот же корень, что и дхиана — самый употребительный санскритский термин, обозначающий медитацию.Риши условно называли свою медитативную деятельность словом брахман, произведенным от корня глагола брих (расти, расширяться). В древнем ведическом смысле брахман — магический акт «вытягивания, вызывания» священной силы души. Это, как пояснила Миллер, повторение самого космического процесса. Пророческий брахман психологически дублирует генезис Вселенной, возникающей из трансцендентальной Реальности, которая есть ни бытие, ни небытие.
В медитативном состоянии происходят красочные видения (дхи). Посредством брахмана, всегда «богоданного» (девадатта), происходит проявление «Солнца». Иными словами, медитация являет блистательный свет трансцендентальной Реальности, излучающей свет Сверхсознания, которое позже назвали чит. Ведические пророки знали, что сияние звезд и сверкание, которое следует найти в сердце,— две стороны одного принципа. Миллер различает три типа брахманамедитации: 1) мантрическая медитация, или погружение сознания в звук и через звук (мантра),
- визуальная медитация, или генерирование озаренной мысли (дхи), во время чего происходит призыв определенного божества,
- погружение в мысль и сердце, или углубление медитации через все более пристальное исследование озаренного прозрения (дхи или маниша).
Сами ведические пророки знали также о «четвертом брахмане», который Миллер определяет как экстатическое состояние, выходящее за пределы медитации. Именно в четвертом брахмане пророки ощущали великую радость, свободу от страха и бессмертие (амрита).
Ведическое понятие медитации связано с рядом других ключевых концепций, а именно хирд (сердце), тапас (сила огня), крату (творящая воля), рита (истина, или космический порядок). Сердце означает направленность вовнутрь, внутреннюю жизнь, сконцентрированную в способности к высшим чувствам, что в древности ассоциировали с физическим сердцем. Представление о сердце как о «пещере», в которой можно отыскать спрятанные сокровища, является практически универсальной идеей религиозных традиций мира.
Тапас, опятьтаки, принято переводить как «аскетизм», однако данное слово имеет гораздо более глубокое значение. Вопервых и в главных, это внутренний жар и сила, достигаемые через крайнюю степень самодисциплины, что соответствует самоограничению, явленному первичным Бытием в процессе творения многоуровенной Вселенной. Иными словами, аскетическое тапас — точная эмуляция исходного акта самопожертвования Творца, в результате которого возник Космос.
Самодисциплина заключается не столько в отрицании, сколько в креативном направлении первичных энергий. Это представление выражено в слове крату, которое часто переводится как «воля». Крату — это психологическая сила, стоящая за невероятным трудом тапас. Это воля проявить изначально невидимое в видимом царстве, чтобы оно, изначально невидимое, могло быть понято. Видения ведических риши представляют собой плод их внутренней решимости творить.
Подобное творение всегда совершается в соответствии со вселенскими законами, а пришедшие в результате видения отражают космический порядок (рита). Отвечая невидимому порядку Вселенной, они делают божественную истину осязаемой. Таким образом, риши являются претворителями истины, идеальной гармонии, лежащей в основе всей видимости. Из одного этого ясна огромная полнота духовного понимания жизни ведическими провидцами.
Немалое богатство их религиозных и мистических идей было пополнено последующими веками. Начиная со второго тысячелетия до н. э. индусские мудрецы составляли упанишады, представлявшие собой не только эзотерическое объяснение и изложение ведического учения, но во многом и новое направление. Как отражение произошедшей перемены, медитацию с того же момента стали называть дхиана. В упанишадах мы встречаем также древнейшее упоминание о традиции йоги, которая постепенно сложилась в шестиэтапный (шаданга), а затем восьмиэтапный (аштаанга) путь.
Более того, ведическое слово брахман приобретает теперь новый смысл. С этого момента и далее оно перестало обозначать состояние медитации, а начало относиться к Богу или самой ультимативной Реальности, отражая понятие великого, исполненного силы протяжения священного. Та же самая Реальность
366
367
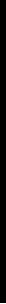 '<я><: Георг Фойерштейн
'<я><: Георг ФойерштейнГЛУБИННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЙОГИ »
в качестве стержня души или мысли стала обозначаться «Я» (атман).
В одной из древнейших упанишад, «Чхандогьяупанишаде» (7.6.1), содержится очень интересный отрывок, дающий важный ключ к медитации. Он гласит:
«Медитация (дхиана), конечно, больше, чем мысль. Земля медитирует, как была (ива). Воздух медитирует, как был. Небеса медитируют, как были. Воды медитируют, как были. Горы медитируют, как были. Боги и люди медитируют, как были. Отсюда те средь людей, кто стяжал величие, есть, как были, часть состояния медитации. Те же, кто низок, спорщики, клеветники, злословники. Те, кто превосходны, есть, как были, часть состояния медитации. [Потому] прими медитацию».
Что это значит? Прежде всего нам говорится, что медитация больше, чем мысль. Санскритский текст употребляет слово читта, которое, как сообщает предыдущий отрывок, больше, чем намерение (самкальпа), а последнее, в свою очередь, больше, чем рассуждение (манас). Следовательно, читта, скорее всего, обозначает обыденное сознание. Таким образом, медитация больше, чем среднее, типичное сознание. Фактически это высшая форма сознания.
Но почему же анонимный автор заявляет, что «земля медитирует, как была»? Что «горы медитируют, как были»? Выражение «как были» (ива) поясняет ту мысль автора, что горы не занимаются намеренным упражнением, но все же вовлечены в нечто, напоминающее медитацию. Если предпринять неспешную пешую прогулку гденибудь за городом, не загружая мысль никакими заботами, а просто воспринимая холмы, деревья и ручьи, нас, вне всяких сомнений, поразит их покой, их высшая простота. Они просто пребывают, без всяких забот или проблем. Именно это и есть состояние медитации. Медитация — просто присутствие в настоящем в том же роде, в каком присутствуют холмы, деревья и ручьи.
Медитация — пребывание, abiding. Старое слово abide (пребывать, обитать) происходит от англосаксонского bidan (ждать). Медитация действительно представляет собой сорт ожидания, но не того полубессознательного, нервного ожидания, которое
обычно наступает на автобусной остановке или в приемной стоматолога. Медитативное ожидание — отдых в настоящем без обычного полета мысли. Это, согласно дзенбуддистам, «просто сидение». Таким образом, медитация есть форма концентрации, включающая отрыв от мельницы мысли и отдых в сердце.
Мудрецы упанишад сохранили много ведических духовных мотивов. Так, «Я» они помещали в сердце. Одно из санскритских обозначений сердца — хридайя. В «Чхандогьяупанишаде» (8.33) это понятие, т. е. «Я», причудливо раскрыто выражением «то, что в сердце» (хриди айям).
Практикуя «возжжение» через медитацию, можно узреть «блистающее божество» (дэва), скрытое в сердце,— гласит «Шветашва тараупанишада» (1.14). В этой практике тело представляет собой нижнюю палочку для трения, а звук Ом — верхнюю палочку. Через совместное трение двух палочек возжигается духовный огонь. Данное воззрение возвращает нас к ведическому тапаса, также включающему элемент напряжения, или трения. Посредством «жара», или тапас, аскеты заряжают свое тело трансформативной энергией, которая в итоге дает желаемое медитативное видение Божества.
Примерно в V или IV веке до н. э. была составлена «Бхагавад гита». Этот дивный манускрипт считается самой почитаемой упанишадой. В нем много раз встречаются слова дхиана и йога. Собственно говоря, вся шестая глава озаглавлена как дхианайога, а стихи с 10 по 15 излагают медитативный подход, преподанный богочеловеком Кришной.
В стихе 12.12. снова повторяется, что дхиана лучше, чем мудрость (джнана), поскольку дает отречение от плода действия и мир.
В «Гите» богочеловек Кришна требует от своего ученика Арджуны наложить ярмо на высшую мысль (буддхи) путем устремления последней к нему, Кришне. Благодаря этому становится сосредоточенным вся мысльтело. Кришна говорит о тех, кто отреклись в нем от любых действий и сосредоточились лишь на нем одном, почитая его поклонением через практику йоги. Это раннее изложение практики гуруйоги, при которой фокусом медитативной и посвященной жизни учеников является адептгуру. В основе лежит идея, что осознавший «Я» мастер открывает ворота к Божеству.
368
13 Глубинное измерение йоги
369
<»<: Георг Фойерштейн
ГЛУБИННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЙОГИ Јfc'
В «Майтрайянияупанишаде» (6.18), датируемой II или III веком до н. э., мы впервые встречаем формулировку пути йога как процесса, который состоит из четко разграниченных стадий, названных «членами» (анга). В этом манускрипте они перечислены в следующей последовательности: владение дыханием (пранаяма), подавление чувств (пратиахара), медитация (дхиана), сосредоточение (дхарана), оценка (тарка) и экстаз (самадхи). Таким образом, медитация выступает в качестве третьего из шести «членов». Неясно, почему сосредоточение следует за медитацией, а не предшествует ей, хотя, быть может, здесь содержится намек на то, что медитация и сосредоточение представляют собой тесно связанные внутренние процессы.
Практика тарка, переведенная здесь как «оценка», в «Майтрайянияупанишаде» не поясняется. Однако, скорее всего, она относится к упражнению по тщательному исследованию качества и влияния личной медитации. Без самокритики видения и настроения, порожденные медитацией, могут превратиться в препятствия на пути духовного процесса. Люди, занимающиеся йогой, вообще должны применять способность анализировать жизнь в целом, но особенно — проявления собственной психики. Как говорил современный мудрецфилософ Поль Брайтон:
«Медитация должна сопровождаться постоянным усилием в направлении честной самопроверки. Должны быть преодолены все мысли и чувства, действующие как барьер между личностью и ее Конечной Целью. Это требует острого самонаблюдения и внутреннего очищения. ...Следует остерегаться фальсификаций, рационализации и заблуждений, бессознательно практикуемых эго человека, когда упражнения по самоанализу становятся неудобными, унизительными или мучительными. Нельзя позволить себе пасть в яму жалости к себе» (7).
Определения, подобные собранным в «Майтрайанияупани шаде», подготовили появление классического восьмиэтапного пути Патанджали, жившего, вероятно, во II веке н. э. В школе Патанд жали медитация фигурирует в качестве седьмого «члена». Непосредственно перед ней стоит практика сосредоточения, а за ней — экстаз. Сам факт наличия этих этапов напоминает нам, что
медитация еще не конец. Это просто средство осознания «Я» через медитативную практику экстатической трансценденции «я».
Очень важно понимать, что медитация является интегральной частью духовного пути. Это означает невозможность успешных занятий ею без других «членов». Более того: дхиана не есть самодостаточное состояние, она подталкивает нас к трансценденции ее, т. е. к экстазу, или самадхи. Вне контекста просветления, или духовного освобождения, дхиана не имеет смысла.
Как же объяснял дхиану Патанджали? В афоризме 3.2 он говорит, что «медитация представляет собой однонаправленный поток (экатаната) идей в отношении [объекта медитации]». Понять это довольнотаки техническое определение вне связи с прочими афоризмами невозможно. Оно отсылает обратно к сосредоточению. Собственно говоря, полностью понять медитативный процесс по Патанджали никак нельзя без возврата еще далее, а именно к практике позы (асана). Понастоящему медитация начинается именно здесь, поскольку поза включает высокую степень релаксации и, как выразился Патанджали в афоризме 2.47, «совпадение [человека] с бесконечным [пространством сознания]».
Эта практика охватывает определенную нечувствительность к внешним стимулам и, таким образом, естественным образом приводит к практике подавления чувств (пратиахара), сопровождаемой сосредоточением и медитацией.
В афоризме 2.11, который часто повторяется читателями «Йогасутры», Патанджали сообщает о медитации другую очень важную вещь, а именно: «Посредством медитации должны быть преодолены флуктуации [причины страдания, или клеша]». Иными словами, скорее не экстаз, а медитация является средством трансценденции вечных флуктуации мысли (вритти). Флуктуации эти опятьтаки просто одно из проявлений причин страдания (клеша), т. е. духовного невежества, чувства индивидуальности, страстной приверженности к существам и предметам, антипатии, жажды жизни. Другой, более тонкий аспект причины страдания состоит в особых мысленных актах (праджна), связанных с низшими стадиями экстаза, которые отличаются от обычных мыслей. В любом случае, экстатическое состояние не может наступить, пока вритти не будут взяты под контроль посредством медитации.
Особая задача различных форм сознательного экстаза (сам праджнатасамадхи), которые составляют низший уровень экстаза,
370
371
'&< Георг Фойерштейн
ГЛУБИННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЙОГИ fc'
заключается в овладении присутствующими идеями (пратиайя). Это спонтанные мыслеформы и высшие типы озарения (прадж на), появляющиеся в экстатическом состоянии. Необходимо возвыситься над ними, чтобы наступило состояние сверхсознательного экстаза (асампраджнатасамадхи), порога к освобождению.
Можно отметить, что для Патанджали один очаг или пункт сосредоточения (деша) ничем не хуже другого в плане фокусировки мысли и достижения состояния медитации. Такой широкий подход открыл путь для последующего развития медитативных техник. Например, много позже была разработана типичная медитационная практика хатхайоги, представляющая собой сложную технику визуализации. Насколько сложна эта техника иллюстрирует отрывок из «Герандасамхиты» (6.2—8), относящейся к XVII веку:
«[Пусть йог] представит, что в его сердце огромное море нектара; что посреди этого моря есть остров драгоценных камней, песок которого [состоит] из алмазной пыли; что по всем берегам этого острова растут деревья нипа, усыпанные прекрасными цветами; что позади этих деревьев высятся, как вал, цветущие деревья мала ти, маллика, джати, кесара, кампака, париджата и падма и что аромат их цветков плывет повсюду и во всех направлениях. В середине этого сада пусть йог представит прекрасное дерево кальпа с четырьмя ветвями, символизирующими четыре Веды, которое усыпано цветами и плодами. Здесь жужжат пчелы и поют кукушки. Под деревом пусть йог представит огромную платформу из драгоценных камней. Пусть представит он далее, что в центре ее стоит прекрасный трон, усыпанный драгоценностями. На троне же пусть представит то божество (девата), в соответствующей форме, украшениях и повозке, о котором поведал учитель. Знай, что постоянное представление подобной формы есть грубая медитация (стхуладхиана)».
Медитация (особенно часто ее визуализирующие варианты) входила также в западные религиозные и эзотерические традиции. Часто эта практика принимала вид сочетания молитвы и визуализации, как в «сердечной молитве» Восточной Церкви. Христианские монахи тоже применяли в своей практике (exercitium)
мантры, например «Славься, Мария». Эти усилия, правда, не привели к созданию столь сложной медитативной системы, которую мы встречаем в индуизме и буддизме. Однако люди, которые практикуют восточные техники медитации, могут почерпнуть немало полезного, изучая христианский подход. Равным образом и духовные искатели, принявшие христианские формы молитвы и медитации, вполне могут обогатить свою практику пристальным изучением восточных методов.
Сегодня Западом начаты научные исследования медитации. Интерес к этому вопросу возник преимущественно благодаря практикам трансцендентальной медитации (ТМ) — системы, которую принес на Запад Махариши Махеш Йоги (8). Повидимому, следует кратко прокомментировать этот подход. Вопреки окружающей ее тайне ТМ на деле представляет собой форму мантра йоги, т. е., в принципе, самого легкого типа йоги. Посвящаемым дается (обычно за существенную сумму и с требованием соблюдения строжайшего секрета) личная мантра, как правило, взятая из набора «слов силы», ограниченного ом, рам или бам. Далее от посвященного требуется сосредоточивать свое внимание на священном звуке, используя его при каждой медитации.
По поводу ТМ сделано много заявлений с описаниями как простых психологических эффектов, так и экстраординарных парапсихологических явлений. Наиболее интересные, хотя и противоречивые, высказывания касаются «полевого эффекта» медитации. Говорят, что ТМ — действенное средство улучшения психической среды мира, способное предотвратить войну и подобные бедствия. Как способен подтвердить любой медитатор, медитативное состояние не только оказывает благоприятное влияние на внутреннюю среду человека, но и может влиять на других людей, которые оказались в зоне непосредственного окружения спокойно сидящего медитатора. Насколько далеко распространяется подобное влияние и каков механизм его действия, еще только предстоит выяснить.
Психологам удалось составить достаточно четкую картину того, что происходит во время медитации на физиологическом и психологическом уровнях. Они показали, что медитация является хотя и необычным, но по большому счету благоприятным состоянием. Кроме того, психологи снабдили нас всевозможными операционными фактами, касающимися корреляции между
372
373
*т>< Георг Фойерштейн
ГЛУБИННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЙОГИ :~V»'
определенными уровнями медитативных переживаний и мозговыми волнами. Фактически это открытие привело к появлению настоящей волны новых технологий с целью способствовать выработке мозговых волн, характерных для релаксации и медитации.
Как бы ни были полезны эти технологии, следует осознать, что они никогда не смогут заменить духовное созревание. Можно обмануть нервную систему, заставив ее функционировать определенным образом путем подключения к сложным приборам, но это не сократит путь к просветлению. То же самое относится к приему «изменяющих мышление» наркотических средств или лекарств. В конечном счете, медитация, чтобы действительно стать орудием поиска личностной целостности, должна выступать совместно со здоровой духовной ориентацией, подкрепленной всесторонней дисциплиной. Истинная медитативная практика всегда развертывается в контексте встречи со священным измерением, что неизбежно включает трансценденцию эго или, говоря постарому, самоподчинение.
