В. Г. Белинского Исторический факультет Гуманитарный учебно-методический и научно-издательский центр российская цивилизация на современном этапе (1960-е начало 2000-х гг.) Учебно-методическое пособие
| Вид материала | Учебно-методическое пособие |
- В. Г. Белинского исторический факультет гуманитарный учебно-методический и научно-издательский, 167.78kb.
- М. В. Ломоносова Социологический факультет кафедра Информатики социальных процессов, 1105.13kb.
- М. В. Ломоносова Социологический факультет кафедра Информатики социальных процессов, 1371.86kb.
- Методическое пособие по выполнению курсового проекта для специальности 1707, 949.63kb.
- Учебно-методический комплекс Челябинск Издательский центр юургу 2010 ббк х62. я 7 П912, 471.97kb.
- В. А. Жернов апитерапия учебно-методическое пособие, 443.6kb.
- Учебно-методическое пособие для студентов Iкурса очной формы обучения, 250.7kb.
- Учебно-методическое пособие для студентов Iкурса очной формы обучения, 464.09kb.
- В. Г. Белинского кафедра мировой и отечественной культуры удк 17: 34 (075. 8) Этика, 993.72kb.
- Практикум Учебно-методическое пособие Канск 2006 Печатается по решению научно-методического, 1041.76kb.
Б) Из статьи В. А. Мау Преемственность и прерывистость модернизации российской экономики в эпохи революций // Пути России: преемственность и прерывистость общественного развития / Под общ. ред. А. М. Никулина. М.: МВШСЭН, 2007. С. 16-23.
«<…> Пока мы не знаем модели более эффективной, чем современная западная экономико-политическая система. Разумеется, путь к ней может быть весьма специфичен, должен опираться на собственные традиции и особенности национальных институтов. Однако по мере продвижения вперед, по мере приближения к уровню наиболее развитых стран мира та из них, которой удается совершить этот прорыв (а таких успешных случаев существует немного), становится в институциональном отношении все более западной. Иными словами, «Восток», которому удается совершить модернизационный рывок, становится «Западом». В противном случае им не сойтись никогда.
1. Сложности модернизации
Мы решаем задачу модернизации вот уже 300 лет. Но это не специфика России. Большинство стран сталкивались с проблемой path dependency, но не могли преодолеть ее.
Специфика России – нахождение «на полпути» к модернизации:
– это не Китай, чей отрыв от Запада менялся более чем существенно за последние 300 лет;
– это не Япония, которая решила проблему path dependency в XX
столетии;
– это и не вечно отставшая Африка.
Особенность России – стабильность отставания в 50 лет. Достаточно подробно в экономических терминах это было проанализировано Е. Гайдаром (относительно Германии и Франции).
Но это отнюдь не открытие. Подобный интервал ощущался и понимался и писателями, и политиками. Приведем только две цитаты:
«Русские старательно копируют французские нравы, только с опозданием лет на пятьдесят», – писал Стендаль. Это говорится о нравах, однако имеет непосредственное отношение и к экономике.
А вот высказывание о состоянии институтов, относящееся к последней четверти XIX в.: «Для содействия обрабатывающей промышленности... от правительства требуется... не столько материальная поддержка, сколько установление лучшего порядка посредством издания законов, применимых к современному развитию хозяйства. Россия отстала от всей Западной Европы в этом отношении на полстолетия». Это слова Н. Х. Бунге, министра финансов России в 1881–1886 гг.
За последние три столетия Россия опробовала все возможные механизмы решения этой проблемы – реформы, по крайней мере две «революции сверху», и, что совершенно невероятно, две полномасштабные революции: 1917–1929 и 1987–2000 гг.
Основной проблемой такой ситуации была и остается некомплексность (точнее, односторонность) модернизационных усилий российского государства. Власти всегда сосредоточивались на отдельных аспектах модернизационной задачи, игнорируя остальные или даже принося их в жертву. Можно даже выделить некоторую закономерность, прослеживаемую в 300-летней истории российской модернизации. В первую очередь страна ставила и решала задачи модернизации в военной сфере и в отраслях, с ней сопряженных (будь то металлургия в XVIII в., железнодорожный транспорт в конце XIX–XX вв. или космические исследования во второй половине XX в.). На втором месте стояла экономическая модернизация, которая, естественно, должна была дать базу для решения военных задач. Меньше уделялось внимания культурной модернизации, которой начинали всерьез заниматься тогда, когда общее отставание оказывалось критически опасным. И, наконец, полностью игнорировалась модернизация политических институтов, которые, напротив, пытались консервировать на максимально продолжительные периоды времени. Только тяжелейшие системные кризисы (в середине XIX в., в начале и в конце XX в.) приводили к политическим реформам, причем в двух из трех случаев политические трансформации имели форму полномасштабной революции, т.е. через полный слом государства с присущими революции колоссальными издержками.
2. Механизмы осуществления
догоняющей модернизации
Что делать для решения проблемы догоняющей модернизации, достаточно хорошо известно еще с середины XIX в.:
«Во-первых, улучшение форм управления, более совершенная защита собственности; умеренные налоги и уничтожение произвольных вымогательств, осуществляемых под видом сбора налогов... Во-вторых, желаемого результата можно достичь посредством повышения уровня умственного развития народа... В-третьих, средством достижения указанных целей является внедрение заимствованных из-за рубежа ремесел, позволяющих увеличить прибыли, которые можно извлечь из дополнительного капитала... а также привлечение иностранного капитала, что делает рост производства независящим более от бережливости или предусмотрительности самих жителей». Это было написано еще в середине XIX в. Дж. С. Миллем по отношению к «неразвитым в промышленном отношении районам Европы, например, России, Турции, Испании и Ирландии».
Таким образом, основными факторами роста здесь называются: гарантии прав собственности и отсутствие произвола власти, развитие образования населения, а также привлечение иностранного капитала (в виде финансовых ресурсов и технологий, know-how).
Но как это применить на практике – вот главный вопрос.
Впрочем, известна проблема преимущества отсталости, подробно проанализированная А. Гершенкроном.
Обычно «преимущество отсталости» рассматривается с точки зрения технологий, т. е. как возможность отсталой страны воспользоваться научно-техническими достижениями развитых стран и тем самым не повторять этапы развития техники, которые проходили развитые страны.
Но теперь нам становится понятно, что еще более важен с точки зрения учета опыта развитых стран институциональный фактор – возможность не повторять этапы, использовать передовые институты.
Отдельной и очень сложной проблемой является возможность использования старых институтов для решения новых задач. Ответ на этот вопрос не столь уж однозначен, как может показаться. При его обсуждении возможны три варианта ответа на него и, соответственно, два варианта развития событий.
Первый, более тонкий вариант, предполагает возможность ограниченного использования старых институтов для решения новых задач. Классическим вариантом такого решения было сохранение общины в России даже таким реформатором, каким был С. Ю. Витте. Дело было, однако, в том, что при помощи общины он пытался решать чисто фискальные задачи – получение налогов из деревни для перераспределения их в пользу развития промышленности. Этот опыт был в дальнейшем повторен И. В. Сталиным.
В чем-то аналогичную роль играют в современной России попытки использования таких традиционных для индустриальной системы форм, как госинвестиции или особые экономические зоны. Эти инструменты, неплохо зарекомендовавшие себя в странах, решавших задачи ускоренной индустриализации, могут играть очень ограниченную роль применительно к посткоммунистической России.
Способность старых институтов сыграть новую роль, т. е. обеспечить модернизацию, не следует преувеличивать. За сохранение старых форм стране все равно придется платить, и иногда несоизмеримую цену. Возвращаясь к примеру с общиной, можно предположить, что более ранняя ликвидация этого института способствовала бы ускорению роста капитализма в российской деревне и, возможно, предотвратила бы революцию (или ее развитие по наиболее катастрофическому сценарию). Иными словами, желание правительства упростить себе жизнь с точки зрения текущих налоговых проблем обернулась системным кризисом и крахом страны. Пока остается только гадать, какую цену придется платить за попытки использования старых институтов в России начала XXI в.
Второй вариант предполагает отказ от использования традиционных институтов, т. е. концентрацию политических и идеологических ресурсов элиты на поиске, отработке и практической реализации системы новых институтов, способных обеспечить реальное ускорение общественных процессов.
В реальной жизни наиболее вероятным (и оптимальным с учетом существующих ограничений) является сочетание первого и второго вариантов. Однако в любом случае главной задачей правительства и вообще элиты должно быть выявление новых институтов, способных обеспечить социально-экономический и политический рывок.
3. Особенность России – сильное влияние
революционной трансформации
Революция – специфический этап на пути модернизации, связанный с разрушением государства. Революция представляет собой радикальную (системную) трансформацию общества в условиях краха (фактически отсутствия) государственной власти. Именно крах государства, а не уровень насилия, является важнейшей характеристикой революционной трансформации.
В революции не обязательно происходит полный разрыв с прошлым. Революция готовится прошлым, и постреволюционный период часто находится под сильным влиянием прошлого, не может от него отделаться. Новые формы возникают при старом режиме и только затем оказываются востребованными практикой.
Революция тоже представляет собой цикл, однако по историческим масштабам непродолжительный. С одной стороны, повтор, логика революции повторяет революции прошлого, что связано со стихийностью процесса революционной трансформации. С другой стороны, в ходе революции повторяются проблемы, вызывающие кризис государственной власти.
Можно привести несколько примеров того, как к началу революции складываются основные идеологические и концептуальные предпосылки нового режима, новой системы. Скажем, торжество дирижизма в большинстве европейских стран в начале XX в;, и особенно в годы Первой мировой войны, нашло практическое воплощение в ленинской концепции «цельного социализма» (единство советской власти и немецкой монополизированной военной экономики) и практики советской экономической системы.
Другой пример – быстрое и широкое распространение популярности экономического либерализма в последней четверти XX столетия. К концу перестройки либерализм в СССР был чрезвычайно популярен, а пример либеральных экономических реформ А. Пиночета с интересом обсуждался руководством коммунистической партии.
Революционный экономический цикл. В развитии революции ключевыми проблемами всегда являются проблемы денег и собственности, которые необходимы слабому правительству для консолидации своей власти, а то и просто для физического его выживания.
Можно выделить следующие закономерности экономического развития революционной трансформации:
– практически неизбежным становится инфляционное финансирование бюджета, поскольку остальные источники денежных средств у власти отсутствуют. Более того, инфляция становится прежде всего политическим феноменом, отражающим силу власти, т. е. ее способность консолидировать свою политику;
– перераспределение собственности становится политической
проблемой – способом укрепления власти. Именно политический
критерий является главным критерием при оценке эффективности
приватизации (равно как и национализации). Слабость власти и
крайняя неопределенность всегда создают очень специфические
(и извращенные) формы собственности. Но это важно с точки зрения модернизации;
– бюджетный кризис – неизбежный феномен революции,
равно как и дефолт, причем последний становится показателем готовности власти начать выход из финансового кризиса;
– в условиях революции неизбежен рост трансакционных издержек, что связано с политической нестабильностью и неопределенностью. Неспособность государства обеспечить стабильную политическую среду, и прежде всего исполнение законодательства и контрактов, делает крайне сложным ведение хозяйственной деятельности в стране;
– происходит демонетизация ВВП, что связано как с инфляционными процессами, так и с вымыванием твердых денег (в случае
наличия металлического обращения) из оборота;
– существенный спад производства.
Завершение революции всегда связано с возвращением к старым формам при сохранении нового существа. Это уже именно форма, но с совершенно иным содержанием.
4. Постреволюционное развитие
Постреволюционное развитие детерминируется двумя обстоятельствами. Во-первых, особенностями эпохи – сохранением дореволюционных вызовов и трендов в постреволюционной стране. Во-вторых, отсутствием в условиях революции консенсуса по базовым ценностям, что оказывает длительное влияние на дальнейшее развитие страны.
Это предопределяет периодическое повторение политических кризисов. Ведь после революции складывается стабильность элиты, но не общества. Поэтому неизбежно возникновение периодических кризисов, не меняющих экономической сущности системы. Однако эти кризисы меняют характер и социальную базу режима.
Наиболее яркий пример дает Франция, прошедшая через несколько политических (но не системных) кризисов между 1815 и 1871 гг. По-видимому, нечто подобное предстоит и современной России.
Возможность повторения старых форм – это дань естественной ностальгии. «Целый народ, полагавший, что он посредством революции ускорил поступательную силу своего исторического движения, вдруг оказывается перенесенным назад, в прошлую эпоху; а чтобы устранить всякие сомнения на этот счет, вновь воскресают старые даты, старое летоисчисление, старые имена, старые эдикты, сделавшиеся, казалось, давно достоянием антикварной учености, и старые, казалось, давно истлевшие жандармы. Нация чувствует себя так же, как рехнувшийся англичанин в Бедламе, который чувствует себя современником древних фараонов...» – это писал К. Маркс в «Восемнадцатом брюмера Луи-Бонапарта».
Похоже, что подобное рассуждение далеко выходит за проблемы Франции середины XIX в.
Учет специфических особенностей страны – самостоятельная проблема, которая должна приниматься во внимание при анализе тенденций развития страны.
Разумеется, к учету специфики страны надо относиться осторожно, поскольку нередко аргументы культурной, исторической и национальной специфики используют для элементарного нежелания решать современные задачи.
Но в ряде случаев это критически важно, наиболее ярким примером чего является налоговая политика. В большинстве стран Западной Европы и Северной Америки сложилась мощная, уходящая корнями в прошлое система «демократии налогоплательщика». Она основана на своеобразном контракте налогоплательщиков (в истории это не всегда было все население) с государством: мы обеспечиваем вас деньгами, а вы нас – набором услуг (политического, военного, социального, экономического характера). В такой системе взаимоотношений вполне естественна дискуссия-торг – если государство получает больше отчислений, то оно предоставляет услуги большие по объему или более высокого качества, а если больше средств остается у налогоплательщиков, то они, соответственно, меньше ожидают от родного правительства. Это грубая схема, но суть ситуации она выражает вполне адекватно.
В силу ряда исторических причин демократия налогоплательщика в России не возникла. По моему мнению, отношение к налоговой системе в нашей стране уходит корнями в татаро-монгольскую эпоху, когда раз в год в русские города и села приезжали баскаки для получения отчислений (дани) ордынскому хану.
Здесь тоже налицо услуга ордынского государства, но только одна – получить свое и не требовать больше поборов в течение года. Естественно, никакой торговли вокруг движения ставки вверх или вниз при таких обстоятельствах быть уже не может: ставка должна быть как можно меньше, но такой, чтобы хану до следующего года средств хватило. Если здесь и возникает торг, то со стороны плательщика только в одной форме – утаивать добро от сборщиков дани.
Это тоже грубая картина, но никак не менее адекватная, чем «демократия налогоплательщика».
Доминирование типа технологий и соответствующих институтов – это еще один фактор, важный при определении долгосрочных тенденций. Нынешняя эпоха в силу особенностей современной технологической базы является эпохой торжества экономического либерализма, как бы ни относились к нему политики и избиратели.
Дело здесь, разумеется, не в абсолютном и окончательном торжестве либерализма, а в том, что нынешний уровень развития производительных сил и соответствующие ему модели успешных модернизаций опираются в основном или на либеральную экономическую политику (как в развитых странах Запада), или несут в себе тенденцию к либерализации.
Экономический либерализм, таким образом, оказывается важным фактором успешного осуществления модернизационных проектов в современном мире. Однако он отнюдь не тождествен либерализму политическому. Политический либерализм является философской доктриной, объясняющей определенным образом предпочтительные механизмы функционирования человеческого общества, и в этом смысле имеет вневременной характер – во всякие эпохи существуют люди, придерживающиеся этой идеологии. Напротив, экономический либерализм осуществляется на практике только на определенных исторических этапах. Обычно это происходит тогда, когда резко возрастает неопределенность путей дальнейшего развития общества, когда происходит существенная динамизация его производственной базы. Так было в конце XVIII в. – первой половине XIX в., когда, собственно, и возник современный экономический либерализм. Аналогично обстоят дела и в наше время, когда ускорение технологического прогресса, вступление мира в постиндустриальную эпоху вновь делает развитие крайне неустойчивым и очень плохо прогнозируемым, а потому либеральные рецепты становятся более адекватными. (Но это отнюдь не означает вневременного торжества либерализма.)
Экономический либерализм победит, но не навсегда, а только в условиях вызовов современного постиндустриального общества.
Мы не знаем точного рецепта решения модернизационных проблем. Можно только сказать, что каждый успешный модернизационный проект уникален, т. е. предполагает способность политических лидеров и интеллектуальной элиты найти те ключевые решения, которые обеспечат искомый прорыв в данной стране и в данную эпоху<…>».
7. Опираясь на текст Указа Президента РФ, постарайтесь определить характер событий сентября – октября 1993 г. и возможные альтернативы выхода их политического кризиса.
Из Указа Президента РФ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» // Россия, которую мы не знали. Челябинск, 1995. С. 384–385.
21 сентября 1993 г.
В Российской Федерации сложилась ситуация, угрожающая государственной и общественной безопасности страны. Прямое противодействие осуществлению социально-экономических реформ, открытая и повседневно осуществляемая в Верховном Совете обструкция политики всенародно избранного Президента Российской Федерации, попытки непосредственного осуществления функций исполнительной власти вместо Совета Министров со всей очевидностью свидетельствуют о том, что большинство в Верховном Совете Российской Федерации и часть его руководства открыто пошли на прямое попрание воли российского народа, выраженной на референдуме 25 апреля 1993 г. Основываясь на статьях 1, 2, 5, 121 Конституции РФ, итогах референдума 25 апреля 1993 года, постановляю:
Прервать осуществление законодательной, распорядительной
и контрольной функции Съездом народных депутатов РФ и Верховным Советом РФ. До начала работы нового двухпалатного парламента РФ и принятия им на себя соответствующих полномочий руководствоваться указами Президента и постановлениями правительства РФ.
Конституционной комиссии и Конституционному совещанию
представить к 12 декабря 1993 года единый согласованный проект
Конституции РФ. <...>
Назначить выборы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ на 11 – 12 декабря 1993 г. <...>
- Заседания Съезда народных депутатов РФ не созываются. Полномочия народных депутатов РФ прекращаются. <...>. Прошу граждан России поддержать своего Президента в это переломное для судьбы страны время.
Президент Российской Федерации Б. Ельцин
8. Используя приведенные ниже документы, проанализируйте основные цивилизационные вызовы России в 1990-е гг.
Определите правомерность решений, принятых в отношении Чеченской республики. Существовали ли, на ваш взгляд, иные варианты развития событий? Каково современное состояние проблемы территориальной целостности РФ?
«<…> 3 ноября 1994 г. была создана особая правительственная группа для ведения переговоров с противоборствующими сторонами в ЧР во главе с В. Михайловым. Переговоры, проходившие во Владикавказе с 11 по 14 ноября, прошли безрезультатно, поскольку чеченская сторона потребовала в качестве первоочередного шага от Москвы признания независимости Чечни. И 29 ноября 1994 г. Президент РФ Б. Н. Ельцин обратился к участникам вооруженного конфликта в регионе с требованием в течение 48 часов прекратить огонь, сложить оружие, распустить вооруженные формирования и освободить всех заключенных, в ином случае предполагалось, что “на территории Чечни будут использоваться все имеющиеся средства и силы для прекращения кровопролития...”. После истечения срока ультиматума, когда оппозиция приступила к сдаче вооружений, премьер-министр Правительства B. C. Черномырдин заявил, что “Москва все еще готова к переговорам с представителями Дудаева”.
30 ноября 1994 г. Б. Н. Ельцин подписал Указ № 2134с “О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории ЧР”, в соответствии с которым:
– в Чечне вводилось особое положение;
– закрывались границы республики;
– водился особый режим въезда и выезда,
– создавалась группа руководства действиями по разоружению и ликвидации вооруженных формирований, введению и поддержанию режима ЧП на территории ЧР. Одна из ее задач состояла в создании Объединенной группировки войск.
Указ Президента РФ за номером 2137с от 30.11.94 г. являлся секретным указом (об этом говорит ремарка “с” в номере). Его секретность была снята в июне 1995 г. в результате отмены действия данного указа. Известный спор СФ России по поводу данного акта Президента основывался на той юридической (конституционной норме), согласно которой в РФ все указы Президента страны вступают в силу только после их опубликования и в ином случае не подлежат исполнению, поскольку секретность такого рода актов затрагивают вопрос о правах о правах человека и гражданина. В этом смысле действия Президента РФ в момент подписания данного акта были антиконституционны.
9 декабря 1994 г. был издан президентский Указ № 2166 “О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории ЧР и в зоне осетино-ингушского конфликта”. Президент поручал правительству России использовать “все имеющиеся у государства средства” для наведения в Чечне конституционного порядка. Противостоящая федеральному центру сторона де-факто объявлялась “вне закона”, в результате чего Кремль мог (по определению оппозиции Б. Н. Ельцину) действовать в республике “вне Основного Закона и действующего законодательства”.
11 декабря 1994 г. Указ № 2137с был отменен секретным Указом № 2169с, продолжая de facto действовать, учитывая сохранение юридической силы Постановления Правительства № 1360.
С вводом федеральной армии на территорию Чеченской республики история российско-чеченского кризиса вступила в новую стадию своего развития, характеризуемую обострением и ужесточением военно-политического и социально-экономического противостояния. Начался второй этап российско-чеченских отношений на протяжении 1990–1996 гг. и существования режима Дудаева (1991–1996 гг.), которые закончились событиями в Буденновске в июне 1995 г.
Военная операция в Чечне началась 11 декабря 1994 г., что сразу внесло коррективы в сроки ее исполнения и повлияло на дальнейший ход событий; на территории Ингушетии группы населения блокировали маршруты следования федеральных войск, обстреливаемых чеченскими боевиками. Приказ открывать ответный огонь российские войска получили только 18 декабря 1994 г. 26 декабря максимально возможное в неблагоприятных для Центра условиях блокирование Грозного было завершено. К этому времени в столице Чечни сосредоточились основные силы Д. М. Дудаева, по данным военной разведки они составляли до 15 тысяч профессиональных боевиков из числа 40-50 тысяч ополченцев Народной Армии ЧРИ. Федеральные войска грозненской группировки в числе групп “Север”, “Северо-восток”, “Запад” и “Восток” насчитывали не более 5 тысяч солдат и офицеров.
Главный расчет операции строился на внезапности штурма столицы Чечне. Атака Грозного 31 декабря 1994 г. оказалась для сил Дудаева действительно неожиданной; российские войска, преодолевая упорное сопротивление лучших отрядов боевиков – “абхазского” и “мусульманского” батальонов и бригады “специального назначения”, занявших круговую оборону в центре Грозного, на подступах к президентскому дворцу, вошли в город ценой многочисленных потерь в личном составе и бронетехнике. Бои за столицу Ичкерии отличались жестокостью и упорством сопротивления сепаратистов, в результате чего только 21 февраля 1995 г. столица ЧР была очищена от отрядов Дудаева, остатки которых были окружены в районах Алды и Черноречье и уничтожены. По мере разгрома и выдавливания отрядов сепаратистов из населенных пунктов в районе Грозного ответственность за поддержание порядка брали на себя силы МВД РФ.
По анализу военных экспертов, в ходе подготовки и проведения операции был допущен ряд серьезных ошибок и просчетов, к которым относят:
1. Планирование операции без учета наличия у Дудаева регулярной профессиональной и хорошо вооруженной армии в составе 40–50 тысяч человек.
2. Отсутствие политико-пропагандистского обеспечения операции по урегулированию кризиса среди местного населения, жесткий моральный прессинг на федеральные структуры со стороны СМИ.
3. Не укомплектованность частей и подразделений РА, низкий технический уровень ее материальной части.
- Создание Объединенного командования силовых ведомств (Грачев, Ерин, Степашин, Егоров) и отсутствие координации их усилий.
- Недостаточная проработанность операции в стратегическом и тактическом отношении, излишне сжатые сроки планирования, отсутствие полной блокады региона, особенно с юга, невозможность использования высокоточного оружия по погодным условиям, отсутствие разведывательных данных на момент проведения операций.
С начала чеченской операции до апреля 1995 г., т.е. за первый период активных военных действий в республике, федеральные войска потеряли убитыми, по официальным данным, 1426 и ранеными 4630 военнослужащих. Число жертв среди мирного населения было неизвестно. Позднее официальные структуры назвали число погибших мирных жителей только в Грозном – 24,5 тысяч человек (из установленных лиц).
<…> С 0 часов 31 марта 1996 г. федеральные войска на территории Чечни прекращали все военные действия.
<…> В ночь с 11 на 12 августа в районе с. Новые Атаги А. Лебедь встретился с А. Масхадовым, министром информации сепаратистов М. Удуговым, лидером “Союза мусульман России“ Надыром Хачилаевым и муфтием Чечни Ахмадом Кадыровым. А. Лебедь и А. Масхадов высказались за принятие реальных мер по урегулированию ситуации. При этом А. Масхадов подчеркнул, что проблема может быть решена в интересах России. А. Лебедь выступил за укрепление государственной власти в Чечне и в резкой форме осудил действия Д. Завгаева, которому, тем не менее, была вновь гарантирована поддержка Кремля. Общим итогом Совещания СБ стала “оптимистическая оценка” (С. Степашин) операции по завершению очистки Грозного от боевиков. В ходе последующей встречи в с. Новые Атаги А. Лебедя с 3. Яндарбиевым было объявлено о создании наблюдательной комиссии за выполнением условий по прекращению огня.
22 августа 1996 г. в главном штабе сепаратистов в с. Новые Атаги состоялся второй раунд переговоров между секретарем СБ и А. Масхадовым. Стороны обсудили технические вопросы разведения войск в Грозном и договорились не использовать в переговорах язык ультиматумов. В соответствии с подписанными соглашениями создавались совместные военные комендатуры федеральных сил и сепаратистов. В районах Грозного планировалось сформировать совместные группы для патрулирования (30 военнослужащих и 30 вооруженных сепаратистов в одной группе). В итоге переговоров военные действия были приостановлены, хотя было ясно, что руководство ЧР и командование ОГФС ситуацией полностью не владеет. Вслед за этим начался вывод из Грозного частей и подразделений федеральных войск и отрядов сепаратистов. Одновременно А. Лебедь представил Президенту РФ план по урегулированию чеченского кризиса и отчет о своей деятельности в Грозном. Предлагаемые им (неординарные) меры “не все восприняли с восторгом” (А. Лебедь). Ход событий подтвердил “предчувствия” генерала.
Вооруженная оппозиция создала в Грозном собственные властные структуры, не предусмотренные соглашениями: мэрию, ее службы и ведомства, которые возглавил Л. Дудаев (племянник Д. Дудаева). Среди боевиков началась борьба за доминирование в Гудермесе.
В общей сложности к 31 августа 1996 г. из Грозного было выведено около 4 тысяч военнослужащих, из горных районов было отведено 4200 солдат и офицеров и 400 единиц бронетехники. Перед федеральными войсками была поставлена задача к 1 сентября полностью демилитаризовать Грозный, который покинуло до 4-х тысяч сепаратистов, перебазировавшихся в с. Новогрозненское, Аллерой и ст. Ассиновская. В городе осталось около 1500 боевиков.
Таким образом, факт обострения военно-политической ситуации в Чечне в конце лета 1996 г., значительная активизация действий “непримиримых” боевиков (эскалация вооруженного насилия в республике) неминуемо привел российское руководство к пониманию необходимости достижения определенного социально-политического компромисса с руководством сепаратистов Ичкерии. Показателем этого явилось последующее заключение договора по блоку военно-политических вопросов осенью 1996 г. То есть обострение военной обстановки в республике в означенный временной период и социальные следствия им вызванные субъективно подтолкнули правительства обеих сторон к возобновлению переговорного процесса. Значительную личную роль в подписании заключительного блока военно-политических соглашений по Чечне (хасавюртовские соглашения), предшествующего ноябрьской встрече 1996 г. в Кремле, сыграли секретарь СБ РФ А. И. Лебедь и начальник штаба ВС сепаратистов А. Масхадов. В этом видится значение особого выделения вопросов: этапа обострения военного (последнего по данным 1998 г.) российско-чеченского противостояния и роли личностей, определявших развитие ситуации в регионе (А. Лебедя и А. Масхадова).
Итак, 1 сентября 1996 г. в Хасавюрте между секретарем СБ А. Лебедем и начальником штаба сил вооруженной оппозиции А. Масхадовым были подписаны известные соглашения, означающие переход от выполнения ранее достигнутых военных обязательств к этапу политических договоренностей. Хасавюртовское соглашение подразумевало создание совместного органа для практической работы (п. 2), организации продовольственной, материальной и медицинской помощи населению, подготовки к зиме и т. д. Совместная администрация должна была заняться обеспечением условий для проведения референдума и выборов, изучением вопроса о статусе ЧР. Законодательство ЧР должно было основываться на “соблюдении прав человека и гражданина, праве народов на самоопределение, принципах равноправия народов, обеспечении мира, межнационального согласия и безопасности проживающих на территории ЧР граждан, независимо от национальной принадлежности, вероисповедания и иных различий” (п. 3).
Соглашение носило явно компромиссный характер: сепаратисты признали, что их борьба закончилась поражением; федеральные силы признали, что боевики представляют собой законную сторону и что в будущем независимый статус Чечни не исключен. Федеральный центр проиграл больше, чем сепаратисты, получив 5 лет отсрочки вместо 10-ти и отсутствие упоминания о статусе республики как субъекта РФ. По мнению ряда аналитиков Лебедь пошел по “самому легкому пути”, прекратив войну с сепаратистами, отдав им власть и “предав” правительство Д. Завгаева. Но альтернативой шагу А. Лебедя могло стать лишь продолжение войны и полный военный разгром сепаратистов.
Договор предусматривал полный вывод федеральных войск к 1 октября 1996 г., создание комиссии по восстановлению экономики, координацию работы по борьбе с преступностью и терроризмом. Соглашениями предусматривалась демилитаризация Чечни, обмен пленными и незаконно удерживаемыми лицами по принципу “всех на всех”. Последний пункт чеченской стороной выполнен не был: боевики обменивали пленных только один к одному.
Факт переговоров А. Лебедя с сепаратистами означал их признание в качестве единственной силы, способной повлиять на ситуацию в ЧР. Вывод войск из Грозного был предопределен всем ходом “странной войны”. Хасавюртовские соглашения не дали ответа на целый ряд важных вопросов, в том числе на то, кто должен находиться у власти в Чечне до создания новых органов управления. В любом из возможных вариантов трактовки событий неоспоримо то, что Москва продемонстрировала решимость забыть о Завгаеве. По мнению самого Д. Завгаева ситуация в ЧР после подписания Хасавюртовских соглашений определялась так называемым “комплексом победителей”, то есть шло сведение счетов со сторонниками Москвы, форсировалось выделение из состава России, блокировались федеральные войска, обострилась криминальная обстановка; Чечня стала, по образному выражению СМИ, “черной дырой”, через которую незаконно прокачивалась нефть, криминальные капиталы, наркотики, оружие; вооруженные чеченские отряды готовились к проникновению на территорию России с целью проведения терактов. Отказ Москвы от проведения политики силы означал, по мнению правительства Д. Завгаева, и отказ от контроля над ситуацией, от принципа территориальной целостности России, так как отношения РФ с ЧР по хасавюртовским соглашениям должны были определяться не Конституцией России, а нормами международного права, поставленными тем самым выше Основного Закона страны.
Одним из самых сложных вопросов чеченского кризиса, который поднял проблему подписания хасавюртовских соглашений, был вопрос о том, кто в результате продолжения конфликта выигрывал, а кто проигрывал (или проиграл), то есть опровержение или подтверждение утверждения “пораженцев” (“партии мира”) о “поражении России в войне в Чечне”. Ряд исследователей, гипотетически, допускает, что Россия проиграла первую компанию в “геополитической русско-турецкой войне”, строя свои утверждения на известных изменениях в мировой политике и международном положении вслед за распадом СССР и оценке характера переговорного процесса между Россией и Чеченской республикой, в рамках которого речь шла о “сложении российского оружия” перед сепаратистами.
Основным тезисом с российской стороны на переговорах было “замораживание ситуации”. При жизни Д. Дудаева чеченское руководство ни под каким давлением не шло на разоружение, выигрывая время, используя мирные переговоры для укрепления позиций режима, восстановления разбитой армии, захвата новых опорных пунктов, откуда весной 1996 г. их “выбили” российские войска, но Д. Дудаев по-прежнему диктовал населению свои условия, определяя ход формирования властных структур и характер отношений с федеральными органами. Ставка командования “республики Ичкерия” провозгласила, что “Россия войну Чечне проиграла”. Российская сторона опровергала эти слова вопросом, типа: “Что обрел чеченский народ в итоге поражения России?” – “огромные человеческие жертвы, разрушения, которые могли бы окупиться после освобождения от уголовного режима, началом восстановления экономики и нормализации социально-экономического положения”. Но режим устойчиво сохранял свои позиции и после гибели Д. Дудаева. Ставшее пресловутым “замораживание ситуации” в Чечне в 1996 г., было выгодно силам, заинтересованным в дестабилизации данного региона. Данная ситуация возникла по той причине, что Чечня оказалась в промежуточном положении: ни мира, ни войны; ни суверенитета, ни поддержания status quo в рамках Российской Федерации; административный, прокурорский, таможенный, налоговый досмотр отсутствовал <…>».
Из работы А. Нуйкина // Нуйкин А. Испытание Чечней. М., 1996.
9. Проанализировав приведенные ниже документы, попытайтесь определить информационную насыщенность и репрезентативность такого вида источников, как периодическая печать. Можно ли получить объективную информацию об эпохе, руководствуясь материалами прессы?
Из монографии Воронцова В. А. В коридорах безвластия (Премьеры Ельцина). М.: Академический проект, 2006. С. 1061-1065.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
«<…>Достаточно открыть любую газету, а еще лучше сразу несколько газет, чтобы убедиться в отсутствии у людей хотя бы остатков уважения к когда-то вроде бы всенародно избранному Главе государства. Привожу без комментариев выдержки из нескольких всероссийских газет всего за последние два месяца» (май—июнь 1999 г.).
А) «Абсолютное большинство избирателей сочло бы за благо немедленный уход Ельцина с его поста. Никогда еще не было столь очевидного разрыва между интересами общества и интересами тех, кто им реально руководит. Семейный круг Ельцина и демократия – не одно и то же. Цель кремлевской команды – властная экспансия даже ценой экономических и политических потрясений. Она мыслит в категориях («убрать Примакова», «замочить Лужкова», «разогнать Думу и компартию») абсолютно контрпродуктивно с точки зрения интересов общественной стабильности» (Известия, 25 мая 1999 г.) <…>.
Б) «Демократия в России кончилась... И процесс формирования пятого пореформенного российского Правительства – последнее доказательство этого... Все знают, кто во всем виноват, и не делают различий между Немцовым и Ельциным, Борисом Абрамовичем и Романом Абрамовичем, Кириенко и Гусинским. Жалеют Примакова. Слушают Зюганова. Голосование в результате – протестное. Все, что происходит – это Большая Подстава. Подставили демократию и либерализм, подставили правых и реформаторов. От этих понятий остались одни ярлыки, оболочки, за которыми – пустота. И дело не в том, что народ «полевел»... Просто ему не нравятся те, кто возвел равнодушие в ранг национальной идеи. Чтобы объяснить народу, кто на самом деле виноват, придется менять язык (в частности, с отменой слова «демократия») и фамилии» (Известия, 28 мая 1999 г.) <…>.
В) «К возможности избрания Ельцина на третий срок все здравомыслящие люди относятся как к байке из русских народных сказок. Проблема лишь в том, что понятия «здравомыслие» и «Кремль» в последнее время – антонимы... Цена, которую Ельцин и компания заплатили за создание марионеточного Правительства, крайне высока. От и без того подмоченной репутации президентского семейства теперь и вовсе остались одни обломки. Следовательно, обитатели резиденции могут рассчитывать лишь на поддержку людей типа Абрамовича и Аксененко. Абсолютно не факт, что г-н Аксененко и его присные смогут управлять страной. Если бы Аксененко получил полную волю, то Белый дом представлял бы собой еще более жалкое зрелище. Даже если Бориса Николаевича удастся сохранить в Кремле и после лета 2000 г., третий срок все равно не продлится долго. Так что, как бы к этому ни относились в Кремле, конец эры Ельцина уже виден невооруженным глазом. Вопрос лишь в том, что к этому времени останется от страны...» (Московский комсомолец, 2 июня 1999 г.) <…>».
10. На основе данных представленных ниже таблиц реконструируйте социальную структуру российского общества и имущественное положение граждан в 1990-х гг.
Таблица 5
Вы и Ваша семья стали жить лучше
по сравнению с прошлым годом или хуже?
(в % от числа опрошенных)
| Вариант ответа | 1990 г. | 1994 г. | 1998 г. | 2002 г. |
| Стали жить лучше | 13,6 | 21,0 | 15,2 | 25,1 |
| Ничего не изменилось | 31,4 | 35,9 | 33,4 | 47,6 |
| Стали жить хуже | 50,0 | 42,5 | 50,0 | 25,2 |
| Не знаю, отказ от ответа | 5,0 | 0,6 | 2,5 | 2,1 |
Источник: Куда пришла Россия?.. Итоги социетальной трансформации / Под общ. ред. Т. И. Заславской. – М.: МВШСЭН, 2003. – С. 121.
Таблица 6
Какое из приведенных высказываний лучше подходит для характеристики Вашего материального положения?
(в % от общего числа опрошенных в каждом году)
| Вариант ответа | 1994 | 1998 | 2002 | Социальный слой |
| Денег до зарплаты не хватает, приходиться занимать | 6,9 | 24,2 | 15,2 | «Нищие» |
| На повседневные затраты уходит вся зарплата | 31,0 | 29,0 | 24,3 | «Бедные» |
| На повседневные нужды хватает, но покупка одежды затруднительна | 28,9 | 20,5 | 27,2 | «Необеспеченные» |
| В основном хватает, но для покупки дорогостоящих предметов нужно брать в долг | 22,4 | 14,4 | 22,0 | «Обеспеченные» |
| Почти на все хватает, но недоступны приобретение квартиры, дачи | 6,7 | 9,5 | 10,5 | «Зажиточные» |
| Практически ни в чем себе не отказываем | 1,1 | 1,4 | 0,8 | «Богатые» |
| Не знаю, отказ от ответа | 3,0 | 1,0 | – | |
Источник: Куда пришла Россия?.. Итоги социетальной трансформации / Под общ. ред. Т. И. Заславской. – М.: МВШСЭН, 2003. – С. 122.
11. На основе данных представленной ниже таблицы сделайте вывод о влиянии возраста на социально-экономические предпочтения населения России.
Таблица 7
Предпочитаемый тип экономики
(в % от числа сделавших определенный выбор)
| Что бы Вы выбрали лично для себя | Возраст (число лет) | ||||||
| До 19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60 и старше | |
| 1998 г. | |||||||
| Рыночную экономику | 90,2 | 75,3 | 71,8 | 45,8 | 43,1 | 19,6 | 26,4 |
| Плановую экономику | 9,8 | 24,7 | 28,2 | 54,2 | 56,9 | 80,4 | 73,6 |
| 2002 г. | |||||||
| Рыночную экономику | 88,0 | 79,7 | 72,4 | 53,9 | 34,4 | 36,2 | 16,8 |
| Плановую экономику | 12,0 | 20,3 | 27,6 | 46,1 | 65,6 | 63,8 | 83,2 |
Источник: Куда пришла Россия?.. Итоги социетальной трансформации / Под общ. ред. Т. И. Заславской. – М.: МВШСЭН, 2003. – С. 124.
12. На основе графических данных сделайте вывод о результатах и перспективах развития малого и среднего бизнеса в России.
График 1
Рост числа малых предприятий
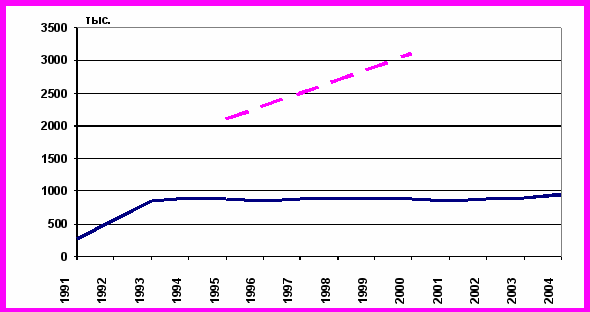
– – – – – – – В Польше в 1995–2000 гг.
—————— В России в 1991–2004 гг.
(без учета так называемых «индивидуалов»-ПБОЮЛов)
Источник: Левин И. Б. Невыученные уроки перестройки // Пути России: двадцать лет перемен / Под общ. ред. Т. Е. Ворожейкиной. – М.: МВШСЭН, 2005. – С. 134.
Источники
- Гайдар, Е. Т. Дни поражений и побед / Е. Т. Гайдар. – М., 1996.
- Ельцин, Б. Н. Записки президента / Б. Н. Ельцин. – М., 1994.
- Ельцин, Б. Н. Президентский марафон / Б. Н. Ельцин. – М., 2000.
- Конституция Российской Федерации. – М., 1993.
- Концепция внешней политики РФ // Независимая газета. – 2000. – 11 июля.
- Коржаков, А. В. Борис Ельцин: от рассвета до заката / А. В. Коржаков. – М., 1997.
- Внешнеэкономическая деятельность государств Содружества. Стат. сборник. – М., 1999.
- Содружество Независимых государств в 2000 г. Стат. справочник. – М., 2001.
Основная литература по теме:
1. Березовая, Л. Г., Берлякова, Н. П. История русской культуры: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2х ч. / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. – Ч.2. – М., 2002.
2. История России ХХ – начала ХХI века / А. С. Барсенков, А. И. Вдовин, С. В. Воронкова; под ред. Л. В. Милова. – М., 2006.
3. Хроника России. ХХ век. – Москва, 2002.
Дополнительная литература:
- «Номенклатурный либерализм» – государство нового типа // Новое время. – 1997. – № 6.
- 21 сентября – 4 октября 1993 г.: Хроника и оценка событий // Наш современник. – 1993. – № 11.
- Апресян, Р. Г., Гусейнов, А. А. Демократия и гражданство / Р. Г. Апресян, А. А. Гусейнов // Вопросы философии. – 1996. – №7.
- Барсенков, А. С. Политическая Россия сегодня / А. С. Барсенков. – М., 1993.
- Белоусов, А. Р. Экономика России в условиях депрессивной стабилизации (1994–1996 гг.) / А. Р. Белоусов // Вестник Московского университета. – Сер. 6. – Экономика. – 1996. – № 6.
- Березовский, В. Н., Червяков, В. В. Осенний политический кризис. 22 сентября – 5 октября 1993 г. / В. Н. Березовский, В. В. Червяков // Свободная мысль. – 1993. – № 15.
- Боффа, Дж. От СССР к России: История неоконченного кризиса, 1964–1994 Дж. Боффа. – М., 1996.
- Бузгалин, А. В. Переходная экономика / А. В. Бузгалин. – М., 1994.
- Вартанова, Е. Медиа в постсоветской России: их структура и влияние / Е. Вартанова // Российское общество и СМИ // Pro et Contra. – 2000. – осень.
- Вишневский, А. Г. Модернизация и контрмодернизация: чья возьмет? // Куда пришла Россия?.. Итоги социетальной трансформации / Под общ. ред. Т. И. Заславской / А. Г. Вишневский. – М., 2003.
- Вишневский, Б. Л. Ключевые признаки российского политического режима / Б. Л. Вишневский // Пути России: двадцать лет перемен / Под общ. ред. Т. Е. Ворожейкиной. – М., 2005.
- Внешняя политика и безопасность современной России. Хрестоматия в 2-х т. – М., 1999.
- Волков, В. Российская экономика в 1997 г. / В. Волков // Экономист. – 1998. – № 3.
- Волков, В. Российская экономика в 1999 г. / В. Волков // Экономист. – 1999. – № 12.
- Волков, В. Российская экономика: третий год реформ / В. Волков // Экономист. – 1995. – № 2.
- Воронцов, В. А. В коридорах безвластия (Премьеры Ельцина) / В. А. Воронцов. – М., 2006.
- Жуков, В. И., Прохоров, В. Л. Взгляд на Россию первой половины 90-х гг. (политический анализ) / В. И. Жуков, В. Л. Прохоров // Социс. – 1996. – № 6.
- Жуков, С. Россия: экономическое развитие и императивы глобализации / С. Жуков // МЭМО. – 1999. – № 1.
- Журавлев, В. В. Исторические корни современных российских реформ / В. В. Журавлев // Куда пришла Россия?.. Итоги социетальной трансформации / Под общ. ред. Т. И. Заславской. – М., 2003.
- Илларионов, А. Основные тенденции развития мировой экономики во второй половине ХХ века / А. Илларионов // Вопросы экономики. – 1997. – № 10.
- Илларионов, А. Экономическая политика в условиях открытой экономики со значительным сырьевым сектором / А. Илларионов // Вопросы экономики. – 2001. – № 4.
- Иноземцев, В. Л. Собственность в постиндустриальном обществе в исторической ретроспективе / В. Л. Иноземцев // Вопросы философии. – 2000. – № 12.
- История России. Курс лекций. Часть 3. ХХ век. Выбор моделей общественного развития. – М., 1994.
- Клямкин, И. М., Лапкин, В. В., Пантин, В. И. Политический курс Ельцина: предварительные итоги / И. М. Клямкин, В. В. Лапкин, В. И. Пантин // Полис: Политические исследования. – 1994. – № 3.
- Кобринская, И. Я. Внешняя и внутренняя политика России / И. Я. Кобринская // Международная жизнь. – 1993. – № 9.
- Колганов, А. К вопросу о власти кланово-корпоративных групп в России / А. Колганов // Вопросы экономики. – 2000. – № 6.
- Королев, И. Интеграция России в мировую экономику / И. Королев // Внешняя политика России 1991–2000. // Pro et Contra. – 2001. – Ч.1.
- Кортунов, А. В. Дезинтеграция Советского Союза и политика США / А. В. Кортунов. – М., 1993.
- Косолапов, Н. Становление субъекта российской внешней политики / Н. Косолапов // Внешняя политика России 1991–2000 гг. // Pro et Contra. – 2001. – Ч.1.
- Косолапов, Н. А. «Российский капитализм»: альтернативы на старте / Н. А. Косолапов // Пути России: существующие ограничения и возможные варианты / Под общ. ред. Т. Е. Ворожейкиной. – М., 2004.
- Косолапов, Н. А. Россия: внешняя политика в глобализирующемся мире (1990–2002) / Н. А. Косолапов // Куда пришла Россия?.. Итоги социетальной трансформации / Под общ. ред. Т. И. Заславской. – М., 2003.
- Кувалдин, В. Б. Россия – уникум «возвратного» капитализма / В. Б. Кувалдин // Пути России: существующие ограничения и возможные варианты / Под общ. ред. Т. Е. Ворожейкиной. – М., 2004.
- Культурология. ХХ век: Энциклопедия: В 2 т. – СПб., 1998.
- Куранов, Г., Волков, В. Российская экономика (январь-май 1998 г.) / Г. Куранов, В. Волков // Экономист. – 1998. – № 8.
- Лацис, О. Р. Монополия власти: борьба «за» и «против» на рубеже веков / О. Р. Лацис // Куда пришла Россия?.. Итоги социетальной трансформации / Под общ. ред. Т. И. Заславской. – М., 2003.
- Лейдерман, Н. Л., Липовецкий, М. Н. Современная русская литература: 1953–1990-е годы: Учеб. пособие: В 2-х т. / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий. – Т.1. – М., 2003.
- Малеева, Т. М. Социальная политика и социальные страты в современной России / Т. М. Малеева // Куда пришла Россия?.. Итоги социетальной трансформации / Под общ. ред. Т. И. Заславской. – М., 2003.
- Мау, В. Экономическая политика России: в начале новой фазы / В. Мау // Вопросы экономики. – 2001. – № 3.
- Мау, В. А. Экономические реформы в России: итоги и перспективы / В. А. Мау // Куда пришла Россия?.. Итоги социетальной трансформации / Под общ. ред. Т. И. Заславской. – М., 2003.
- Млечин, Л. Кремль. Президенты России: стратегия власти от Б. Н. Ельцина до В. В. Путина / Л. Млечин. – М., 2002.
- Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 1995 г. и задачах на 1996 г. // Экономика и жизнь. – 1996. – № 17 (апрель).
- Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 1996 г. и задачах на 1997 г. // Право и экономика. – 1997. – № 7-8.
- Осипов, Г. В., Андреев, Э. М. Современные российские реформы: опыт социологической экспертизы / Г. В. Осипов, Э. М. Андреев // Социально-политический журнал. – 1995. – № 1.
- От реформ к стабилизации... Внешняя, военная и экономическая политика России. – М., 1995.
- Петров, К. М. Идеология и культура советского и постсоветского периода // Петров, К. М. Экология человека и культура. – СПб., 1999.
- Петров, Н. Федерализм по-российски / Н. Петров // Центр и регионы России // Pro et Contra. – 2000.
- Приватизация по-российски / Под ред. А. Б. Чубайса. – М., 1997.
- Проблемы глобализации // Pro et Contra. – 1999, осень.
- Регионы России в 1998 г. – М., 1999.
- Россия – Чечня: цепь ошибок и преступлений. – М., 1998.
- Россия в условиях трансформаций. – Вып. 6. – М., 2000; Вып. 7. – М., 2001.
- Россия и СНГ: неудавшийся брак по расчету // Внешняя политика России 1991–2000 гг. – Pro et Contra. – 2001. – Ч.1.
- Россия сегодня: Политический портрет в документах. Кн.2. (1991–1992). – М., 1993.
- Россия: государственные приоритеты и национальные интересы. – М., 2000.
- Россия: изменения в социальной структуре общества // Диалог. – 1995. – № 9.
- Россия: партия, выборы, власть. – М., 1996.
- Сироткин, О. Технологический облик России на рубеже XXI в. / О. Сироткин // Экономист. – 1998. – № 4.
- Согрин, В. В. Либерализм в России: перипетии и перспективы / В. В. Согрин. – М., 1997.
- Согрин, В. В. Политическая история современной России. 1985–2001: от Горбачева до Путина / В. В. Согрин. – М., 2001.
- Степанян, Н. Искусство России ХХ века / Н. Степанян. – М., 2000.
- Тенденции социокультурного развития России 1960-е – 1990-е гг. – М., 1996.
- Титков, А. С. Россия 2000-х годов: новая партийная система, новая политическая география / А. С, Титков // Пути России: существующие ограничения и возможные варианты / Под общ. ред. Т. Е. Ворожейкиной. – М., 2004.
- Флиер, А. Я. О новой культурной политике России / А. Я. Флиер // Общественные науки и современность. – 1994. – № 5.
- Фурман, Д. Е. Политическая система современной России / Д. Е. Фурман // Куда пришла Россия?.. Итоги социетальной трансформации / Под общ. ред. Т. И. Заславской. – М., 2003.
- Чернышев, Ю. Г. «Реанимация империи» и восприятие России на постсоветском пространстве / Ю. Г. Чернышев // Пути России: существующие ограничения и возможные варианты / Под общ. ред. Т. Е. Ворожейкиной. – М., 2004.
- Шевцова, Л. Ф. Режим Бориса Ельцина/ Л. Ф. Шевцова. – М., 1999.
- Экономика переходного периода: очерки истории экономической политики посткоммунистической России / Под ред. Е. Т. Гайдара. 1991–1997. – М., 1998.
Пензенский государственный педагогический
университет имени В. Г. Белинского
Исторический факультет
Гуманитарный учебно-методический
и научно-издательский центр
Ольга Александровна Сухова
РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
(1960-е – начало 2000-х гг.).
Учебно-методическое пособие
Компьютерная верстка А. В. Сухов
План университета 2009 г. (Поз. 2).
Лицензия на издательскую деятельность ЛР №021348 от 18 июля 1999 г.
| Формат 60х84 1/16 Усл.-печ. л. 7,0 Заказ №18/01. | Подписано к печати 15.02.2009. Печать трафаретная Бумага писчая Тираж 300 экз. |
Редакционно-издательский совет исторического факультета
ПГПУ им. В. Г. Белинского
440026, г. Пенза, ул. К. Маркса,4.
Исторический факультет, корп. № 6, каб. № 5. Тел.: 8 (412) 68-88-66. РИС.
Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии ПГПУ
имени В. Г. Белинского
