© 2006 г. Т. М. Ажигова 22 Словообразование существительных, мотивированных глаголами, в народно-разговорном языке XVII -xviii вв
| Вид материала | Документы |
Содержание1.2. Функционально-стилистический инвариант языковой системы и его модификации Информационная модель газетно-публицистического стиля II. Стилевые черты |
- © 2006 г. Т. М. Ажигова 6 Словообразование существительных, мотивированных прилагательными,, 3310.67kb.
- А. И. Герцена Способы выражения предикатного актанта в конструкциях с фазовыми глаголами, 47.54kb.
- «Встречаем Новый Год!», 134.8kb.
- Становление синодальной (церковной) историографии старообрядчества: исследования второй, 197.93kb.
- Апокрифические евангелия новозаветной традиции, 329.78kb.
- Задачи урока: Обучающая: в ходе урока: а охарактеризовать международное и внутреннее, 132.77kb.
- Г. В. Белякова словообразовательная категория суффиксальных локативных существительных, 5046.36kb.
- Учебник М. З. Биболетовой «Enjoy English\ 2класс Тема: «Множественное число существительных», 108.72kb.
- Урока истории в седьмом классе на тему: Россия в XVII столетии, 107.99kb.
- В XVII веке Голландия стала образцовой капиталистической страной, 13.08kb.
1.2. Функционально-стилистический инвариант языковой системы и его модификации
В процессе исследования нами были разработаны такие единицы лингвистического и лингводидактического описания языка, как функционально-стилистический инвариант языковой системы и его модификации: а) информационные модели функциональных стилей; б) схемы и модели стилистически дифференцированных текстов; в) модели коммуникативных качеств речи; г) лингвостилистические модели словообразовательных типов.
Понятие инвариантности – одно из основополагающих интердисциплинарных понятий, позволяющее извлекать «из потока вариаций относительно инвариантные сущности» в ряде наук: лингвистике, математике, физике, биологии.
Мы уже писали о том, что обращение к инвариантному и вариативному, заложенным в одной и той же структуре и имплицирующим друг друга, восходит к 70-м гг. XIX в. и продолжает оставаться актуальным в научных исследованиях XX в. Проблемами соотношения инвариантного /вариантного занимался целый ряд ученых (А.Х. Востоков, К.С. Аксаков, Н.П. Некрасов, А.М. Пешковский, Ф.Ф.Фортунатов, А.А. Шахматов, Н.С. Трубецкой, Е. Курилович, Р.О. Якобсон, С.И. Карцевский, Л. Ельмслев, В.Г. Адмони, Дж.. Лакофф, А.В. Бондарко, Перцов Н.В. и др.)
Наиболее детально тема инвариантности раскрыта в работе Н.В. Перцова «Инварианты в русском словоизменении», в которой автор решает ряд принципиально важных вопросов: а) какие языковые феномены могут охватываться теорией инвариантности? б) соотношение сильной и слабой ипостасей инварианта; в) вопрос о проявлении инварианта в особой синтаксической и лексической обстановке и др. (Перцов Н.В., 2001).
Сегодня стало уже общепризнанным то, что понятие инвариантности в грамматике связано с фундаментальным теоретическим утверждением – законом совмещения, основанном на совмещении первичных функций языковых знаков, в результате чего возникает вторичная функция, являющаяся вариативной по отношению к первичной функции. Подобное утверждение не лишено изрядной полемичности, поэтому обратимся вначале к пониманию инвариантности в методологическом смысле.
Понятие инвариантности стало одним из важнейших в математике в 1872 году, когда Клеин опубликовал свою знаменитую программу объединения законов геометрии.
Наибольшей популярности идея инвариантного достигла в тот период, когда в 1916 году был сформулирован закон относительности в книге Эйнштейна.
В лингвистике также активизируется разработка идей инвариантности после появления в 1916 году знаменитого курса лекций Ф. де Соссюра, опубликованного его учениками. Общеизвестно, что Соссюр рассматривает относительность как фундаментальную проблему лингвистики.
И конечно же, одна из самых гармоничных лингвистических теорий инвариантности принадлежит Роману Якобсону.
В свое время американский математик Э.Т. Белл так описывал понятие инвариантности: «Полное определение трудно формулировать и вряд ли оно будет ясным, если нам удастся сделать это». Сущность этого понятия представляется в более ясном виде в следующем определении: «Инвариантность – это неизменяемость среди изменений, устойчивость в мире неустойчивости, прочность конфигураций, остающихся одними и теми же вопреки натиску бесчисленных трансформаций» (Bell E.T., 1945). Несмотря на то, что эта трактовка самодостаточна, в определении заложены две прямо противоположные трактовки: во-первых, инвариантность связывается с «общим значением» (неизменяемость среди изменений); во-вторых, инвариант тяготеет к первоначальному варианту, иначе к первичной функции, остающейся неизменной, «вопреки натиску бесчисленных трансформаций», в отличие от модификаций, которые являются вариантами, связанными со вторичными функциями.
Проблема, сформулированная в подобном ракурсе, остается актуальной и в языкознании, где понятие «общее значение» связано с логикой, с использованием в лингвистике родовидовых абстракций, а следовательно, с развитием логико-грамматического направления.
Как известно, логико-грамматическое направление в языкознании, уходящее корнями в греко-латинскую традицию и, в частности в логику Аристотеля, и «исказившее» (иначе это не назовешь) под влиянием более поздних теорий лингвистические идеи ученых – представителей древних цивилизаций, рассматривает слово как понятие, предложение как суждение (пропозицию), сложное предложение и контекст как умозаключение (или исчисление высказываний).
Между тем в «Поэтике» Аристотеля Стагирита части речи (части изложения от звука до речи любых размеров) трактовались как элементы логоса. «Логос» же выступает не как «учение» (подобная формулировка зарождается в средневековой схоластике), а как нечто иное и великое: логос (logos) в древней Греции было многозначным словом и обозначало:
ЛОГОС [др.-греч. λογος слово; понятие; мысль, разум]. 1) человеческое слово вообще; 2) беседа, суждение, пословица, приказ, решение; 3) фантастическая сказка или реалистическое повествование; 4) в драме: диалог действующих лиц; 5) в философии: всеобщий закон, основа мира, мировой разум, которому подчиняются природа и человек, слово Бога; 6) в математике: вычисление, обозначение соотношения, выражающего деление без остатка; 7) в грамматике: изречение.
В «Новейшем словаре иностранных слов и выражений» (М.; Мн., 2002) логос трактуется следующим образом: «1) в др.-греч. материалистической философии (напр. Гераклита) всеобщая закономерность, универсальная осмысленность бытия, отождествленные с первостихией огня; 2) в идеалистической философии (начиная с Платона): духовное первоначало, божественный разум; 3) в стоицизме: эфирно-огненная душа космоса и совокупность формообразующих потенций, от которых в инертной материи зарождаются вещи; 4) в христианстве – второе лицо Троицы» [С. 481].
(Примечание. Данную формулировку мы приводим в «Словаре лингвистических терминов», составленном для студентов и аспирантов, обучающихся по специальности «Филология»).
Анализ понятия логос приводит к мысли о том, что логика в древности – это наука не только о законах мышления, но о языке и речи тоже.
В современных исследованиях происходит синхронизация аристотелевской концепции, связанная с тем, что за точку отсчета берется сегодняшнее представление о грамматике.
И все-таки, несмотря на парадоксы в истории языкознания, логико-грамматическое направление, вобрав в себя концепции древности, а впоследствии и универсальные логические принципы грамматики Пор-Рояля, интенсивно развивалось в XIX – XX вв. Сначала К. Беккер, затем Н.И. Греч, Ф.И. Буслаев и др., позже В.А. Богородицкий, А.А. Шахматов, И.И. Мещанинов, О. Есперсен, представители семантического, коммуникативного и номинативного синтаксиса, логико-математического языкознания. Общеизвестно, что развитие логико-грамматического языкознания порождает формальные грамматики, введенные в лингвистику Н.Хомским и его последователями.
Появившись в XIX веке как антропоцентричное направление, пытавшееся приспособить язык к нуждам человека, логико-грамматическое направление в XX веке предстало как системоцентричный модерн, ориентированный на детальную, полную и непротиворечивую рефлексию языковой системы.
Просуществовав как ведущее направление в языкознании почти до начала третьего тысячелетия, логико-грамматическое направление, вписавшись в триаду «традиция - модерн - постмодерн» (ср. с классической триадой тезис – антитезис - тезис) и сориентировавшись на реабилитацию традиции, интегрировало свои принципы в прагматическое направление, вбирая в себя различные подходы: коммуникативный, когнитивный и др.
И все-таки, насколько бы логико-грамматическое направление ни адаптировалось к условиям развития современной лингвистики, оно продолжает накладывать отпечаток противоречий на различные грамматические понятия, категории.
Однако развитие представлений об иррациональных структурах в языке, рассмотрение языка как превращенной формы подводит исследователей к объяснению инварианта как первичной функции, относительно его вторичных функций. (См. цитируемую выше работу С. Шаумяна).
Так, у Шаумяна определение лингвистического инварианта выводится из закона иерархии функций языкового знака. «первичные синтаксические функции частей речи определяются через синтаксические оппозиции в соединении с законом максимального различия», в соответствии с которым «только те синтаксические оппозиции между частями речи имеют диагностическую силу, которые недвусмысленно характеризуют различие между первичными синтаксическими функциями частей речи». (Шаумян С., С.209). Например, максимальное различие между существительным и глаголом имеет место в синтаксической группе «существительное + личная форма глагола». В этой оппозиции существительное недвусмысленно функционирует в качестве субъекта, а глагол – в качестве предиката. Если же в этой группе существительное употребляется в косвенном падеже, то это означает, что оно выполняет вторичную функцию, являющуюся вариативной по отношению к первичной – инвариантной.
Несмотря на прямо противоположные точки зрения в понимании лингвистического инварианта, в истории языкознания можно выявить несколько этапов исканий, связанных с решением проблемы инвариантности. Два из них были в свое время выделены Р.О. Якобсоном: 1) разработка фонемы как варианта в плоскости звуковых вариаций; 2) установление и истолкование грамматических вариантов.
Особенности третьего этапа, на наш взгляд, наиболее полно охарактеризованы в работах А.В. Бондарко: последовательная ориентация на связь системы языка и системы речи, исполнения и компетенции, стремление к гармонии в лингвистической теории, охватывающей комплекс аспектов структуры и функций.
И, наконец, можно выделить четвертый этап в использовании теории инвариантности, связанный с развитием постмодернистских идей и активизацией исследований, нацеленных на синтез антропоцентричной традиции, адекватно адаптировавшей когда-то идеи и методы науки о языке к человеческим возможностям, и системоцентричного модерна, занимавшего умы на протяжении всего XX века и разработавшего круг задач, предполагающий детальную, полную и непротиворечивую рефлексию языковой системы.
А это означает, что любой постмодернистский конструкт, разработанный с учетом инвариантно-вариативного устройства языковой системы и реабилитирующий традицию, может быть лишь прагматическим, и следовательно, сбалансированным, приспособленным к решению целого ряда задач, в частности, к адекватному описанию языковых значений, форм, функций.
Разработанный нами функционально-стилистический инвариант языковой системы, нашедший применение в решении проблем общего языкознания, в исследованиях по стилистике, культуре речи, лингвистике текста, в сопоставительных исследованиях, в теории и практике составления одноязычных, двуязычных и многоязычных словарей – минимумов, в методике преподавания русского языков, мы трактуем как «абстрактное обозначение одной и той же сущности» в отвлечении от ее конкретных модификаций – вариантов. Он не существует как отдельный предмет. Функционально-стилистический инвариант – это структура с типовым набором компонентов, синтезирующая в себе однородные объекты: информационные модели функциональных стилей (в стилистике), модели коммуникативных качеств речи (в культуре речи), информационные модели текстов (в лингвостилистике текста), схемы и модели СТ (в словообразовании) и т.п. При этом соблюдается своеобразная рядность. У каждого ряда однородных объектов – свой особый инвариант, отражающий особенности той или иной подсистемы.
Функционально-стилистический инвариант может иметь вербальную форму выражения, представленную различными схемами, моделями, образцами.
Инвариант в лингвостилистике выражен при помощи схемы функционального стиля, отражающей типовые отношения в его структуре.
Принцип ее (схемы) построения вытекает из того общего, инвариантного, что заложено в каждом функциональном стиле.
Например:
 Схема стиля опираясь на типовую
Схема стиля опираясь на типовую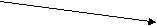
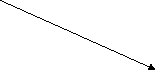
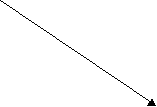 ситуацию общения
ситуацию общенияи стилевые черты,
формирующие стилевую
структуру текста,
при помощи функционально
обусловленного набора
языковых средств
создаем текст
соответствующего стиля
Схема стиля модифицируется в виде информационных моделей функциональных стилей: научного, публицистического, официально-делового, художественного, разговорного.
Информационная модель газетно-публицистического стиля
I. Типовая ситуация общения:
1) особый тип коммуникации – дистантный, ретиальный дискурс: передача сообщения индивидуально-коллективным субъектом массовому рассредоточенному адресату, неизвестному и неопределенному количественно получателю информации; обусловленность коммуникации социокультурной ситуацией и возможность вызывать изменение этой ситуации;
2) основные функции газетно-публицистического стиля:
а) информационная;
б) комментарийно-оценочная;
в) познавательно-просветительная;
г) воздействующая;
д) гедонистическая;
е) генеральная;
ж) эвфемистическая функция;
з) рекламная функция;
3) Основные задачи:
а) передача с помощью информационного поля и представленного репертуара тем того или иного объема фактов и событий реального мира; сообщение о положении дел, разного рода фактах и событиях;
б) комментирование фактов, их анализ и оценка;
в) пополнение фонда знаний читателей за счет передачи многообразной культурной, исторической, научной информации;
г) влияние на взгляды и поведение людей;
д) стремление развлекать, вызывать чувство удовольствия, отвечать эстетическим потребностям адресата;
е) создание и сохранение единства человеческой общности, связанной определенным видом деятельности;
ж) камуфляж, вуалирование различных явлений действительности;
з) намеренное искажение фактов;
и) реклама разнообразных товаров, услуг и т.п.
II. Стилевые черты:
1) страстность, призывность, экспрессивность;
2) конкретность, фактографическая точность.
III. Языковые средства:
А) средства, выражающие страстность, призывность, экспрессивность:
а) лексико-грамматические средства:
- эмоционально-оценочная лексика;
- распространенные обращения;
- обратный порядок слов (инверсия);
- побудительные предложения;
- восклицательные предложения;
- назывные предложения, рисующие живые картины;
Б) средства речевой выразительности:
а) вопросы различных типов:
- дубитация (ряд вопросов к воображаемому собеседнику);
- объективация (вопрос, на который автор отвечает сам);
- обсуждение (постановка вопроса с целью обсудить какое-либо решение или обнародованный вывод);
- риторический вопрос (экспрессивное утверждение или отрицание);
б) коммуникация (мнимая передача трудной проблемы на рассмотрение читателей);
в) парантеза (вставная конструкция с элементами авторской оценки);
г) риторическое восклицание (показное выражение эмоций);
д) умолчание (невысказанность части мысли, оформленная многоточием);
е) столкновение паронимов и парономазов;
ж) полиптотон (повтор слова в разных падежных формах в рамках одного предложения);
з) аппликация (вкрапление в текст общеизвестных выражений, как правило, в измененном виде);
и) сегментация (вынесение в начало предложения наиболее важной информации и превращение ее в самостоятельное предложение);
к) парцелляция (отделение точкой одного или нескольких последних слов);
л) эпифраз (присоединение, добавочное, уточняющее предложение или словосочетание);
м) сравнение;
н) тропы:
- метафора;
- каламбур (игра слов, основанная на одновременной реализации прямого и переносного значения слов);
- персонификация (перенос на неживой предмет функций живого лица);
- аллегория (буквальный смысл, указывающий на переносный смысл);
- метонимия (перенос имени с одной реалии на другую по логической смежности);
- синекдоха (перенос имени с целого на его часть и наоборот; синекдоха числа (указание на единичный предмет для обозначения множества и наоборот);
- антономазия (употребление имени собственного в нарицательном значении и наоборот с иронической целью);
- антифразис (употребление слов с оценкой, противоположной той, которая заложена в контексте);
- ирония (завышение оценки с целью ее понижения);
- мейозис (занижение оценки с целью ее повышения);
- сарказм (предельное выражение иронии);
- аллюзия (особый прием текстообразования, заключающийся в соотнесении создаваемого текста с каким-нибудь прецедентным текстом или фактом):
- литературные цитаты – реминисценции;
- видоизменение цитат ученых, политиков и т.п.;
- библеизмы;
- цитаты из популярных песен;
- измененные названия фильмов;
- трансформированные крылатые выражения;
- названия произведений искусства;
п) окказионализмы;
р) полистилизм (использование средств, различных по стилевой принадлежности и нормативному статусу).
Языковые средства, выражающие фактографическую точность, конкретность:
- имена существительные собственные (имена, фамилии, географические названия и пр.);
- числительные;
- распространенные повествовательные предложения.
Инвариантная схема текста изоморфна схеме функционального стиля: при ее моделировании используется представление о типовой ситуации общения, о структурно-композиционных частях текста, возможном наборе языковых средств, определяются условия для создания стилистически дифференцированного текста того или иного типа, жанра.
Поскольку в информационных моделях реализуются инвариантные, а значит, типовые значения, формы, функции, возникает вполне естественный вопрос, способен ли такой подход разрушить представление о специфическом, связанном со стилистическим феноменом в языке?
Конечно, функционально-стилистические границы в любом естественном языке достаточно тонки и сложны, однако существует регулярная воспроизводимость, предсказуемость употребления определенных языковых явлений для каждого стиля. Исследование материала при помощи лингвостилистической абстракции выявляет регулярную воспроизводимость типовых языковых средств в каждом конкретном тексте. Хотя частное, сугубо индивидуальное, проявляющееся в речи, не всегда можно спрограммировать, но как это ни парадоксально, индивидуальное возникает на фоне общего, типового, инвариантного.
