Современный курс философии Томск 2005 ббк 87. 3
| Вид материала | Документы |
- Учебное пособие Томск 2004 ббк, 2186.02kb.
- 1. специфика философского знания и философской деятельности. Предмет философии, 4381.63kb.
- Учебное пособие Издательство тпу томск 2005, 1494.29kb.
- Учебное пособие Томск 2009 ббк 88., 1583.42kb.
- Учебное пособие подготовлено на кафедре философии Томского политехнического университета, 1526.78kb.
- З. А. Медведева Философия История философии древнего мира Курс лекций, 2193.61kb.
- Решения ученого совета, 326.29kb.
- Методические рекомендации Томск 2009 ббк 73. 3(0)я73 Печатается по решению, 928.69kb.
- Базовый курс Учебное пособие Третье издание, исправленное и дополненное Томск 2007, 1615.15kb.
- Курс Философии и Философии Истории, а также Философии Искусства и Философии Науки XXI, 172.66kb.
2. Бытие идеального
2.1. Сознание и менталитет как бытие идеального
2.1.1.Научно-философская, или атрибутивная концепция сознания
Кроме объективной реальности в философии возникло понятие субъективной реальности, самое общее обозначение которой связывается с феноменом «сознание», хотя оно по содержанию значительно шире сознания, охватывая и другие стороны психики, получившие вместе с сознанием название менталитета. Согласно названной концепции, сознание человека является свойством материальной субстанции, которое и нужно охарактеризовать, опираясь на эволюционные идеи современной научной картины мира. Вследствие этого требуется охарактеризовать природогенез психики человека. Опираясь на теорию информационных самоорганизующихся систем и синергетику как науку о нелинейности динамик Вселенной, можно сказать, что сознание является бифуркационной (переломной на основе случайного выбора) точкой в развитии природы, так же, как и возникновение жизни на Земле 3,5 млр. лет тому назад. Этот бифуркационный скачок произошел вследствие наличия у всей материи всеобщего свойства отражения, благодаря развитию которого возникают в дальнейшем все психические процессы вплоть до высшего свойства материи – осознания себя через сознание человека. Коротко остановимся на этом всеобщем свойстве материи – отражении, аналоги которого употреблялись еще Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро и другими представителями материалистического направления в философии.
Отражение – это свойство материальных явлений, предметов, систем воспроизводить в процессе взаимодействия в изменениях своих свойств и состояний особенности других объектов. Подчеркнем, что отражение возможно при наличии взаимодействия, на что обращали внимание такие ученые и исследователи функциональных систем, как И.М. Сеченов, И.П. Павлов, П.К. Анохин, В.И. Вернадский. При раскопках ученые находят отпечатки давно умерших животных и исчезнувших растений. Отпечатки – это отражение. Гладкая поверхность воды, отбрасывая падающие на нее лучи света, воспроизводит окружающие предметы – деревья, дома, людей. Это воспроизведение – тоже отражение. Существует выражение, что каждая вещь – это эхо и зеркало Вселенной. В нем и запечатлено наличие в природе этого всеобщего свойства отражения.
Можно классифицировать формы отражения. Простейшими формами отражения выступают отражения в неживой природе, обусловленные типом взаимодействия: механическим, физическим, химическим. Их называют элементарными формами отражения. Пружина под воздействием внешней силы растягивается, оставляя в себе отражение в виде деформации. Голос исполнителя или музыка отражаются на записывающем диске и т.п. Формы отражения в неживой природе не обладают направленной активностью. Отображающие и отображаемые системы здесь выделяются условно, поскольку в них нет внутренних механизмов, организующих направленную активность отражения. По выражению Норберта Виннера, во Вселенной Гиббса преобладающей тенденцией является тенденция «к потере своей определенности, к состоянию хаоса и единообразия», что находит свое выражение в энтропийности процессов неживой природы. Исторически это находит свое выражение в старении и разрушении систем, временности, преходящности каждой материальной системы, включая Солнце.
Несмотря на то, что выделяются системы неживой и живой природы, они разделены не абсолютно. В соответствии с синергетической теорией в точке бифуркации возможно возникновение «порядка из хаоса» [см. 14]. Пространственно-временная последовательность химических реакций привела к закреплению автоматизма ее воспроизведения, к состоянию «борьбы за негэнтропию» (Н.А.Бернштейн). На уровне простейших живых организмов возникает новая биологическая форма отражения. Последовательно ее разновидностями выступают раздражимость, чувствительность, психика высших животных. Физиологическими механизмами этого отражения являются возникающие накопители памяти, вначале в виде ДНК и нуклеотидов, а затем развивающейся нервной системы. Именно эти физиологические структуры способствуют осуществлению адаптивно-приспособительной деятельности на основе отражения и обратной связи организма со средой. Эти системы П.К.Анохин назвал функциональными, действующими под влиянием главной потребности живой системы «приспособиться и выжить». Эти системы называются адаптивными на основании возникшей модели «потребного организму будущего». Уже первая устойчивая организация должна была обладать свойствами адаптивного отражения внешнего по отношению к ней мира [см. 1].
Адаптивное отражение означает учет особенностей отражаемых объектов и сопоставление с собственными потребностями организма, удовлетворение которых способствует закреплению и выживанию живой системы через отбор вредных для жизни или способствующих ее сохранению факторов. Приспособительная деятельность лежит в основе процесса эволюции и осуществляется на основе отражения, которое совершенствуется вместе с совершенствованием на его основе самоорганизации. Нейрофизиологический аппарат усложняется, постепенно эволюционируя в развитие головного мозга позвоночных, что способствует путем отражения успешнее продвигаться по пути достижения полезного результата деятельности. Формам биологического отражения свойственна активность и целесообразность на основе возникшего потребностного состояния.
С появлением животных возникает поведенческая активность, т.е. такая жизнедеятельность, в ходе которой животное добывает необходимое для жизни. На этой основе происходит дальнейшее развитие биологической формы отражения: появляются зачатки психической формы отражения. Развиваются и механизмы отражения: развивается нервная система, усложняется структура головного мозга вместе с усложнением форм поведения. На этом уровне появляются такие формы отражения, как восприятия и представления. Например, собака воспринимает хозяина и чужого по-разному. У нее имеются и представления о наступающем времени прогулки, принятия пищи и т.п. Психическое отражение, возникающее у позвоночных животных, - это свойство живых организмов целесообразно реагировать на предметно оформленную среду с целью адаптивного (приспособительного) поведения. Материальной основой психики животных является нейрофизиологическая деятельность мозга, его рефлекторный механизм. Рефлекс, лежащий в основе психических явлений животных, служит отражающим нервным механизмом. Рефлекторный процесс начинается с восприятия раздражителя, продолжается нервными процессами в организме и заканчивается его ответным мышечным движением. Например, кошка отдергивает лапку от слишком горячей или слишком холодной воды.
По своей биологической природе вся условно-рефлекторная деятельность является сигнальной (И.М. Сеченов, И.П. Павлов). На основе образования временных связей многочисленные сигналы из внешней и внутренней среды (условные раздражители) являются предвестниками, сигнализирующими о предстоящем наступлении важной для организма безусловно-рефлекторной деятельности (пищевой, оборонительной, половой и т.д.). Принцип сигнализации имеет жизненное значение для организмов. На основе сигнального характера отражения возникает и развивается опережающее отражение действительности. «Это опережающее отражение уже на ранних этапах жизни служило основному требованию всего живого – приспособиться и выжить» (П.К. Анохин). Его можно продемонстрировать на поведении куколок осы, которые по условиям развития бывают вынуждены перезимовать на открытом воздухе. Куколка осы, содержащая в своей протоплазме большое количество воды, не гибнет в условиях сильных морозов. Каким образом? Благодаря механизму опережающего отражения. Уже первые осенние заморозки стимулируют в протоплазме клеток образование глицерина, который и не позволяет куколке замерзнуть. Опережающее отражение среды у животных осуществляется простыми формами отражения – ощущениями, восприятиями, представлениями, конкретным образным мышлением. Модель потребного организму будущего управляет отражением организмов, поэтому потребности организма являются ведущими факторами его активности, опережающее отражение условием их удовлетворения. Природогенез способствовал, в конечном счете, и подготовке к образованию сознания, совершенствуя механизмы отражения.
Однако для образования сознания как идеального образа (в виде идей), чего нет у животного, принципиально важным явился новый способ бытия, а именно деятельностный. Социогенез раскрывает нам, как освободившиеся вследствие условий существования еще в Олдовае передние конечности стали создавать примитивные орудия труда. Неондерталец 100 тысяч лет тому назад был уже обладавшим сознанием человеком с объемом мозга 1500 куб. см. Он уже владел огнем, употреблял вареную пищу, строил шалаши из шкур, изготовлял украшения, не говоря уже о сложной технике чопперов. Кроманьонец, возможно, в жестокой видовой борьбе сменил неондертальца, закрепив производительный способ деятельности 40-30 тысяч лет тому назад. Деятельность приобрела адаптивно-адаптирующий, социокультурный характер. Мозг человека развивался как орган его продуктивной деятельности и нового способа бытия. Человек впервые противостоит природе, а не находится только внутри нее, как животное. Он становится субъектом деятельности, а, следовательно, социальной формы отражения – сознания. Человек осознает природу, которая его породила, а также и самого себя, поэтому через длительные века грандиозных объяснительных тотемических и мифологических построений у него возникает самосознание. У животного остается рефлекторная деятельность (активность), а у человека возникает рефлексивная, связанная с осознанием природы и самого себя.
Каковы же специфические черты сознания как человеческой формы отражения? Во-первых, оно продукт не только длительной эволюции, но и нового способа бытия и организации жизни, которые обозначились как социокультурные. Во-вторых, сознание - не просто целесообразное опережающее отражение действительности, а целенаправленное, поскольку человек ставит цели своей деятельности. В-третьих, цель деятельности создает идеальный (в виде идеи, понятия) образ предмета как результата человеческой деятельности. Отсюда вытекает идеальный характер сознания. У человека понятийный, идеальный характер сознания, чего нет даже у высших человекообразных обезьян. Примеры не будем множить. В-четвертых, сознание – это субъективный образ объективного мира, потому что существует только в сознании мыслящего субъекта, ничего материального в сознании нет: ни массы, ни пространства, ни цвета, ни запаха. Они есть только в ощущениях, восприятиях, представлениях, которые осознаются, только став мыслью. В-пятых, сознание функционально по своему возникновению и процессуальности. Оно есть лишь функция мыслящего при помощи мозга деятельного человека. Это деятельность заставляет человека продуцировать мысли. А мозг – это лишь орган этого продуцирования. Мозг является лишь материальной основой возникновения и существования мысли как нейрофизиологическая деятельность. При «осмотре» мозга мы не увидим в нем ярких мыслей и образов, а только серое вещество, которое тонким слоем извилин заходит в борозды двух больших полушарий. Это кора головного мозга, которая состоит из огромного числа нервных клеток – нейронов. Кроме того, в мозгу существует блок подбугорной области, так называемый подкорковый аппарат, который «отвечает» за инстинктивные влечения, эмоциональные состояния и где «гнездятся» архетипы коллективного бессознательного как передаваемые по наследству неосознаваемые инстинкты [см. 23,24,25].
Деятельность мозга дифференцирована очень детально, но в первую очередь, тоже функционально различаются левое и правое полушария. Левое полушарие «отвечает» за рациональность, логичность мышления. Его работа требует собранности, запоминания бесчисленных деталей. Людей с преобладающим левосторонним мышлением И.П. Павлов назвал мыслительным типом личности. Правое полушарие рождает чувства, образы и метафоры. Его преимущественная работа создает, по Павлову, художественный тип личности. Задние отделы больших полушарий: затылочная, височная и теменная принимают информацию: зрительную, слуховую, кожную. Передние отделы мозга и, прежде всего, его лобные доли осуществляют программирование, регулирование движений и действий, их сличение с исходными намерениями и результатами. Подробное функционирование мозга как дифференцированного целого изложено в книге А.Г. Спиркина «Сознание и самосознание» [см.17]. Все эти функции психического отражения человека реализует мозг и нервная система, которые мы с полным правом можем назвать системой управления организмом, ибо они выполняют функции, присущие любой управляющей системе [см. 9]. Управляемый развивающейся нервной системой процесс становления интеллекта и сознания убыстрялся, ускорялся. Для того, чтобы из австралопитека возник человек, потребовалось 5-3,5 мл.лет, а для того, чтобы из трехпалой лапы возникло копыто лошади, понадобилось 40-30 мл. лет [см. 9]. Итак, бытие идеального носит функциональный характер и выступает как идеальное отражение в образе предмета. Как же мы узнаем о существовании идеального? Сознание, являясь идеальным, существует в материальной форме своего выражения – языке. Сознание и язык представляют собой единство. Мысль оформляется в языке. Но это такое единство, которое не исключает и различия. Структура мышления и структура языка не совпадают. Законы и формы мышления едины для всех людей, а язык национален. Язык и мышление представляют собой различные структуры, связь которых возникла в ходе общественного социокультурного процесса. У животных есть зачатки мышления в виде образов и представлений. Есть и язык отдельных сигналов, которыми они выражают радость, агрессивность, предупреждение об опасности. Однако эти способности развиты только в пределах адаптивного природного существования. Их развитие происходит только на социокультурной основе. Животному, которое живет в соответствии с природной генетически закодированной программой и в целом не выходит за ее пределы, способности речи и языка не понадобились.
Эти способности понадобились и были развиты человеком, потому что его способ бытия осуществляется культурно-коммуникативным путем через язык, который передает большую часть культурного опыта. Слово, обозначающее и называющее предмет, стало в человеческом обществе второй сигнальной системой. Человеческая деятельность и общение опосредованы словом. Человеческий мир как бы удваивается: он удваивается и создаваемой «второй природой», куда включается и сам человек, он удваивается и через идеальное отражение и обозначение его в слове (имени) через понятия, суждения и умозаключения. Человек реагирует не просто на звучание слова, а на его значение и смысл, которые в нем заключены. Слово замещает предмет, обозначает его. Это обозначение имеет свое значение, свой идеальный смысл. Триединство предмета, знака и смысла выражается семантическим треугольником Г.Фреге.
Семантический треугольник
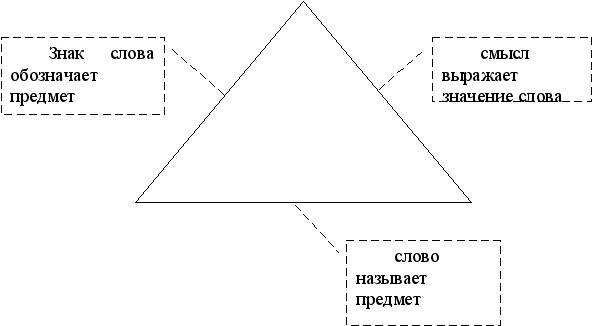
Мышление как процесс является умственной деятельностью на каком-либо языке: знаков, образов, переводимых на словесный язык. Все языки сходны по своей логической структуре: они имеют субъект, предикат мысли, понятие, суждение, умозаключение. Но эти логические операции осуществляются разными языковыми способами. Хотя каждый национальный язык имеет свою структуру (например, русский язык – флективный, падежный, а китайский язык – иероглифический) и разную знаковую специфику (например, один и тот же предмет в русском языке обозначен как стол, в немецком как der Tisch, в английском как a Table), но по смыслу они одинаковы. Именно поэтому возможен перевод с одного языка на другой. Человек в процессе мышления подбирает определенные слова для выражения мысли. И хотя человек мыслит на языке, полного тождества здесь нет. Процесс говорения нельзя отождествлять с мышлением. Но даже если человек мыслит символами, образами, в конечном счете, их можно выразить в определенных речевых структурах. Мысль не появляется в готовой форме, она созревает в процессе мышления. Человек может мыслить на интуитивном уровне, молниеносно, тогда пропускаются все само собой разумеющиеся слова. Слово – это не единственный язык для выражения мысли. Существует язык жеста, мимики, танца, музыки, красок, цвета и др. Формирующуюся мысль человек обязательно облекает в какую-то языковую форму, а нарушение мышления ведет к затруднениям в формах ее выражения.
Возникнув, сознание и его процесс – мышление исторически развиваются, продуцируются* конкретно-историческим субъектом, поэтому по своему содержанию оно всегда имеет социально-исторический характер. Мистико-тотемическое мышление первобытного общества помогло человеку выработать нравственный принцип «не убий», направив человеческую. эволюцию в социокультурное русло. Мифологическое мышление человека зиккуратов древних восточных цивилизаций способствовало разнообразию культурных архетипов, обусловливая многообразие последующих культур. Осевому времени (8-2 вв. до н.э) мы обязаны формированием рационально мыслящего человека, который развил все формы человеческой духовности в соответствии со сложившимся типом культуры. Несмотря на современные процессы глобализации и формирования Коллективного разума планеты (Н.Н.Моисеев) и при всей общности техносферы развитие человеческого мышления продолжает развиваться в своем культурном своеобразии, которое получило название менталитета.
2.1.2.Трансперсональная и герменевтическая концепции сознания
«Разработчики» других концепций сознания считают вышеизложенную принадлежащей ньютоновско-картезианской картине мира. Ее опровергают и предлагают другую американский психиатр Станислав Гроф, английский физик Дэвид Бом, западные ученые Кен Уилбер и Фритьоф Капра, а также русский ученый и философ В.В.Налимов. Они предлагают точку зрения трансперсональности (континуальности-непрерывности) сознания, его космической сущности. Эта позиция демонстрирует свое сходство в понимании мышления с буддийской сансарой (самсарой) как огромным текущим бездонным и безбрежным океаном [12, c.54]. Станислав Гроф предлагает «расширенную картографию человеческого разума, включающую перинатальный (дородовой, родовой и послеродовой) и трансперсональный опыт, и новые парадигмы, появляющиеся на стыке современной науки и великих мистических традиций [см. 3, c.366]. Применение психоделических средств (препарата ЛСД в опыте Грофа) как растормаживающих сознание позволяет индивиду ощутить фундаментальное единение и гармонию с Вселенной, способствует преодолению отчужденности, изоляции, антагонизма и отлученности. В этом состоянии человек чувствует потребности удовлетворенными, организм ощущает себя в безопасности, что тесно связано с космическим единством.
Первый модус опыта в рамках научно-материалистической картины мира С. Гроф называет хилотропическим ( от греч.слова hyle – тело) сознанием. На этой основе человек получает знание о себе как вещественном физическом существе с четкими границами и ограниченным сенсорным (sensus – чувство) диапазоном. Такой человек живет в трехмерном пространстве и линейном времени мира материальных объектов. Переживание этого модуса поддерживают такие представления, как материя вещественна, два объекта не могут одновременно занимать одно и тоже пространство, прошлые события не могут вернуться, будущие нам не доступны, одновременное существование в двух или более местах невозможно, целое всегда больше части, ничто не может быть истинным и ложным одновременно и т.д.
С. Гроф опирается, как он говорит, на холотропический принцип (от holos – целостный), на holomovement (голографическое движение) Д. Бома, т.е. на голографический или холономный принцип соотношения целого и частей в рассмотрении сознания. У холономного подхода, считают сторонники этой концепции, есть предшественники в древней индийской и китайской духовной философии, в монадологии Г.В.Лейбница, согласно которой все знание о Вселенной можно вывести из информации, относящейся к одной-единственной монаде (частице). Голографический принцип обнаруживается и позволяет описать многие состояния и образы сознания, находящегося под воздействием ЛСД.
Д. Бом, выдающийся физик теоретик, на которого ссылается С. Гроф, описывает природу реальности как непрерывное и когерентное (согласованное) поле, вовлеченное в бесконечный поток изменения – холодвижения (holomovement). «Из этого следует, что разум постоянно присутствует во всех формах материи, даже в простейших. У электрона, в таком случае, есть очень примитивная форма разума; наш разум находится на другом уровне и, возможно, на каком-то ином уровне находится разум выше нашего и т.д. до бесконечности» (см. 2, c.25). Используя холономный принцип Вселенной, многие ученые допускают, а С.Гроф (при помощи психоделических средств) стремится доказать, «возможность существования сознания вне мозга человека и высших позвоночных», что также серьезно рассматривается в контексте современной физики. «Некоторые физики верят, что следует включить сознание в будущую теорию материи и в размышления о физической Вселенной как наиважнейший фактор и связующий принцип космической сети. Если Вселенная представляет собой интегральную и единую сеть, и некоторые из ее составляющих очевидно сознательны, это, в некотором смысле, должно быть верно и для всей системы. Конечно, вполне допустимо, что различные части сознательны в разной степени и им свойственны разные формы осознавания» [3, с.85]. С этой точки зрения «допустимо говорить о ментальных процессах у клеток, органов, низших организмов, растений, экологических систем, социальных групп или всей планеты» [там жe].
Эксперименты С. Грофа позволили ему заключить, что его пациенты выходят на уровень трансперсонального (сверхличностного) взаимодействия с различными аспектами Вселенной – физическими и биологическими микромирами. В их психику могут ворваться архетипические сущности и мифологические эпизоды с образами божеств, демонов, ритуалов из различных, никогда и никем не изучавшихся культур [см. там же, c.369]. Эти состояния похожи на описания шаманской практики, целительных церемоний различных доиндустриальных культур, явлений мистицизма, мистерий, т. е. параллельны психоделическим состояниям, способствующим самоисцелению и расширению сознания. С. Гроф считает, что терапевтический эффект трансперсонального и перинатального (около родового) сознания, т.е. ощущения космического единства, отождествления с универсальным разумом или восприятие собственного рождения, внутриутробного состояния можно сравнить с экзорцизмом, т.е. изгнанием нечистого духа, как это практиковалось средневековой церковью или в доиндустриальных культурах.
Огромный целительный потенциал такого состояния, считает этот психоаналитик, связан с разблокированием потока энергии и прорывом наружу конденсированных переживаний. Их содержание может складываться из конкретных воспоминаний детства, тяжелых эмоций, накопленных в течение жизни, эпизодов рождений, кармических перерождений, архетипических образов, филогенетических (исторических) эпизодов, отождествлений с животными и растениями, проявлений демонической энергии и многих других феноменов [см. там же, с.382]. При этом спонтанно активизируется энергия Кундалини-йоги, сидха-йоги, в трансперсональном состоянии происходит встреча с архетипическими образами божеств, расширяется спектр экстрасенсорных состояний, включаются проблески телепатии, телекинеза и т.п. Перинатальные и трансперсональные состояния психики, считает С.Гроф, вырабатывают новое мировоззрение, в котором духовность становится естественным, сущностным и жизненно необходимым элементом существования, они наделены силой очень быстро открывать трансцендентальную сферу опыта [там же, c.415]. Такие трансформации происходили с широким кругом лиц, включающем атеистов, скептиков, циников, даже марксистских философов и позитивистски настроенных ученых, – уверяет нас С.Гроф. Идентификация сознания с одним хилотропическим модусом чревата, по его мнению, ощущением тщетности жизни, отчужденностью от космического процесса, а также ненасытными потребностями, состязательностью, тщеславием, приводит к ориентации на «безграничный рост», отчуждению от природы, т.е. происходит на деструктивном уровне. Таковы в целом аргументы, которые приводит С.Гроф в доказательство вселенски-субстанциальной теории сознания, привлекая свидетельства ученых мирового масштаба.
Близкой этой является концепция спонтанности (внутренней присущности) сознания в мире В.В.Налимова, отечественного ученого - физика, математика, философа, которую он развивал в своих многочисленных публикациях в России и за рубежом. Среди них три его книги «Спонтанность сознания. Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности». М., 1989; «В поисках иных смыслов» М.,1993; «Разбрасываю мысли. В пути и на перепутье». М., 2000). В построении своей гипотезы он ссылается на зарубежный опыт, в том числе и с психоделиками (которые сейчас запретили как наркотики). Его теория тоже включает в сознание психический опыт предков, постинкарнационный опыт, идентификацию с животным и растительным сознанием, сознанием нерганической материи, внетелесное сознание, интуитивное понимание символов, активизацию чакр, Ум Универсума, Метакосмическое сознание. Он считает, что вся материя содержит в себе разнообразные смыслы и представляет собой текст, который постепенно раскрывается и подлежит дальнейшему раскрытию, поэтому его теория называется еще и герменевтической, поскольку сознание предстает как расшифровка текстов Вселенной.
Карта сознания В.В. Налимова представляет собой многоуровневую систему. Её первый высший уровень – это тот слой нашего сознания, где смыслы подвергаются раскрытию через обычную аристотелевскую логику (суждений и умозаключений индуктивного и дедуктивнрго типа). Второй за ним уровень – это слой предмышления, на котором вырабатываются те исходные положения, на базе которых строится собственно логическое мышление, являющее собой только небольшую надводную часть вселенских смыслов. Третий уровень – это подвалы сознания, где происходит чувственное созерцание объектов. Здесь осуществляется встреча с архетипами коллективного бессознательного (образами неосознаваемых, издревле наследуемых инстинктов, открытых К.Г. Юнгом). Еще дальше и ниже находится само физическое тело, с которым связано общесоматическое ощущение человека. Эмоции, столь сильно влияющие на состояние сознания человека, возникают, по всей видимости, не в мозгу, а в теле. Тело является, таким образом, одним из уровней психики. Пятый уровень не входит в семантически телесную структуру человека. Это уровень метасознания. Он является трансличностным, космическим, вселенским сознанием, взаимодействующим с земным человеческим сознанием через вероятностную логику, не похожую на аристотелевскую, где все ясно. Шестой уровень сознания – это подвалы космического сознания. На уровне космического сознания происходит спонтанное (внутреннее, непроизвольное) порождение импульсов, несущих творческую искру человеческому сознанию. В.В. Налимов считает, что космический уровень можно сравнить с «мифическим уровнем» ноосферы В.И. Вернадского. Первые три уровня называются собственно сознанием человека. Причем, второй и третий уровни отождествимы с бессознательным, как его рассматривает психоанализ (З. Фрейд, К.Г. Юнг, А.Адлер, Э. Фромм и др.). Третий и шестой уровни – это коллективное бессознательное, включающее архетипы, выполняющие роль ключей для выхода в более высокие уровни сознания [12, c.104-127].
Огромную роль в сознании человека играет второй уровень – предмышления, который в соответствии с вероятностной логикой Т. Бейеса, созданной им еще в 1763 г., формирует внутренний семантический (смысловой) облик сознания человека. Эти смыслы формируются по формулам Т. Бейеса о попарно-несовместимых событиях, вероятности которых и события для которых известны как условия вероятности. Для того чтобы раскрыть процессы, происходящие на уровне предпонимания, надо разработать язык, адекватный этим процессам. Оказалось, что таким языком может стать вероятностное исчисление смыслов по формулам Т. Бейеса. Вот пример вероятностной задачи, решаемой по бейесовской логике.
Задача. Все натуральные числа от 1 до 30 записаны на одинаковых карточках и помещены в урну. После тщательного перемешивания карточек из урны извлекается одна карточка. Какова вероятность того, что число на взятой карточке окажется кратным 5?
Решение. Обозначим через А событие «число на взятой карточке кратно 5». В данном испытании имеется 30 равновозможных элементарных исходов, из которых событию А благоприятствуют 6 исходов (числа 5, 10, 15, 20, 25, 30).
Следовательно, Р- вероятность А исчисляется по формуле:
Р (А) 6/30 0,2 . Вероятность события – это фильтры Бейесовой логики.
Второй уровень – предмышления – это поле семантических значений (смыслов). Пережитое в подвалах сознания передается на уровень предмышления, где по бейсесовской логике фильтруется поле смыслов. Выход на вершину мышления – аристотелевскую логику – необязательный процесс, который может остановиться на уровне спонтанно возникших представлений. Примерно по такой логике осуществляется раскрытие смыслов через коаны (своеобразные задачи) в дзен-буддийской практике мышления. Состояние глубокой медитации происходит также на уровне фильтров вероятностной логики. Понимание - это главная задача сознания, но реализуется оно в различных культурах по-разному. В культурах Востока понимание осуществляется скорее на третьем и четвертом уровнях в широко применяемой практике медитации. Здесь существует критическое отношение к дискретно-логическому дихотомическому («черно-белому») мышлению.
В западной культуре господствует логицизм, поддержанный в свое время христианской мыслью. Он оттеснил на задний план медитационную практику, сохраняемую в монастырях. В связи с интересом к восточной культуре на Западе, особенно в США, возрождается практика медитации. Она схожа с вероятностной логикой, в которой происходит мультикативное смешивание предначертанного (судьбоносного) начала со свободой выбора – спонтанным началом. Сознание в таком случае имеет трансцендентный (преодолевающий) характер, предполагающий выход за пределы жесткой личностной капсулизации, по выражению В.В. Налимова. Этот процесс предстает как борьба человека за беспрестанное обновление смыслов, как открытость глубинам своего Я, космическому началу жизни, раскрепощение своего Метаэго. А потому сознание представляется, прежде всего, как процесс овладения смыслами, которыми наполнен Универсум как смысловой контекст мира. Вселенная, став мыслящей, еще не закончила свой эволюционный путь, поэтому новая смысловая парадигма, по Налимову, еще впереди. Согласно его концепции, в мире заложен антропный принцип, и смысл его раскрывается через человека, поскольку мир к нему предуготовлен (подогнан). Фундаментальные константы нашей Вселенной оказались подобранными таким образом, что стало возможным существование био- и антропосферы на Земле. С этой точки зрения получается, что природа фундаментальных констант не материальная, а семантическая (смысловая). Согласно этой логике, нет грани, отделяющей ментальное от материального, сознание от материи. Материя не является косной, а предстает одухотворенной. Спонтанно происходящий отбор ее констант задает самоорганизацию мироздания [10, c.105]. В.В. Налимов согласен с Д. Бомом и его понятием всеобъемлющего движения (holomovement), в соостветствии с которым реальность едина и представляет собой неделимую целостность, лежащую в основе Вселенной и охватывающую как материю, так и сознание. Оригинальная теория В.В. Налимова о неразрывной связи материи и сознания основана на вездесущности смыслов, обладающих онтологическим (бытийным) статусом.
Вселенной присущ смысловой континуум, и здесь наблюдается сходство с взглядом Спинозы о единой субстанции, порождающей как мир физический, так и сознательную деятельность человека [12, c. 228]. Вероятностная теория Налимова рассматривает их спонтанность как вселенское, космическое, нигде не локализованное начало, а индивидуальность, причем харизматическая, только подключается к вибрациям вселенской семантики. Человек действует спонтанно, пристально вслушиваясь в то, что созревает в планетарном сознании [см. 11, c.6]. В своей последней книге «Разбрасываю мысли. В пути и на перепутье» он допускал, что мироздание – это тоже творящее существо, обладающее сверхсознанием, могущим воспринимать и осмысливать все происходящее, где бы и как бы оно ни совершалось – даже в пространстве иных геометрий и в неведомых временах. И тогда рукописи действительно не горят. Иначе говоря, все сотворенное оставляет след. Встав на такую позицию, мы расширяем основу бытия Вселенной, признав, что она обладает скорее семантической структурой. Отсюда открывается путь к построению сверхъединой теории поля, объединяющей оба мира, т.е. физический и духовный [см. Разбрасываю мысли…, c.27]. Сознание не капсулизировано только в мозгу, но, обладая трансцендентальной природой, является космическим, спонтанно порождая импульсы, несущие творческую силу. И та картография сознания, с которой начинается его анализ и есть иерархия его спонтанности, завершающаяся его включенностью в космический процесс. Концепция спонтанности созвучна даосизму, буддизму, русскому космизму и мистицизму. Недаром «апостола спонтанности» называли одним из самых выдающихся мистиков ХХ столетия. Его устремленность к соприкосновению с тайной роднит его философию с религией, эзотерикой, кабаллой, алхимией, масонством и трансперсональной психологией. Его герменевтически ориентированная на мир смыслов теория сознания есть теория распаковки семантического континуума, в котором сознание играет упорядочивающую и творческую роль и интерпретируется через смысл, текст, язык. Таким образом, сознание раскрывается через триаду «смысл, текст, язык», где язык – это средство, с помощью которого создаются тексты. В свою очередь, тексты - это то, что создано из смыслов с помощью языка, а смыслы – это то, из чего создаются тексты, говорящие на языке смыслов.
2.1.3. Экзистенциально-феноменологическая теория сознания
Основоположниками экзистенциально-феноменологической теории сознания являются западные философы Э.Гуссерль, М.Хайдеггер, М.Мерло-Понти, Ж.-П.Сартр и др. Эта концепция строится на явленности предмета в сознании и в переживании человека как его экзистенции. В переводе с греч. phainomenon – являющее себя. Феноменология исходит из принципа «Назад к самим вещам!», которые непосредственно должны явить себя сознанию. Исходным моментом явленности предмета сознанию является точка «теперь», которая соотнесена с временным горизонтом. Эта соотнесенность позволяет воспринимать, вспоминать и представлять нечто только возможное. Соотнесеность со временем корректируется концептуальностью автора, и, в отличие от гуссерлианской точки «теперь», у М.Хайдеггера – это «забегание вперед», поскольку исходным экзистенциалом в его философии является смерть. Источником конституирования сознания в данной концепции является Я. Вследствие этого феноменологическо-экзистенциальная философия сознания принадлежит к рефлексивной философии. Восприятие Я - это внутреннее восприятие.
Откорректированная на современном уровне эта концепция последовательно представлена в книге А.Н. Книгина «Философские проблемы сознания» Томск: Изд-во Томск.ун-та, 1999. Это неклассическая онтология сознания, опирающаяся на феноменологически (опытно) данное. Основная установка Э. Гуссерля в анализе сознания такова: «В психической сфере нет различия между явлением и бытием» [5, c.26]. Психика человека состоит из потока феноменов, которые и есть суть переживаемого опыта сознания. Сознание в этом случае является основанием экзистенции и раскрывается через «аналитику присутствия»,- констатирует М.Хайдеггер [22, c.301]. Сознание не представляет собой субстанции, а существует по мере своего проявления (Ж.-П.Сартр). Для экзистенциализма сознание–в-мире и является предметом философии как внутренний мир личности, составляющий абсолютную реальность – экзистенцию. Такой же точки зрения придерживались и русские философы С.Л.Франк, В.И.Несмелов, В.С.Соловьев и др. Этот внутренний мир души направлен как во вне, так и внутрь, в себя, но рассматривается феноменологически как здесь и теперь. Его феноменологические (данные в опыте) ипостаси – созерцание, переживание, мышление, как они были гипостазированы еще Р.Декартом в его cogito (мыслю). Вне единства этих ипостасей (форм) названные психические формы не есть еще мышление.
Созерцание – это те ощущения, восприятия и представления, которые возникают в конкретной ситуации и обусловлены уровнем развития сознания в целом. Созерцание ребенка и взрослого поэтому различны. Переживание –это внутренние ощущения простого и сложного характера (боль, страх, обида, радость или зависть, любовь, чувства справедливости, сострадания). Мышление включает в себя процессы размышления, суждения, вопросы, их решения, построение теорий, анализ себя (рефлексию). В сознание включаются также модусы этих трех форм: воспоминания-созерцания, воспоминания-переживания, воспоминания-мысли. То же самое можно сказать и о модусах воображения. Опыт человека, художественная литература позволяют нам их дифференцировать, хотя это сложный процесс, включающий и их фантомность. Например, с чем мы на самом деле имеем дело: с переживанием любви или воображением любви – в этом надо еще разобраться.
Опыт созерцания содержит в себе свидетельства, которые дают такие ощущения, как зрение, слух, вкус, обоняние и осязание, и в единстве с переживанием, мышлением, самосознанием он и выступает как сознание. В феноменологическом аспекте в акте созерцания достаточно констатировать присутствие чего-то передо мной и тем самым и мое присутствие (но пока еще не «Я»), как интерпретирует феноменологический акт А.Н.Книгин [6, c. 84]. Предметный горизонт присутствия феноменологического мира превращается в полноту жизненного мира лишь при наличии сознания в целом.
Переживание выступает как центр человеческой экзистенции, в нем дано самое главное – мое бытие, переживание есть свидетельство моего бытия. Кроме того, в переживании содержатся оценки моего бытия, поскольку переживание может быть положительным или отрицательным. Созерцание и переживание, суммируясь, (созерцание экзистирует в переживании), становятся частью моей экзистенции. Переживание, как и созерцание, существует в своих вышеназванных модусах. Значимость переживания в экзистенциальном смысле играет решающую роль, поскольку без него возникает экзистенциальный вакуум. Именно когда истощается энергия переживания, перестает присутствовать «кипение» чувств или они притупляются, тогда речь идет о наступлении экзистенциального вакуума. Особое состояние противоречивых переживаний называется смятением чувств и символизирует о том, что в них надо «разобраться» с помощью мышления разума. И если выбор разумом не сделан, то также возможно наступление экзистенциальной пустоты.
М. Хайдеггер называет переживания (настроения) фундаментальным экзистенциальным состоянием, характеризующим экзистенциалы человеческого бытия: заботу, заброшенность в мир, страх, ответственность, поскольку они приоткрывают сущее в целом [22, c.20]. Значимость переживаний заключается в том, что они характеризуют экзистенциальное присутствие человека в мире. Вместе с тем, в созерцании-переживании еще нет рефлексивного Я, которое возникает только в опыте мышления. Именно оно (мышление) становится свидетельством сознания.
Однако каков способ существования мысли, кроме того, что она воплощается в языке? Для этого необходимо Я, в котором мысль способна фиксировать себя; только становясь самосознанием, сознание становится самим собой, а не просто суммой психических функций. В этом раскрывается его экзистенциальное значение. «Сознание не существует без обращенности на себя, т.е. без саморефлексии, поэтому сознание и самосознание в существовании не различимы. В силу этого сознание есть свидетельство человеческого бытия (экзистенции), так что границы сознания, равные самосознанию, суть границы экзистенции, и наоборот»,- разъясняет А.Н. Книгин [6, c. 128]. Благодаря слову и рефлексии мышление объединяет сознание в целостность, а поскольку слово свободно (мы причудливо сочетаем слова, особенно в поэзии), постольку вместе с ним свободна и мысль. Все вместе взятое образует сферу субъективности.
Вещь, осознаваемая в сознании, сопровождается спектром ожиданий от вещи, что можно обозначить как смыслы этой вещи. Смысл предстает потенциальным развертыванием вещи, т.е. тем, чем она может быть в возможностях. В обыденном сознании мы имеем размытые горизонты сознания как плохо знающего, таким же является отдаленный горизонт вещи. Ожидание входит в экзистенциально-феноменологическую сущность человека, поскольку только через ожидание постигаются и творятся смыслы. Плотность ожиданий – критерий направленности (интенциональности), напряженности и насыщенности сознания, показатель творческих потенциалов человека. Итак, сознание образуется единством созерцания, переживания и мысли, т.е. созерцание и переживание всегда ведут к слову, т.е. мысли.
Феноменология различает слой повседневного мышления, где формируется ментальность сообществ, существование которой на этом уровне А.Я. Гуревич назвал «коллективным неосознанным» [4, c. 48], и сущностное интеллигибельное сознание. На втором уровне, но не в отрыве от первого развивается научное, философское, нравственное, эстетическое и другие формы интеллектуального социокультурного сознания. Феноменологи (М. Бубер, Э. Гуссерль, А.Ф. Лосев и др.) выделяют в сознании ценностные переживания как нечто живое и имеющее ко мне отношение, как самоценное в универсуме и себе и тем самым ценное для меня [6, c.152]. Чувство сакральности мира порождается именно этим переживанием. Когда же этот опыт достигает духовной силы переживания общения с Абсолютом, Непостижимым, то называется мистическим, случающимся в состоянии особого восторга, религиозного экстаза, ожидания великого наличия, полноты Настоящего. В восточном опыте нечто подобное называется достижением Нирваны.
Многообразие содержательных форм осознаваемых переживаний составляет полноту человеческой экзистенции. Из него складывается личностное Я, причем настолько, насколько человек мыслит переживаемое, находящееся в созерцании. Следовательно, предметный континуум в его значимости и смыслах образует жизненный мир экзистенциального Я. В этом смысле можно говорить о тождественности экзистенции и сознания. Проблема субъективности сознания как идеальной реальности, существующей в сознании субъекта и явленной в языке совпадает в феноменологической концепции с научно-философской. В этом смысле тождественен принцип анализа «надмирного» сознания, но объективированного в языке и таким образом становящегося сознанием другого в процессе общения.
Отличительным является понимание спонтанности в онтолого-герменевтической концепции В.В. Налимова и трансперсональной - С. Грофа от феноменологической. Такая характеристика как спонтанность в экзистенциально-феноменологической концепции означает его субъективную свободу. Сознание не вещно, а процессуально, а потому не является предопределенным или в этом смысле управляемым извне. Оно существует как внутренняя жизнь личности, осуществляющаяся в потоке сознания. Этот поток спонтанен и эмерджентен (постоянно возобновляющийся в своей новизне). Сознание синергетично (непредсказуемо в выборе мыслей), преходяще, а, следовательно, исторично, но как фиксированное в формах духовной жизни непреходяще. Это не отменяет спонтанности сознания как процесса, в котором мысли ассоциативны, свободны, текучи, не предусмотрены. Сознание то включается, то выключается, перескакивает с одного явления на другое. Это не означает его беспредметность, иначе в этой спонтанности не было бы свободы творческой деятельности. В зависимости от этой предметности существует разнообразие творческой духовной деятельности: художественно-эстетической, религиозной, философской, научной, научно-технической, нравственной. Если у В.В. Налимова (субстанциально-герменевтическая концепция сознания) многообразие творчества выступает как выявление непроявленных смыслов Вселенной, то в научно-философской и феноменологической - как объективация (опредмечивание, экстериоризация) человеческой субъективности. Эта творческая деятельность как свободная (спонтанная) может быть ограничена лишь свойствами самой субъективности и субъектности, а также языком внешнего выражения.
2.1.4. Менталитет, его структура, функции в психической деятельности человека
Вопрос о природе сознания относится к одному из труднейших вопросов философии. Понятие менталитета, активно используемое в современном философском дискурсе, призвано восполнить модель сознания, в которой центром выступает рациональность. «Это понятие охватывает не только знание, мировоззрение, идеологию, но и эмоционально-образные, духовно-ценностные, волевые акты сознания» [7, с. 80].
Понятие менталитета только в настоящее время стало разрабатываться российской наукой, хотя на Западе оно давно широко вошло в научный оборот. Ментальность, менталитет (от лат. – ум, мышление, образ мыслей, душевный склад) – общая духовная настроенность, относительно целостная совокупность мыслей, верований, навыков духа. Первенство в применении и изучении этого термина принадлежит французским ученым Л. Февру и М. Блоку, создавшим историко-антропологический подход в исследовании общества на основе анализа менталитета и его подвижек в динамике культуры. Они обосновали возможности человеческого сознания воспринимать и осваивать мир в тех пределах и ракурсах, которые даны ему культурой и эпохой, посредством «мыслительного инструментария», который в определенную эпоху находится в распоряжении человека и общества и исторически обусловлен, унаследован от предшествующего времени. Исторические условия существования закладывают в сознание людей определенного общества образ мира, который образуется ими спонтанно, по большей части вне контроля их «дневного сознания» [4, с. 11].
По мере развития психологии накапливался материал о непроизвольных действиях, непонятных фобиях, неврозах, свидетельствующий о том, что существует нечто независимое от рациональных целей, сопротивляющееся коммуникативным нормам, не поддающееся обсуждению или осуждению в рамках открытого дискурса. Это анонимное начало сознания было названо бессознательным. В сознании было открыто грозное и в какой-то мере опасное для разума начало, не признающее оппозиций Я и Другого, добра и зла, субъекта и объекта, истины и иллюзии и т.п. Поэтому образ мира в человеческом менталитете складывается, не ограничиваясь только объективированными элементами общественного сознания, но и на основании других психических элементов – архетипов коллективного бессознательного, подсознательного.
Менталитет – это образ мира, картина мира, способ видения мира, согласно многим его исследователям (Л. Февр, М. Блок, Р. Редфилд, К. Гирц, А.Я. Гуревич, Ж. Ле Гофф, Б.В. Марков, А.Л. Ястребицкая, А.П. Огурцов и др.), создает в мышлении носителя культуры представления о том, как существуют вещи, природа, общество, сам человек, его концепцию природы, себя и общества, пространственно-временные отношения, целый «набор» нравственно-эстетических представлений, огромное количество эмоциональных реакций на весь природный и социальный мир, которые по большей части различны у разных культурных народов. Образ мира входит в содержание структуры менталитета. Авторы сборника «Мировосприятие и самопознание русского общества (XI – XX вв.)» считают, что понятие «менталитет» образуется из содержания дополняющих друг друга понятий – «мировосприятие» и «самосознание». Первое из них образуется из картины мира, возникающей в мышлении человека вместе с её активным восприятием, включающим в себя и действия субъектов, обусловленные представлениями о мире. Это значит, что он характеризуется двусторонностью: мир воздействует на человека, а человек в соответствии со своим восприятием мира строит свое поведение в нем. Второе - подчеркивает осознание человеком своего места и роли в окружающем мире и обществе [см.8, с.3].
Наглядно менталитет можно представить строительной конструкцией, фундамент которой – сфера коллективного бессознательного, стены – область осознанного мышления, а крыша – уровень самосознания индивида. Структуру менталитета, следовательно, образует картина мира и кодекс поведения, мыслительные процедуры, способы мировосприятия, привычки сознания, которые присущи людям определенного общества и о которых сами эти люди могут не отдавать себе ясного отчета, применяя их как бы «автоматически», не рассуждая о них. Последние формы менталитета не контролируются их носителями, но они формируют социальное поведение людей, групп, индивидов. Это та область, «где мысли тесно связаны с эмоциями, а учения, верования, идеи коренятся в более расплывчатых и неформулированных комплексах коллективных представлений» [4, с.48]. Эту сферу А.Я. Гуревич предпочитает называть сферой «коллективного неосознанного», поскольку этот термин менее отягощен идеологическими и мистическими обертонами. Хотя мы считаем возможным вполне правомерное употребление и юнгианского коллективного бессознательного.
Многих исследователей менталитета объединяет мнение о существовании «внеличностных привычек индивидуального сознания» (Ле Гофф), о единой ментальности, общем ментальном фонде той или иной эпохи. Обращение исследователей к более глубоким «пластам залегания» психической деятельности - ментальности, выявление в ней системы образов и представлений социальных групп позволило увидеть её функцию – быть регулятором поведения и бытия в мире. «Менталитет он и есть менталитет», - говорит А.П. Огурцов, - «он определяет и опыт, и поведение индивида и социальных групп. Анализ такого рода априорных структур сознания, инвариантных слоев в жизневосприятии и сознании человека предполагает, что именно эти «глубинные» слои определяют и рефлексивные акты, и осознанное поведение» [13, с. 52]. Менталитет – это постоянно действующее активное начало в духовной деятельности человека. Это своеобразный фермент, не только стимулирующий эту деятельность, но и определяющий поведение человека и его отношение к окружающему миру [15, с.164-165].
Согласно мнению многих исследователей, менталитет не находится лишь в статичном состоянии: он имеет подвижки в динамике культуры (Л. Февр, М. Блок, Ж. Ле Гофф, А.Я. Гуревич, Э. Фромм, Э. Тоффлер, П.О. Тульвисте, А.П. Огурцов, Л.Н. Пушкарев и др.). Как замечает П.О. Тульвисте, изменение мышления происходит из-за изменения задач, которые человеку приходится решать [20, с. 103]. Менталитет выражается в многообразных установках личности, в представлениях индивида, социальных групп о пространстве и времени, жизни и смерти, об обществе и самом себе, о природе, вещи, труде, досуге, красоте, свободе, счастье и т. п. Менталитет проявляется в деятельности человека, социальной группы, так как является духовно-историческим явлением культуры, духовной субстанцией, предопределяющей опыт, поведение и действия людей. Согласно исследованиям П.О. Тульвисте, образ мышления соответствует определённым видам деятельности и соответствующим задачам [20, с. 104].
Проникновение в ментальную область требует исследования способа человеческой деятельности – культуры, посредством исследования языка, символов, ритуалов, фольклора, литературы, искусства, быта, одежды, хозяйственной деятельности и др. – всего того, что зависит от человека, выражает его, свидетельствует о присутствии, деятельности, вкусах и способах существования человека.
Начало изучения менталитета связано с работами французского культурантрополога и этнолога Люсьена Леви-Брюля, внесшего значительный вклад в исследование ментальности архаических традиционных культур, сохранившихся до XX в. Л. Леви-Брюлем были раскрыты особенности мировоззренческой, нравственной и эстетической культуры человека традиционного (первобытного) общества. На основе этнографических исследований им было представлено доказательство того, что нельзя рассматривать менталитет человека традиционной культуры как недоразвитое мышление современного. В этом менталитете бессознательное (К. Юнг), коллективное неосознанное (А.Я. Гуревич) превалирует над сознательным, а коллективное подчиняет себе индивидуальное, поскольку индивидуальное еще не выделяется из коллективного.
Коллективные представления – ключевое понятие Л. Леви-Брюля. Оно раскрывает понятие «коллективные представления», впервые введенное в научный оборот Э. Дюркгеймом. Коллективные представления не заимствуются человеком из его непосредственного опыта, а как бы навязываются им социальной средой по традиции, происхождение которой теряется во мраке времени. Коллективные представления, по Юнгу, являются коллективным бессознательным в структуре человеческой психики, имеющим древнее, еще дочеловеческое в своих архетипах, происхождение и существующее независимо от осознания. Подобно телесной организации человека, его психическая организация имеет длинную, уходящую корнями в глубины человеческой эволюции историю. «Коллективное бессознательное является вотчиной возможных представлений, но не индивидуальной, а общечеловеческой, и даже общеживотной, и представляющее собой фундамент психики» [24, с. 125]. Формой проявления коллективного бессознательного служат архетипы (первообразы). Юнг отмечает, что архетипы - это нечто, что по своей природе не имеет точного определения, но представляет «куски самой жизни», универсальные прообразы, праформы поведения и мышления, корреляты инстинктов, интуитивное постижение которых спускает «курок» инстинктивного действия в соответствующей ситуации [23, с.27]. Функция архетипов заключена в определении типических для человека способов восприятия и понимания действительности, идущих из глубины веков [24, с.216]. К. Юнг, определял архетипы коллективного бессознательного как некие бессодержательные психические праформы, которые наполняются конкретным содержанием в зависимости от эмпирического опыта людей. Коллективное бессознательное содержит архетипы, связанные с условиями физической, физиологической, психологической природы, что опредмечивается в представлениях о жизни и смерти, времени и пространстве, о происхождении, двойничестве (тень) и др. Все это находит выражение в коллективных представлениях, религиозных верованиях, мифах, нормах морали и права и других феноменах культуры.
Сгусток всего сверхсильного, эффективного и богатого образами опыта предков, связанного с отцом, матерью, ребенком, мужчиной, женщиной, с магической личностью, опасностями для души и тела, также является содержанием коллективного бессознательного в виде архетипических образов.
Анализ понятия менталитет позволяет сделать следующий вывод:
- Менталитет не ограничивается только объективированными элементами общественного сознания, менталитет - это не только «дневное сознание» форм общественной идеологии, менталитет включает в себя и другие психические элементы – архетипы коллективного бессознательного, подсознательное, неосознаваемые эмоции, ассоциации, зооморфные и антропоморфные аналогии, магические представления, сверхъестественное – все, из чего складывается картина мира, психический «умострой» человека.
- Менталитет свидетельствует о существовании «внеличностных привычек индивидуального сознания» (Ле Гофф), которые свойственны большинству людей эпохи и выражается в многообразных установках личности, в представлениях индивида, социальных групп о пространстве и времени, жизни и смерти, об обществе и самом себе, о природе, вещи, труде, досуге, красоте, свободе, счастье и т.д.
- Менталитет не находится в статичном состоянии: он имеет подвижки в динамике культуры.
- Функция менталитета быть регулятором поведения и бытия в мире. Менталитет является исходным постулатом восприятия мира человеком в определенную эпоху.
- Источником для изучения менталитета может быть все созданное человеком и сохранившее духовную сущность своего творца.
Контрольные вопросы
- Почему первая концепция сознания называется научно-философской?
- Зачем понадобилось объяснять свойство материи – отражение в научно-философской концепции сознания?
- Проанализируйте основные формы отражения в неживой и живой природе. Чем они отличаются?
- Назовите и объясните отличительные признаки сознания как идеальной формы отражения.
- Что Вы можете рассказать о взаимосвязи мозга человека и сознания?
- Что такое семантический треугольник, что он позволяет понять?
- Почему концепция сознания С.Грофа называется трансперсональной?
- Верите ли Вы в экстраординарные состояния сознания, описываемые С.Грофом, и в их терапевтический эффект?
- Как Вы поняли хилотропический и холотропический подходы в траснперсональной теории сознания?
- Нарисуйте карту сознания (психического) В.В.Налимова.
- Как Вы понимаете спонтанность сознания в герменевтической концепции?
- Как Вы объясните, что концепция В.В.Налимова названа герменевтической?
- Какие синонимы можно подобрать к вышеназванной концепции?
- Проанализируйте отличие процессов мышления по аристотелевской и бейесовской логике.
- Есть ли связь концепции спонтанности с другими мировоззренческими традициями? Если есть, то с какими?
- Что такое антропный принцип в герменевтической концепции?
- Что такое феноменологическая концепция сознания?
- Почему мы объединили феноменологическую концепцию с экзистенциальной?
- Объясните связь основных понятий в феноменолого-экзистенциальной концепции.
- Что такое саморефлексирующее сознание по отношению к экзистенции?
- Как понимаются смыслы во всех названных концепциях?
- Что такое менталитет, ментальность?
- Какова структура менталитета?
- Каковы функции менталитета?
- Каким ученым принадлежит приоритет в исследовании менталитета и в каких его структурах?
Дополнительная литература
- Анохин П.К. Философские аспекты теории функциональной системы. Избранные труды. М., 1978.
- Бом Д. Математика – великое зеркало ученого. Философские диалоги // Наука и религия. 1989. № 6. С. 23-27.
- Гроф С. За пределами мозга. Пер. с англ. М., 1993.
- Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1993.
- Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Логос. 1991. №1.
- Книгин А.Н. Философские проблемы сознания. Томск: Изд-во Томск.ун-та, 1999.
- Марков Б.В. Разум и сердце: История и теория менталитета. СПб., 1993..
- Мировосприятие и самопознание русского общества (XI – XX вв.): сб. статей. М., 1994.
- Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М., 1990.
- Налимов В.В. В поисках иных смыслов, М., 1993.
- Налимов В.В. Разбрасываю мысли. В пути и на перепутье. М.,2000.
- Налимов В.В. Спонтанность сознания. Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности. М., 1989.
- Огурцов А.П. Трудности анализа ментальности // Вопросы философии. 1994.№.1. С. 25-54.
- Пригожин И.Р. ,Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986.
- Пушкарев Л.Н. Что такое менталитет? // Отечественная история. 1995.№3.С. 158-165.
- Сартр Ж.-П. Воображение // Логос. 1992. № 3.
- Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. М., 1972.
- Сысоева Л.С. Сознание // Философия. Курс лекций. М.: Владос, 2001.
- Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999.
- Тульвисте П.Э. Типы мышления и традиционные занятия // Культура народностей Севера: Традиции и современность. Новосибирск, 1986. С. 100-108.
- Фромм Э. Бегство от свободы. Пер. с англ. М., 1995.
- Хайдеггер М. Бытие и время. М.,1997.
- Юнг К.Г. Аналитическая психология: прошлое и настоящее. М., 1995.
- Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. М., Киев, 1997.
- Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. М., 1994.
