Конвергентные и дивергентные тенденции в политическом дискурсе великобритании и США
| Вид материала | Автореферат |
СодержаниеОсновное содержание работы |
- Конвергентные и дивергентные тенденции в политическом дискурсе великобритании и США, 538.02kb.
- Программа по курсу " Страноведение Великобритании и сша", 98.67kb.
- И. А. Каруна медиаобразованиЕ в сша, канаде и великобритании а. В. Федоров, А. А. Новикова,, 4109.64kb.
- Последние тенденции развития мировой экономики, 271.75kb.
- А. С. Пушкина Кафедра английской филологии Курсовая, 360.81kb.
- Реферат по Теме: " Тенденции развития Военно-Морского Флота", 274.3kb.
- Темы рефератов по курсу «Современной истории и культуры Великобритании и сша», 20.44kb.
- Афористичность как средство языкового воздействия в политическом дискурсе (на материале, 361.09kb.
- Особенности функционирования метафоры в российском и китайском политическом дискурсе, 167.04kb.
- Интертекстуальность как средство воздействия в политическом дискурсе (на материале, 316.57kb.
Основное содержание работы
Во Введении обосновываются актуальность, новизна, цель и задачи исследования, теоретическая и практическая значимость работы; предлагается новое направление научного исследования; формулируются положения, выносимые на защиту.
Первая глава «Теоретико-методологические основы контрастивного анализа политического дискурса» раскрывает теоретические предпосылки исследования, которое базируется на критическом анализе трудов в области лингвистики текста и теории дискурса, политической и контрастивной лингвистики, прагмалингвистики и теории речевых актов, когнитивистики и лингвокультурологии. Рассматривается и уточняется понятие политического дискурса, определяются коммуникативные особенности и категориальные признаки политической коммуникации, характеризуется контрастивный метод анализа и предлагается интегративная методология анализа национальных вариантов англоязычного политического дискурса.
Концепция политического дискурса получила в современной лингвистике широкое и узкое толкование. Широкого понимания придерживаются авторы, относящие к политической коммуникации «любые речевые образования, субъект, адресат или содержание которых относятся к сфере политики» [Шейгал, 2004: 23]. Высказывается мнение, что особенностью политического дискурса на современном этапе является его опосредованность средствами массовой информации, исключение которых из анализа значительно обеднило бы картину современного политического дискурса.
Отнесение текстов СМИ – текстов-посредников между политиками и народом – к политическому дискурсу не разделяют те исследователи, которые проводят грань между массово-информационным дискурсом на политические темы и профессиональным дискурсом политиков, выступая за узкий подход к определению данного типа коммуникации. При узком понимании политический дискурс ограничивается институциональными формами общения в общественно-политической сфере, то есть публичной коммуникацией профессиональных политиков. Подобный подход можно определить как институциональный; он характерен для понимания политического дискурса такими исследователями, как Р. Водак [Водак, 1997: 25] и Т.А. ван Дейк [Дейк, 2000: 153]. Институциональный подход разделяют многие отечественные исследователи политической коммуникации: А.Н. Баранов, Е.Г. Казакевич (1991), В.Н. Базылев (1999), Л.В. Минаева (2007), А.К. Михальская (2000), Т.В. Юдина (2001), Т.Н. Ушакова (2000) и др. В реферируемой диссертации объектом исследования является институциональный политический дискурс, под которым понимается языковое выражение общественной практики в сфере политической культуры, представляющее собой профессиональное использование языка, за которым стоит национально и социально-исторически обусловленная ментальность его носителей.
Развитие концепции политического дискурса неразрывно связано с разграничением понятий «дискурс» и «текст», которое представлено в работах О.В. Александровой, Е.С. Кубряковой, В.Г. Борботько, В.З. Демьянкова, В.В. Красных, Н.А. Шехтмана, И.П. Сусова. Дискурс представляет собой когнитивный процесс, связанный с реальным речепроизводством, в то время как текст является конечным результатом процесса речевой деятельности, который выливается в законченную и зафиксированную форму. Поскольку дискурс ориентирован на множество коммуникативно-прагматических факторов, решающее значение при классификации типов дискурса имеет прагматическая составляющая смысла. Являясь статусно-ориентированным, политический дискурс характеризуется четырьмя разновидностями категорий, выделяемых в рамках коммуникативного подхода: конститутивными, жанрово-стилистическими, содержательными (семантико-прагматическими), а также формально-структурными [Карасик, 2002]. Описание общего и национально-специфического в национальных вариантах англоязычной политической коммуникации базируется на перечисленных категориальных признаках.
Интегративный подход к изучаемому объекту потребовал привлечения определенного инструментария современной лингвистики и прежде всего обращения к анализу речевого воздействия с позиций теории коммуникативных стратегий. В большинстве случаев под речевым воздействием понимают речевое общение, взятое в аспекте его целенаправленности, мотивационной обусловленности и связанное с целевой установкой говорящего [Иссерс, 2008: 21; Тарасов, 1990: 3]. Методологические и теоретические аспекты описания речевого воздействия ориентированы на его дифференциацию по интенсивности. Противопоставляемые типы представлены «обычной беседой» (ordinary conversation) и «персуазивным дискурсом» (persuasive discourse), который является неравноправным и отличается попыткой воздействия, осознанно осуществляемого одним из коммуникантов [Lakoff, 1982: 28]. Исследователи [Почепцов, 1987; Федорова, 1991; Карасик, 1992; Larson, 1995] предлагают разные типологии речевого воздействия, некоторые из которых базируются на классификации речевых актов. В политическом дискурсе, отличающемся персуазивным характером, коммуникативные стратегии отражают иллокутивное предназначение коммуникации.
Политическую коммуникацию отличает стратегическая организация. Стратегия – центральное теоретическое понятие коммуникативной лингвистики и прагматики [Макаров, 2003; Олянич, 2004; Иссерс, 2008; Михалева, 2009; Чернявская, 2006; Блакар, 1987; Dijk, Kintsch, 1983; Sornig, 1989; Pfau, 1990]. Стратегию связывают с реализацией набора целей в структуре общения и определяют как когнитивный процесс, в котором говорящий соотносит свою коммуникативную цель с конкретным языковым выражением [Levy, 1979: 197]. Принято разграничивать семантические, прагматические и риторические стратегии; используют также понятия локального хода и приема в рамках названных стратегий [Дейк, 2000: 278]. Зарубежные и отечественные исследователи предлагают различные подходы к описанию коммуникативных стратегий.
Речевое воздействие в терминах коммуникативных стратегий анализируется с точки зрения двух-, трех- и четырехуровневого подхода. При этом однотипные речевые феномены одни ученые обозначают как стратегии/тактики, другие – как приемы. Наиболее полным представляется описание стратегической организации дискурса в терминах четырехуровневого подхода, который используется в реферируемой диссертации. Первый уровень представлен глобальной – регулятивной – стратегией (регуляция поведения адресата в ходе борьбы за власть), являющейся дифференциальной для дискурсивного пространства политики. Актуализация глобальной стратегии осуществляется за счет частных стратегий политической коммуникации, образующих второй уровень (например, стратегии интеграции сторонников и ориентации агентов политики). Каждая из стратегий представлена набором тактик, позволяющих определить не только цели, но и конкретные установки в речевом поведении «коллективных субъектов». Определение и анализ тактик формирует третий уровень анализа. Четвертый уровень включает языковые средства: 1) номинации и дискурсивные воплощения концептов; 2) метафорические выражения; 3) микротексты, являющиеся композиционно-коммуникативными единицами речи; 4) языковые средства и риторические приемы, участвующие в аргументации; 5) различные типы цитатных и аллюзивных включений. Четырехуровневый анализ стратегического параметра коммуникации послужил основой для выявления конвергентно-дивергентных тенденций в БПД и АПД.
Дискурсивные стратегии определяются целью коммуникации, которой может быть внушение, убеждение или манипуляция сознанием и побуждение к определенным действиям в политической сфере. Убеждение, основанное на доводах разума и логическом упорядочивании фактов и выводов, реализуется в аргументативном дискурсе, определяемом как «целенаправленная речь в социально-детерминированной ситуации с целью создания когнитивного и аксиологического унисона» [Белова, 1997: 95]. Становление естественноязыковой аргументации в 1960–70 годы связано с именами Х. Перельмана и Л. Ольбрехтс-Титеки [Perelman and Olbrechts-Tyteca, 1958], С. Тулмина [Toulmin, 1958], Г. Грайса [Grice, 1975], а ее дальнейшее развитие – с разработкой прагмадиалектического подхода Ф.Х. ван Еемерена и Р. Гроотендорста [van Eemeren&Grootendorst, 1984], пропозиционной теории О. Фрили [Freely, 1993], структуралистической концепции Р. Джонсона и Э. Блэра [Johnson and Blair, 1994]. Представленные в современных риторических концепциях трех- и шестикомпонентные модели аргументативных функций используются для анализа аргументации в разных типах дискурса [Алексеева, 2001; Бокмельдер, 2000; Белякова, 2007]. В реферируемой диссертации аргументация определяется как комплексный речевой акт, однако не выделяется в качестве одной из ведущих стратегий в силу того, что аргументативные ходы, как показано в процессе анализа материала, могут быть реализованы в рамках различных коммуникативных стратегий.
Для определения характера воздействия в политической коммуникации важно разграничивать убеждение и внушение. Внушение (суггестия) в политике является одним из наиболее эффективных средств, помогающих политику управлять сознанием адресата, используя определенный набор вербальных средств. Речевое воздействие в политическом дискурсе не всегда выглядит как внушение или убеждение, нередко принимая форму манипулятивного воздействия. Языковая манипуляция – разновидность воздействия, осуществляемого путем искусного использования определенных ресурсов языка с целью скрытого влияния на когнитивную и поведенческую деятельность адресата [Копнина, 2008: 25]. Исследователи речевого манипулирования выявили отличительные признаки такого воздействия [Доценко, 1997] и основные виды манипуляции [Карасик, 2002; Шейгал, 2004], а также риторические приемы ее достижения (повтор, метафоризация, гипербола и др.) [Веретенкина, 2001; Горбачев, 2001; Ленец, 2010], уделив особое внимание уловкам, создающим манипулятивный эффект [Еемерен, Гроотендорст, 1992; Grootendorst, 1987; Шейнов, 2000; Панкратов, 2000].
Стратегическое развертывание англоязычного политического дискурса обеспечивается единицами разных языковых уровней: от имен концептов до цитатных микротекстов значительной протяженности. Эффективность реализации стратегий во многом определяется лексической системой языка, воплощающей тематическую организацию дискурса: номинацией политических феноменов и процессов, языковой репрезентацией изменяющихся фрагментов политической действительности. Языковые единицы (слова, составные наименования, фразеологизмы) служат воплощению сложного объединения концептов в политическом дискурсе. Концепт, определяемый как «исходная идеальная база порождения актуальных смыслов и картин тех идеальных миров, которые выстраиваются мышлением и выражаются языком в речи» [Никитин, 2002: 178], изучается главным образом как лингвокогнитивное (Д.С. Лихачев, Е.С. Кубрякова, В.В. Красных) или лингвокультурное (Ю.С. Степанов, Г.Г. Слышкин, В.А. Маслова) явление, хотя эти два подхода не исключают друг друга [Карасик, 2002: 141]. Концепт анализируется и как лингвистическое явление. При таком подходе концепт – парадигматическая модель имени, включающая логическую и сублогическую структуру его содержания. Эти структуры выводятся соответственно и из свободной сочетаемости имени, и из несвободной, то есть из синтагматических отношений имени, зафиксированных в тексте [Чернейко, 2010: 265, 238]. Имя концепта, как правило, совпадает либо с доминантой определенного синонимического ряда, либо с ядром определенного лексико-семантического поля.
Выделение концептуального параметра в контрастивно-дискурсивном анализе обусловлено рядом причин. Категоризация политической действительности связана с формированием концептов и их устойчивых объединений, что представляет собой стандартный путь переработки информации. Вместе с тем концепты мира политики, организующие дискурс и определяющие основные ценности социума, являются базовыми категориями персуазивной коммуникации [Иссерс, 2008: 45]. Значимым для сопоставления национальных вариантов дискурса является также то, что концепт детерминирован культурой, представляя собой «сгусток» этнокультурно отмеченного смысла [Воркачев, 2003: 10]. Изучение дискурсивных воплощений концептов в национальных вариантах дискурса ставит вопрос о типах номинации в политической коммуникации и о национально-культурной специфике, которой обладают ключевые концепты общественно-политической сферы.
Продолжением анализа в рамках концептуального параметра можно считать описание метафорической составляющей дискурса. Метафоры представляют собой проявление базовых когнитивных структур и образно-оценочного потенциала коммуникации. Как и концепт, метафора обладает свойством выражать ментальность народа, то есть его мироощущение и мировосприятие. Ментальные признаки конкретного этноса объективируются в компаративах, метафорических и метонимических словосочетаниях, фразеологизмах, то есть в косвенно-производной номинации [Алефиренко, 2010: 108, 127]. Анализ этих единиц позволяет установить сложные отношения, которые существуют между метафорическими структурами и культурными ценностями [Lakoff, 1980].
Интегративный подход к анализируемому типу дискурса предусматривает также учет композиционно-жанрового параметра, то есть анализ суперструктуры. Представляя собой стандартную схему, суперструктура служит описанию формальных характеристик дискурса (Т.А. ван Дейк). Стандартная схема институционального политического дискурса – структурный инвариант, представленный набором трехчастных, шести- и восьмичастных вариантов и известный в риторике как композиция публичного монологического выступления (Н.Н. Кохтев, Ю.В. Рождественский, Е.Н. Зарецкая, R.E. Hughes, S. Lucas, D. Leith). Суперструктура политического дискурса, учитывающая смысловую, формальную и аргументативную составляющую речи, обусловлена ее жанровой принадлежностью. Жанровая дифференциация речей задает коммуникативные характеристики предельных единиц сегментации дискурса – микротекстов, реализующих стратегии и тактики коммуникации.
Для теоретической части работы особую актуальность приобретает вопрос выбора метода анализа, который решается в условиях становления новой научной парадигмы, определяемой как дискурсивная [Макаров, 2003: 83] или когнитивно-дискурсивная [Кубрякова, 2000: 9]. Формирование данной парадигмы происходит в период, характеризующийся комплексным (интегративным) описанием дискурса с использованием преимуществ современной полипарадигмальной ситуации в языкознании: где сосуществуют, не отрицая друг друга, несколько парадигм, у каждой из которых есть свои сильные стороны. Сложившаяся ситуация позволяет в рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы обратиться к контрастивному методу, статус которого не определен в силу того, что его относят как к общенаучным, так и к специальным [Болотнова, 2007: 443]. Проводя различие между сопоставительным (системно-функциональным) изучением языка и контрастивной лингвистикой, лингвисты подчеркивают продуктивность использования контрастивного подхода в ходе анализа различных текстов: оригинальных и переводных, художественных и информационных, выполненных на материале родственных и неродственных языков [Федоров, 1971; Гак, 1977; Рецкер, 1973; Гарбовский, 1988; Швейцер, 1991; Швейцер, 2008].
Контрастивные исследования на базе английского языка связаны с сопоставлением диатопических вариантов (О.С. Ахманова, Н.Б. Гвишиани, А.Д. Швейцер, Д.А. Шахбагова). Региональное варьирование рассматривается как чрезвычайно сложный континуум, включающий элементы от звуков и слоговых моделей до мировоззренческих представлений. Какой бы параметр ни был выбран для исследования дихотомии «британский английский – американский английский» (звуки, слоги, слова, высказывания), исследование относится к области семиотики, так как оно указывает либо на общность региональных вариантов, либо на их различия [Назарова, 2007: 238].
Результаты проведенных работ позволяют сегодня перейти к новому этапу дискурсивных исследований – контрастивному сопоставлению национальных вариантов дискурса полигосударственных языков, относящихся к определенной сфере коммуникации. Методологической основой подхода, представленного в реферируемой диссертации, является концепция диатопического варьирования англоязычного политического дискурса, разрабатываемая в рамках дискурсивно-когнитивной парадигмы. Для контрастивного анализа британского и американского вариантов политического дискурса нами предложена интегративная методология исследования, предусматривающая пять параметров анализа: концептуальный, коммуникативный, жанрово-композиционный, внутривариантный и межвариантный. Концептуальный параметр включал анализ дискурса с позиций представленных в нем концептов, а также метафорических моделей осмысления мира политики. Коммуникативный параметр предусматривал исследование стратегий аргументации и применения интертекстуальных включений. Жанрово-композиционная составляющая анализа служила описанию особенностей текстовой организации политических речей, их суперструктуры.
Методика анализа англоязычного дискурса предусматривала также: а) межвариантное сопоставление БПД и АПД на горизонтальной, пространственной оси, в ходе которого сравнивались параллельные временные отрезки (рубеж XX–XXI веков) в политической коммуникации Великобритании и США; б) сопоставление внутривариантное, при котором соположение происходило на временной, вертикальной оси БПД или АПД. В каждом виде анализа – межвариантном и внутривариантном – решались соответствующие исследовательские задачи. Так, на вертикальной оси разновременные речевые произведения политиков позволяли наблюдать динамику дискурсивной практики в конкретном национальном варианте, выявлять внутривариантные характеристики. При горизонтальной проекции устанавливались межвариантные сходства и различия в БПД и в АПД, конвергентные и дивергентные тенденции. Выбор названных параметров анализа обусловлен их значимостью для политической коммуникации и позволяет рассмотреть: 1) статические конститутивные категории, 2) жанрово-стилистические признаки, 3) формально-структурные признаки, 4) динамические характеристики политической коммуникации.
Во второй главе «Концепт как средство реализации ценностно-смысловой доминанты в институциональном политическом дискурсе Великобритании и США» исследуются конвергентные и дивергентные явления, отличающие дискурсивно-когнитивные и когнитивно-оценочные характеристики национальных вариантов дискурса в конце XX – начале XXI века. Рассматривается процесс категоризации и изменения содержания ключевых концептов политической коммуникации, определяется специфика когнитивных процессов, присущих данному типу дискурса. Анализ дискурсивных реализаций концептов направлен на выявление понятийной, ценностной и образной составляющей анализируемых единиц.
Отправной точкой для исследования концептов в диссертации становится дискурс, его концептообразовательные возможности, обусловленные самой природой дискурса. Корпус концептов – ментальных репрезентаций культурно-значимых феноменов в массовом сознании – включает 70 единиц, которые исследуются в составе концептосфер БПД и АПД (Схема 1). Анализируемые концепты представляют категориальные области, выделение которых основывалось на философско-политологическом принципе: онтология, идеология и аксиология (Шейгал, 2004). Критерием отнесения анализируемых концептов к разряду ключевых послужили частотность функционирования имени концепта в дискурсе (реализация в 20% текстов) и степень лингвистической детализации концепта через синонимы, антонимы, оппозиционные и метафорические схемы. Тематико-когнитивная структура политической коммуникации анализировалась на 3 уровнях: уровне совокупности концептов и их категориальной
принадлежности в национальном варианте дискурса, уровне языковых средств воплощения концептов, уровне моделирования отношений «концепт – его реализация».
Предметом анализа явились словарные дефиниции имен и дискурсивные воплощения таких концептов, как “power”, “change”, “liberty”, “freedom”, которые идеологически нагружены в персуазивном дискурсе. Внутривариантный анализ включал также рассмотрение номинирующих лексем в онтологической оппозиции “we” – “they”, представляющей референциальные объекты в интеграционной и агональной стратегиях. Как показал анализ, дифференциации «друзей» и «врагов» служат конститутивные признаки, которые реализуются в дейктической, идеологической, относительной, антропонимической, функциональной и эмотивно-оценочной номинации.
Схема 1
К
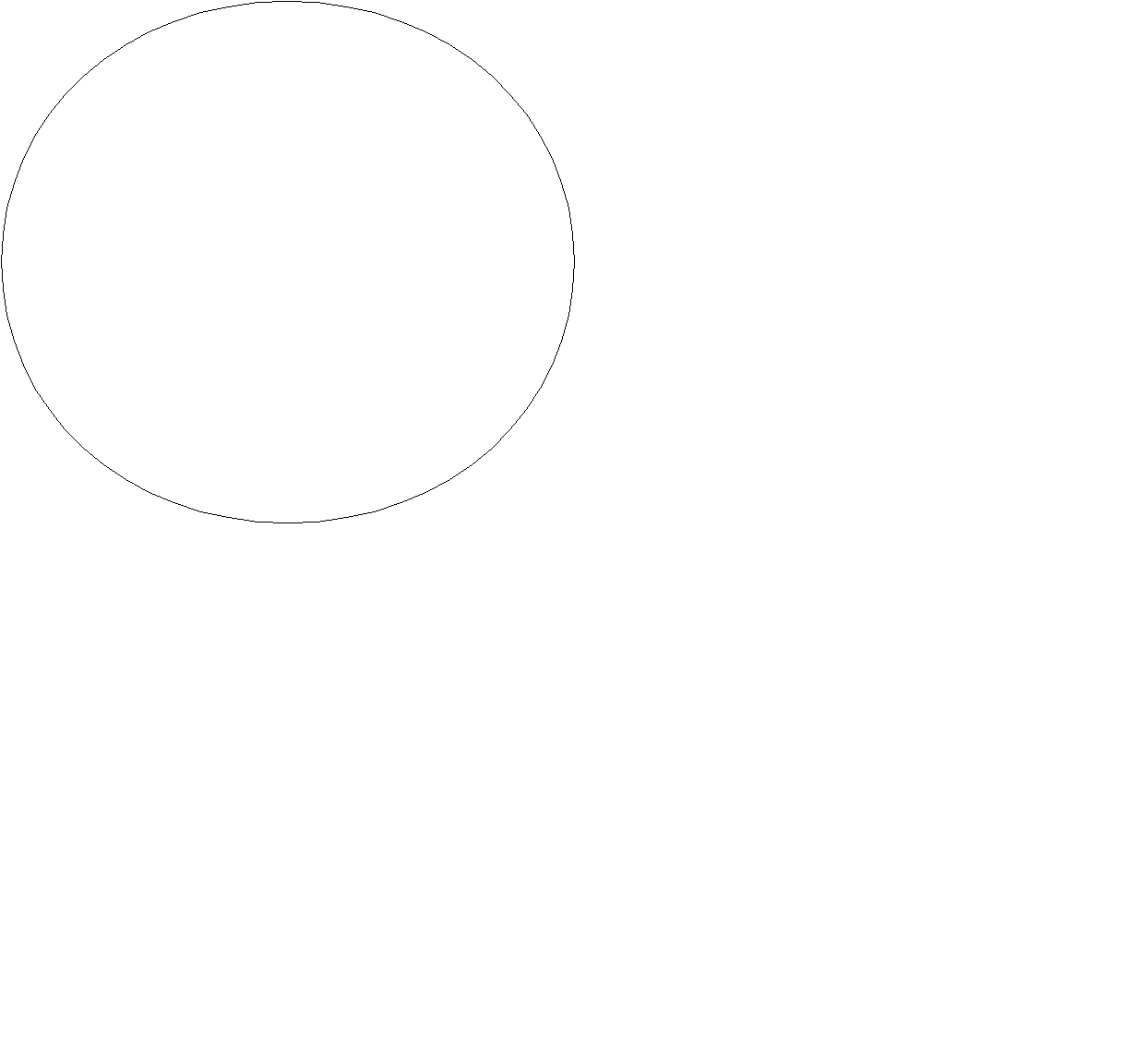 лючевые концепты онтологии, идеологии и аксиологии в БПД
лючевые концепты онтологии, идеологии и аксиологии в БПД| | | | | Enemy | | | | |
| | | | Future | | Threat | | | |
| | | 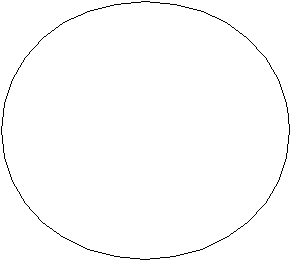 Freedom Freedom | | | Peace | | | |
| | Pride | | | | | Government | ||
| | Democracy Liberty British people Change Europe Terrorism Politics | | | | | Prosperity | ||
| | Poverty | | | | | | | Opportunity |
| British way | | | | | | Success | ||
| | of life | | | | | Development | ||
| | Happiness | | | | | | Equality | |
| | | Tolerance | | | | Truth | | |
| | | | Justice | Leadership | | | ||
| | | | Power | | | |
