Философские основы мировоззрения
| Вид материала | Тематический план |
- Философские Основы Истории приложение к журналу «москва» Тихомиров Л. А. Религиозно-философские, 1458.64kb.
- Мифология как исторический тип мировоззрения. От мифологи к философии, 43.58kb.
- Концепция Аристотеля. Философские школы эллинистического периода. Общие черты средневековой, 15.72kb.
- Программа самостоятельной работы по подготовке к практическим занятиям по философии, 127.85kb.
- Программа Вступительных испытаний Философия и методология науки и техники По направлению, 550.27kb.
- Задачи дисциплины дать основы : -обеспечения информационной безопасности государства, 42.77kb.
- Бандуровский К. В. Введение в классическую философию Тема Предфилософский тип мировоззрения., 103.42kb.
- Фундаментальный труд, описывающий основы либертарианского (в европейской традиции классического, 3749.8kb.
- Философские основы естествознания и кризис физики, 246.22kb.
- 23-24. Социальные и философские проблемы применения биологических знаний и их анализ, 181kb.
С нашей точки зрения ключ к решению этих проблем дает коррелятивный подход, последовательное применение принципа конкретности существования. Суть предлагаемого решения состоит в следующем. Любое сущее, взятое в определенном отношении (корреляте), является простым. Вступая в другие отношения, оно оказывается сложным. В разных типах отношений (взаимодействия) оно может обладать взаимоисключающими качествами (один и тот же человек может быть, допустим, замечательным теоретиком и никуда не годным организатором; робким перед начальством и деспотом в семье). Эти взаимоисключающие качества принадлежат, тем не менее, одному и тому же сущему, если оно в этих ситуациях обладает неким инвариантным качеством (остается электроном или личностью). Следовательно, для простого сущего всегда справедливо утверждение A v А (А или не А), а для сложного может оказаться справедливым А-А (А и не А). В последнем случае о бытии сложного сущего уместно говорить как о противоречивом единстве (сравните смысл распространенной ныне характеристики: «N сложный человек»).
По способу организации различаются три типа такого целого, которые можно назвать распадающимся, иерархическим и полифоническим целым. Примерами первого могут служить патологическое расщепление личности (теряющей интегральное качество «быть личностью, ответственной за свои поступки») или распад социальной общности (государства, партии, научного сообщества и т.п.). Противоречия могут привести к потере качества. Но такая потеря может быть как отрицательной (регрессивной), так и положительной (прогрессивной). Критерии прогресса и регресса мы обсудим при рассмотрении становящегося бытия, а пока надо предостеречь против консервативного отождествления наличия противоречий с регрессивным распадом (равно как и против революционного обожествления противоречий самих по себе). Поскольку сущее изменяется и в принципе всегда чревато появлением новых качеств, то дополнительность противоречивых характеристик есть нормальное явление.
Отсюда следует, что, кроме распада и жесткой иерархической подчиненности одному качеству (выступающему системообразующим центром), возможно и такое состояние, когда на первый план выступает не наличие инвариантного качества (одна и та же частица, одна и та же личность), но, напротив, позитивное «сотворчество» противоположных качеств (использование и волновых, и корпускулярных возможностей частицы; конструктивный диалог между различными общественными силами; самоанализ и самосовершенствование личности, вслушивающейся в голоса противоположных тенденций своего возмож-ного развития).
Сейчас для нас важно подчеркнуть, что, признавая в жизни целого наличие противоречий, мы тем самым осознаем в нем наличие неустойчивости, и, следовательно того, что в определенное наличное бытие каким-то образом входит неопределенность. Осознание того, что неопределенность, хаос не менее значимы в жизни мира (и не только в отрицательном смысле), чем определенность, космос, особенно характерны для становящейся синергетической парадигмы. Однако философское понимание хаоса еще предстоит эксплицировать, выделив из «руды» частно- и общенаучных поисков.
В трактовке хаоса синергетиками философские моменты вкраплены в ведущее физико-математическое понимание явления. В самом деле, стержень в понимании хаоса, как оно предста-
36Сравните психологическое определение ритма «как закономерного расчленения временной последовательности раздражений на группы, объединяемые округ выделяющих в том илидругом отношениираздражений, т.е. акцентов» (Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961. С. 204). Хайдеггер характеризует ритм как «слаженность» («Бытие и время» С. 306). Категориальное значение термину «композиция» я придаю на свой риск.
37» Можно назвать дополнительными те свойства, котьрые проявляются в чистом виде лишь при взаимисключающих условиях» - Фок В.А. Квантовая физика и философские проблемы//Ленин и современное естествознание. М., 1969. С. 194.
38В XX в. нарастает понимание значения полифонической организации бытия, например, в понимании человека, как оно представлено в философской антропологии Х.Плеснера и М.Шелера. В советской философии идея полифонической целостности была разработана Г.С.Бати-Щевым. См.: Батищев Г.С. 1) Деятельностный подход в плену субстанционализма//Деятельность: теории, методология, проблемы. М., 1990; 2) Особенности культуры глубинного общения//Диалектика общения. М., 1987.
влено, например, у И. Пригожина и И. Стенгерс, заключается в том, что они предлагают перейти от «классической» характеристики хаоса как экспоненциально разбегающихся траекторий к его вероятностному ансамблевому описанию, не сводимому к описанию в терминах траекторий или отдельных волновых функций.41 Далее анализ «расщепляется» на чистое физико-математическое (явно ведущее) и «побочное» философское направления. На первом из них вводится отличие оснащенных пространств от Гильбертова пространства, используется гамильтониан и т.д. (все это, конечно, может быть «информацией к размышлению» для философа, но не содержит в явном виде существа изменяющейся категориальной парадигмы). Основу второго направления мыслей составляет расшифровка идеи несводимости.
Речь идет о том, что отсутствие жесткого детерминизма в поведении совокупности каких-либо явлений (например, при замене изучения отдельных особей или молекул изучением популяций в концепциях Дарвина и Больцмана) означает, что статистический, вероятностный характер этого поведения является его объективным свойством, а не следствием несовершенства наших методов. И это свойство — наличие вероятностного характера поведения, принципиально не сводимое к определенности отдельных элементов, — есть «отличительная особенность хаоса».42 Несводимая вероятностность порождает картину «открытого» мира, «в котором в каждый момент времени в игру вступают все новые возможности».43 В результате поведение таких явлений характеризуется неустойчивостью, что позволяет сделать вывод: «Хаотические системы — крайний случай неустойчивых систем».44
Попробуем поместить эти идеи в более широкий философский контекст. На уровне объективной реальности неопределенность (хаос) действительно порождается неустойчивостью и постоянной актуализацией возможностей (потенциальной бесконечностью). Однако обращение к субъективной и трансцендентной реальности позволяет увидеть за неустойчивостью спонтанность. Актуализация возможностей в режиме неустойчивости и на основе спонтанности говорит о том, что в любом сущем есть нечто неопределенное: еще не определившееся, уже определяющееся. В любом корреляте что-то есть (бытие) и что-то отсутствует (небытие); но одновременно с этим в нем что-то существует и не существует, причем так, что отношения, в которых оно есть и его же нет, не фиксированы — неопределенность выступает как становление. Именно становление как процесс, в котором не различимы бытие и его отрицание (ничто), потенциальное и актуальное, и есть та «неустойчивость», которая составляет существо неопределенности. В философии, как известно, это увидел Гераклит и фундаментально разработал Гегель. Физико-математическая (вообще частно- и общенаучная) проработка отдельных сторон этой проблематики позволяет видеть ее новые стороны и в философском, категориальном контексте, но сама по себе не делает философских открытий.
Итак, сущее не только определенно существует и не существует— оно неопределенно становится. В этом единстве суть событийности сущего: целое, вклющающее неопределенность, есть становящееся целое, событие. Отметим, что на коррелятивном уровне ничто (небытие) относительно определенного объективного взаимодействия или субъективной интерпретации объективно не существует или субъективно не воспринимается не «вообще», но именно в определенном отношении; ничто на уровне абсолюта есть его непредикативность.
Представим теперь категориальный каркас наличного бытия сущего в виде схемы (см. с. 223). Этот категориальный каркас проявляется в отношении (взаимодействии) с системообразующими средствами коррелята и дает развернутый ответ на вопрос «что такое сущее?». В свою очередь выделенные категории обозначают те общие вопросы, которые в рамках данной категориальной парадигмы можно задать относительно любого конкретного сущего.
Таким образом, сущее в своем наличном бытии есть взаимопроникновение определенности (актуальности как полноты бытия и конечности) и неопределенности, потенциальности, акту-
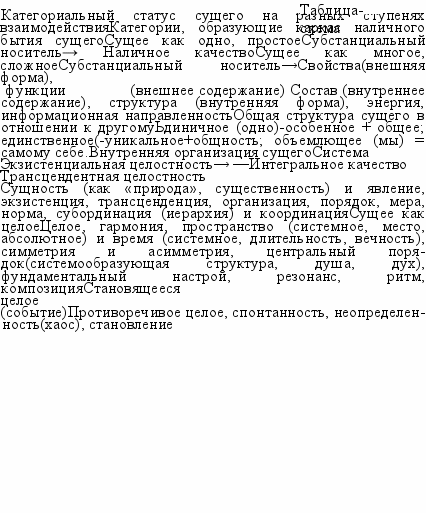
Становящееся целое Противоречивое целое, спонтанность, неопределенность (хаос), становление
альной и потенциальной бесконечности. В наличном бытии все эти характеристики фиксированы в отношении
к качеству сущего (и его смене). Но как они обосновывают наличие данного и становление другого качества, можно ли из них как-то вывести, объяснить качественную определенность бытия, как оно дано в описании? Мы констатировали наличие становящегося бытия. Теперь надо рассмотреть его в самом процессе становления, т.е. перейти от вопроса «что такое?» к вопросу «почему?».
На этом уровне взаимодействия наличное бытие выступает как проявление системообразующего множества, как нечто обусловленное и обоснованное им. Качество, данное в наличном бытии непосредственно, теперь должно быть понято как опосредованное системообразующим множеством. Это предполагает как бы «оживление», раскрытие внешнего отношения и рассмотрение его вкупе с внутренними характеристиками сущего как того, что проявляется в качестве наличного бытия, порождает и обосновывает его. В зависимости от того, на рассмотрении какого из перечисленных глаголов делается акцент, мы соответственно будем иметь дело с сущностью, условием, причиной и основанием, по отношению к которым наличное бытие, выраженное в своем качестве, выступает как явление, обусловленное, действие (следствие) и обоснованное. Указанные соотношения и должны быть рассмотрены в становящемся бытии.
Сопоставляя философские тексты, нетрудно видеть, что наиболее детально (с точки зрения выявления различных вариантов) эти проблемы были рассмотрены Аристотелем. Можно говорить о большей глубине анализа отдельных сторон у других философов (например, у Гегеля). Теперь задача заключается в том, чтобы продвинуться в направлении совмещения глубины и разносторонности. Данная проблематика служит еще одним доказательством легковесности суждений об «устарелости» классической метафизики: тут еще бездна плодотворной работы. Прежде всего надо разобраться в соотношении понятий, характеризующих то, что стоит за наличным бытием.
В классических вариантах «стоящее за» — это сущность, нечто не данное непосредственно, находящееся внутри, доступное лишь умозрению. Такова позиция Гегеля: сущность — это «истина бытия», «в-себе и для-себя-бытие»45. По отношению к такой сущности («вещи в себе») Кант, конечно, более прав, чем Гегель: она не поддается разуму. Поэтому в материалистической интерпретации гегелевское понимание сущности представлено скорее в том аспекте, в котором сущность у него выступает как
основание, как соединяющее сущность и наличное бытие. С одной стороны, «сущность определяет самое себя как основание»46, а с другой — «все имеет свое достаточное основание »47 благодаря чему сущее выступает не как непосредственное, а как положенное. Как уже отмечалось, у В. П. Бранского основание и есть эта умозрительно постигаемая сущность, объясняющая эмпирически познаваемое бытие.
Но вообще в советской философии такое понимание сущности мало распространено. Чаще под ней понимают либо «природу» явления (его устойчивые существенные черты48), либо «внутреннее содержание предмета, выражающееся в единстве всех многообразных и противоречивых форм его бытия».49 Определение не из ясных, но в нем угадывается верный момент, который нуждается в экспликации. А именно: есть множество внутренних характеристик сущего, обусловливающих его интегральное качество; как в наличном бытии среди них выделяются наиболее существенные, так и в становящемся бытии они играют неодинаковую роль. К сущности, стало быть, относятся, во-первых, элементы внутреннего основания и, во-вторых, существенные элементы, по отношению к которым организуются все другие.
48В «Основах систематизации...» я называл эту категорию «сущностью обусловленности» в отличие от «сущности определенности», или «природы».
Из такого понимания сущности следует, что она есть не синоним, но один из моментов того, что «стоит за» наличным бытием. У некоторых исследователей на эту роль претендует причина. Самое широкое толкование причины с выделением ее основных видов было дано Аристотелем: «В одном значении причиной называется то, "из чего"... возникает что-нибудь, например, медь — причина этой статуи... В другом значении... форма и образец... (например, для октавы отношения двух к единице...)... Далее, откуда первое начало изменения или покоя; например, ... для ребенка причина — отец, и вообще производящее— причина производимого... Наконец, как цель, т.е. "ради чего"; например (причина) прогулки — здоровье».50 Аристотель указал здесь категориальный характер некоторых компонентов того, что «стоит за»: по составу, по структуре, по носителю действия и по цели (их обычно называют материальной, формальной, действующей и целевой причинами).
Однако в современной литературе термин «причина» оставляют обычно лишь за третьим вариантом — действующей причиной, предлагая для обозначения других зависимостей термин «детерминация»: «Детерминизмом называется связь, выражающая зависимость вещей, свойств вещей и отношений между ними, событий, процессов, состояний в их существовании и изменении от любых факторов».51 Детерминация выступает здесь как совокупность условий (факторов, от которых зависит существование и изменение данного сущего). Однако условие, фактор (действующее условие) есть нечто определенное. Неопределенность, также относящаяся к тому, что «стоит за», находится за пределами детерминизма. Поэтому детерминация (обусловленность) входит в «стоящее за», но не исчерпывает его. Но, даже если взять все аристотелевские виды причинности, они также, как будет показано дальше, не исчерпывают собой основание наличного бытия.52
Поэтому будем говорить именно об основании, подразумевая под ним все то, с чем так или иначе связано сохранение или изменение наличного бытия сущего. По отношению к своему основанию наличное бытие есть обоснованное. Компонентами основания могут быть внешнее и внутреннее, определенное и неопределенное, конечное и бесконечное, актуальное и потенциальное, материальное и идеальное, трансцендентное, субстанциальные носители, свойства и отношения и т.д. Научное, вообще познавательное обоснование (объяснение, вывод из основания) есть воспроизведение реального отношения между основанием и обоснованным.
Элементарной единицей основания (поддающейся определению) на уровне объективной реальности является условие,3
а само основание выступает как обусловленность. На уровне субъективной реальности обусловленность предстает как внутренний контекст (объективный «текст» в интерпретации субъекта), на уровне реальности духа—как некий «эфир», схватывающий процесс становления, «веющий» над ним.
Исходным расчленением основания является его различение как основания сохранения и основания изменения качества сущего. В последнем случае можно говорить об основании развития. Принципиальным отличием этих двух видов основания является то, что во втором случае в основание вторгается неопределенность. В то же время оба типа имеют общую категориальную структуру, в основе которой лежит модификация аристотелевских видов причины. В самом деле, как внутри, так и вне данного сущего базовыми категориальными характеристиками условий являются их состав (материальная причина), структура (формальная причина), информационная направленность (современное обобщение целевой причины) и энергия (действующая причина: деятельность (energia) — «причина осуществляемого»53). Эти категориальные характеристики относятся к внутренним условиям любого сущего (данной системы, внешних по отношению к ней систем и ее подсистем). Для полноты к ним надо добавить итоговые ха-: рактеристики системы и ее подсистем на «выходе» и общую количественную характеристику всех перечисленных категорий.
54Аристотель называл состояние «привходящим свойством, ... в от
В действующей причине Аристотеля не отдифференцированы энергетическая («силовая») реализация возможностей и связь различных явлений, взятых в целом. Так, его пример «отец— ребенок» может быть истолкован именно во втором смысле: сущее в качестве отца есть условие наличия сущего в качестве ребенка. Каждая подсистема (элемент) системы обладает своими свойствами, которые не изменяют качества системы. Такая совокупность свойств есть состояние сущего, а соответствующая зависимость есть связь состояний.34 Количество может выступать общей характеристикой состава отношений (структуры), энергии, информационной направленности (естественно, лишь на том ее уровне, который поддается объективации), свойств (состояний) и качеств. Представим базовую категориальную структуру основания в виде следующей матрицы:
| Категориальные характеристики | Качество | Состоя ние | Состав | Структура | Энергия | Направленность | Количество |
| Состояние качества Сохранение качества Развитие | | | | | | | |
Любые зависимости между основанием и обоснованным в случае сохранения качества обладают следующими общими чертами: симметрия, функциональность, эквивалентность
(обратимость). Наличие симметрии, т. е. сохранения соответствующей зависимости до тех пор, пока существует данное качество, ясно по определению, и это мы уже не раз рассматривали. Функциональность заключается в том, что зависимости такого рода могут быть выражены функционально, т. е. основание и обоснованное могут быть представлены как аргумент и функция.54 Эквивалентность состоит в том, что аргумент и функция могут меняться местами. Например, связь площади круга и его радиуса такова, что можно, увеличивая площадь круга, тем самым увеличивать длину радиуса, и, наоборот, увеличивая длину радиуса, увеличить площадь круга. В таких зависимостях отсутствует то, что является характерной чертой причины в узком смысле этого слова — отношения вызывания или порождения. Это отношение необратимо. К примеру, удар вызывает деформацию физического тела; но деформация, полученная этим или другим способом, не имеет своим следствием удар.
0;>Под функцией здесь понимается не свойство изменяющейся вещи, но величина, которая способна изменяться по мере изменения величины-аргумента.
Общей формой выражения отношений основания и обосно ванного является количество. Зависимость качества обоснованного от количественных характеристик основания прежде всего бросается в глаза. В диалектическом материализме это явление было обозначено как «переход количественных изменений в качественные»: в пределах меры определенное количество (элементов состава, энергии и т.д.) соответствует определенному качеству; выход за пределы меры приводит к смене качества («перерыву постепенности», «скачку»). Действительно качеству молекулы определенного химического вещества соответствует определенное количество тех или иных атомов (количественное выражение состава); вода находится в агрегатном состоянии жидкости при определенной температуре (количественное выражение энергии); перестановка букв, изменение их очередности меняет смысл слова (количественное выражение структуры через порядковое число55. Надо, однако, учитывать, что именно эти различные категориальные характеристики основания (общая схема которых была дана выше) и являются более глубокими, чем их внешнее количественная форма выражения, условиями сохранения или изменения качества. В самом деле, если мы зададимся вопросами, почему именно это количество атомов определяет качество вещества или именно в этом диапазоне температур имеет место такое-то агрегатное состояние, то будем вынуждены рассматривать соответствующие состав, структуру, характер энергетических процессов и т. д. снова на качественном уровне.
