Сергей Михайлович Эйзенштейн
| Вид материала | Сказка |
Содержание283 Истинные пути изобретания 285 [премия за “грозного”] 287 [премия за “грозного”] 289 [формулы жизни] 293 Автор и его тема 295 Автор и его тема 297 Автор и его тема |
- Черкашин Сергей Михайлович, действующий на основании Федерального закон, 15.74kb.
- Сергей слонимский. «Новое музыкальное творчество только начинается…» Сергей Михайлович,, 167.74kb.
- Яковлев Василий Иванович, Яковлева Галина Халимовна, Ярковский Сергей Игоревич. Отсутствовали:, 171.14kb.
- Доклад о состоянии с правами человека в Нижегородской области в 2006 году, 1096.08kb.
- Уважаемый Сергей Михайлович! Направляем Вам информацию по вопросу №8 для формирования, 75.38kb.
- Сергей Михайлович Физические эффекты импульсного сжатия конденсированных веществ, 223.82kb.
- Книга для родителей, 1402.64kb.
- Винарский Владимир Афанасьевич ассистент Шешко Сергей Михайлович Минск 2008 г. Оглавление, 156.88kb.
- Интеграция обж и экологии в физику, 78.36kb.
- Пантюк Ирина Викторовна Шешко Сергей Михайлович Минск 2006 г. Выпускная работа, 247.84kb.
*
Теперь на мгновение надо вернуться вспять.
К первой фазе всего процесса.
К фазе отбора первоначальных предметных деталей (тех са-
мых деталей, исходя из которых мы шли к цветооообщениям и
эмоционально-драматическим “истолкованиям” их~примени-
тельно к данной сцене).
Совершенно ли свободен их выбор?
И действительно ли целиком определяется обобщенная цвето-
вая драматургия оттого, что свечи оказываются горящими
красным пламенем, что венчики святых — желто-золотистые
и что царь Иван наряжал опричников в черные кафтаны?
Ведь с таким же успехом можно было бы исходить из цвета
рубах плясунов, которые “стали” красными уже как дерива-
тив от красного цвета свечек.
Ведь именно они — многоцветные и тонально разнообразные
рубахи— могли быть взяты за “исходное”, а бытовым опре-
делителем их цветового подбора могли служить и иные, не ме-
нее употребительные для того времени цветосочетания.
Правда, о значительной роли красного (алого) цвета и золота
для живописи эпохи Грозного пишет Грабарь2 (“История рус-
ского искусства”, том VI, “Живопись”, с. 318).
Описывая особенности иконы св. Троицы “с бытием”, относя-
щейся к этому времени, — “...сбитая композиция, нагромож-
дение полурусских форм в архитектуре и низведение горного
ландшафта до степени простого узора...” — Грабарь пишет:
“...Все это московские черты, чертой же, преимущественно
свойственной времени Ивана Грозного, является яркий алый
цвет, который “выскакивает” из общей низкой тональности
желто-коричневых охр и начинающих чернеть теневых мест.
Этот алый цвет мы встречаем, например, на царских вратах в
верхнем приделе московского старообрядческого храма Успе-
ния, где следует отметить и более значительную по сравнению
с новгородскими иконами сложность, даже как бы тревожность
линий в драпировках.
...Вместо прежних легких, светлых красок появились плотные
и землистые оттенки. Иконы перестали сиять и светиться. Уб-
ранство же их с большей охотой, чем это бывало в новгород-
ской иконописи, стало доверяться теперь золоту”.
Как видим, наша красно-золотая гамма из элементов, в соот-
282 Мемуары
ветствующие моменты “начинающих чернеть”, интуитивно сле-
дует даже исторически складывающейся во времена Грозного
доминирующей цветовой гамме.
И вместе с тем все это, однако, отнюдь не исключает того час-
того употребления оливково-зеленого и синего, которое мы
так часто встречаем на иконах рядом с пурпуром и оранже-
вым.
Следует ли отсюда вывод о том, что если бы мы шли не от пе-
речисленного нами ряда одних бытовых “определителей” (све-
чи, венчики, кафтаны), а взяли бы за исходное другой ряд бы-
тово характерных цветовых признаков эпохи, то и цветовые
обобщения, и образно-драматические их истолкования тоже
оказались бы другими?
И сцена ведущей своей гаммой имела бы зелено-голубое цве-
тосочетание, а на долю красного и оранжевого выпала бы
скромная роль контрастных “подпалин” — цветовых рефлек-
сов в духе Делакруа?
Конечно да.
Но какой отсюда следует делать вывод?
Следует ли полагать, что здесь все дело за случаем?
Что все дело в том, что на глаза автору раньше попались и рань-
ше успели его соответственно впечатлить и увлечь — свечи, вен-
чики и кафтаны, а не оливковая зелень, небесная лазурь или
глубокие лиловые тона, скажем, ангельских или святительских
групп на иконах?
Такой вывод был бы ошибочным.
Так в чем же дело?
А дело в том, что уже сам процесс первичного отбора не слу-
чаен.
Уже он идет под знаком некоего смутного предощущения тех
будущих цветовых “выводов”, которые дает обобщенное чте-
ние цветовых признаков, этих отдельных отобранных цвето-
вых характеристик бытово возможного и бытово характерно-
го.
И увлекает автора один ряд бытовых определителей цвета, а
не другой не потому, что один раньше попал в его поле зрения,
а другой — позже.
Но потому, что одни предметы и элементы своей цветовой ха-
рактеристикой оказываются созвучными тому смутному об-
щему предощущению общего звучания сцены, которое имеет-
ся у автора.
283 ИСТИННЫЕ ПУТИ ИЗОБРЕТАНИЯ
А другие элементы своим “цветовым звучанием” выпадают из
того эмоционального тона, в котором автор ощущает будущую
сцену.
У автора еще не сложилась окончательная цветовая характе-
ристика того цветового “трезвучия”, из черт которого он по-
строит всю цветовую образность своей сцены, но уже на этих
порах он отчетливо знает, что идет вразрез с его общим ощу-
щением сцены и что идет “в тон” с ней.
Так бывает всегда: почти что с первых же шагов на любом уча-
стке художественной работы автор уже знает, что будет “ти-
пичным не то”; и это иногда очень задолго до того, пока он
сумеет найти нужное и исчерпывающее “То” с большой буквы!
Так “забегает вперед” смутное предощущение окончательно-
го целого и обобщенного в фазы начальные и предваритель-
ные; влияет на них и пока еще подспудно и неосознанно для
самого мастера определяет первичный набор тех цветовых эле-
ментов эпохи и быта, из которых потом уже “сверстается”
твердая “цветовая гамма” драматического разрешения эпизо-
да, сцены, а иногда и целого фильма.
Ведь и в этом случае, как всегда в начале композиционной ра-
боты, всегда должно быть ощущение целого, — все же осталь-
ные фазы работы есть этапы кристаллизации, чеканки и дове-
дения до осязаемой конкретности этого основного, первично-
го и решающего ощущения, рождающегося в мыслях и чувст-
вах художника при встрече со своей темой, с предметом свое-
го будущего сказа.
[Премия за “Грозного”]
...На сцене стоял гроб с Хмелевым.
Когда-то он снимался у меня в “Бежином луге”1.
А позже, в 42-м году, когда незадолго до сталинградских боев
я прилетел в Москву, он вломился ко мне в номер гостиницы,
осыпая пьяными упреками за то, что не его я пригласил играть
Грозного у меня в картине”.
Сейчас он лежит в гробу.
И уже с мертвого с него сняли грим и бороду, облачение и коль-
ца, парик и головной убор Ивана Грозного.
Он умер во время репетиции2.
В разгар перипетий с судьбою Грозного на сцене — умер Алек-
сей Толстой3.
Недавно в Кремлевке меня навестил Юзовский.
Он с ужасом вспоминал, как еще первого февраля он говорил
со мною по телефону.
Я смеялся и говорил с ним о том, какая роковая опасность ра-
ботать над Грозным.
Умер Толстой. Умер Хмелев.
“А я жив”! — смеясь, кричали вы в телефона, — говорит мне
Юзовский.
А на следующую ночь...
В разгар банкета в Доме кино за мной приехали эти моторизо-
ванные санитарные дроги.
У меня уже отнимались руки и ноги.
Я вспоминал Old English Арлисса, но руки не деревенели, а мяк-
ли.
Я не поехал в санитарном автомобиле.
Я пошел к своей машине.
Может быть, это было подсознательно? Может быть, безот-
четно для самого себя я вспоминал другую ночь. Тоже зимнюю.
Годом раньше.
285 [ПРЕМИЯ ЗА “ГРОЗНОГО”]
В Барвихе.
Когда из соседнего со мною корпуса увозили другую жертву
Грозного — Толстого.
Я никогда не любил графа.
Ни как писателя,
ни как человека.
Трудно сказать почему.
Может быть, потому, как инстинктивно не любят друг друга
квакеры и сибариты, Кола Брюньоны и аскеты?
И хотя на звание святого Антония я вряд ли претендую — в
обществе покойного графа я чувствовал себя почему-то вроде
старой девы...
Необъятная, белая, пыльная, совершенно плоская солончако-
вая (?) поверхность земли где-то на аэродроме около Казалин-
ска или Актюбинска.
Мы летим в том же 42-м году из Москвы обратно в Алма-Ату.
Спутник наш до Ташкента — граф.
Ни кустика. Ни травинки. Ни забора. Ни даже столба.
Где-то подальше от самолета обходимся без столбика.
Возвращаемся.
“Эйзенштейн, вы пессимист”, — говорит мне граф.
“Чем?”
“У вас что-то такое в фигуре...”
Мы чем-то несказанно чужды и даже враждебны друг другу.
Поэтому я гляжу совершенно безразлично на его тело, уло-
женное в маленькой спальне при его комнате в санатории.
Челюсть подвязана бинтом.
Руки сложены на груди.
И белеет хрящ на осунувшемся и потемневшем носу.
Сестра и жена плачут.
Еще сидит какой-то генерал и две дамы.
Интереснее покойного графа — детали.
Из них — кофе.
Его сиделка безостановочно наливает кофе всем желающим и
не желающим.
Сейчас вынесут тело.
Уберут палату.
Ночью же тело увезут в Москву.
А утром уже кто-нибудь въедет сюда.
Можно не заботиться о скатерти.
Кофе наливается абсолютно небрежно.
286
Как бы нарочно стараясь заливать скатерть, на которой и так
расплываются большие лужи бурой жидкости.
Нагло на виду у подножия стола лежит разбитый сливочник.
Но вот пришли санитары.
Тело прикрыли серым солдатским одеялом.
Из-под него торчит полголовы с глубоко запавшими глазами.
Конечно, ошибаются.
Конечно, пытаются вынести его головою вперед.
Ноги нелепо подымаются кверху, пока кто-то из нянечек-ста-
рух не вмешивается.
Носилки поворачивают к выходу ногами.
Еще не сошли со ступенек первого марша, как в ванной комна-
те, разрывая тишину, полилась из крана вода.
И почти задевая носилки, туда прошлепала голыми ногами
уборщица с ведром и тряпкой...
*
Денно и нощно скребутся мотыги и лопаты в чреве Москвы.
Строится метро.
Девушки в костюмах горнорабочих вызывающе ходят по Теат-
ральной площади.
Подземная Москва живет своей жизнью.
В эти дни встречаю Пастернака.
Он живет на Арбате.
В доме над трассой.
Он пишет ночью.
И ему мешает подземный скрип, шуршание, лязг и визг.
Урбанизм подкапывается под поэта.
Утром он не может выйти из комнаты.
Дом осел.
Перекосился.
Перекосившись, зажал дверь-
Пастернак облокотился на широкий подоконник.
Вечер.
И мы где-то высоко над Москвой у кого-то в гостях.
В ночном воздухе резко и жалобно доносятся гудки парово-
зов.
“Паровозы — говорит, вздохнув, Пастернак, — единственные
честные люди, им тяжело, и они этого не скрывают”.
287 [ПРЕМИЯ ЗА “ГРОЗНОГО”]
Потом долго смотрит на меня карими глазами поверх зулус-
ских губ навыкат.
“Эйзенштейн, вы похожи на неубранную церковь...”
В те годы, годы “Встречного” и “Веселых ребят”, “Петербург-
ских ночей” и “Грозы”, мое положение в кино было именно
таким.
А как сейчас?
Церкви восстановлены и золотятся главы кремлевских собо-
ров.
В патриархи кино выходит Чиаурели с “Клятвой”.
За мною остается — Симеон-столпник!

[Формулы жизни]
Среди рассказов, легенд, пьес, которые не только нравятся в
юности, но формируют ряд представлений, устремлений и “иде-
алов”, я помню очень отчетливо три, имевших несомненно глу-
бокое на меня влияние.
Первое — даже не рассказ или легенда, а строчка соображе-
ния не то из “Печали сатаны” Мэри Корелли, не то из какого-
то романа Виктории Кросс (автора “Six chapters of man's life”*).
Соображение о философии: что философия подобна кока-
ину — она убивает чувство радости, но зато избавляет от чув-
ства боли.
Для меня это имело роковые последствия. Чувство радости во
мне убивалось неукоснительно, но против чувства боли “фи-
лософия” оказалась бессильной.
И боже мой! Только я один знаю всю бездонность чувства боли
и горечь страданий, через которые, как через круги ада, дви-
жется из года в год мой личный, слишком личный внутренний
мир-
Вторым впечатлением, подхваченным где-то очень рано и очень
меня впечатлившим, была какая-то легенда, кажется из пер-
сидского народного эпоса.
О некоем силаче, будущем богатыре, с детства имевшем при-
звание к свершению чего-то очень великого.
В целях этого будущего свершения он не дает себе права рас-
ходовать свои силы до полного достижения их расцвета.
Он идет на базар, и на него наседают, кажется, кожевенники.
“Поклонись нам в ноги и ляг в базарную грязь, чтобы мы мог-
ли пройти по тебе”, — издеваясь, кричат они ему.
И будущий витязь, сберегая силы для будущего, покорно сте-
лется под ноги их — в грязь.
_____
* “Шесть глав из жизни человека” (англ.).
289 [ФОРМУЛЫ ЖИЗНИ]
Как полагается, это, кажется, происходит до трех раз.
Дальше витязь мужает, вступает в совершенное владение свои-
ми неслыханными силами и совершает весь положенный ему
набор неслыханных подвигов.
Этот эпизод с кожевенниками, неслыханное самообладание и
жертва всем, вплоть до самолюбия, в целях достижения и осу-
ществления изначально положенного и возложенного, меня
ужасно пленил.
В моих работах этот мотив отчетливо проступает дважды.
В неосуществленной части сценария “Александр Невский”, где
вслед за разгромом немцев на Чудском озере на Россию снова
надвигается с карающей целью татарская орда.
Невский-победитель мчится ей навстречу.
Безропотно проходит между очистительными кострами перед
ханской юртой-дворцом и смиренно преклоняет колени перед
самим ханом, покорностью выигрывая время для накопления
сил, чтобы со временем низвергнуть и этого поработителя на-
шей земли, хотя уже и не собственной рукой, но мечом потом-
ка-продолжателя — Дмитрия Донского.
По пути обратно из орды отравленный князь умирал, глядя на
далекое поле — Куликово поле — перед собой. Мы с Павлен-
ко заставили для этой цели нашего святого воителя сделать по
пути домой малый крюк в сторону против исторического мар-
шрута, которым в действительности двигался из орды обратно
Александр Ярославич, так и не доехавший до родных пенат.
Не моей рукой была проведена карандашом красная черта вслед
за сценой разгрома немецких полчищ.
“Сценарий кончается здесь, — были мне переданы слова. — Не
может умирать такой хороший князь!”
Но если ни князь и ни святой из рук моих во имя высшей цели
не был поставлен на колени, то царь Иван Васильевич Грозный
не избег этой участи.
Казанский победитель тотчас же после максимального взлета
славы в грохоте литавр на фоне мчащихся туч, только что вы-
сившийся над извергающими гром пушками, в следующей же
сцене восходит еще на одну высшую ступень славы — сокру-
шенно и уничиженно низвергаясь к золотым подолам парчо-
вых боярских шуб, в слезах умоляя каменную когорту бояр не
раздроблять Руси после надвигающейся кончины трясущего-
ся в лихорадке первого боговенчанного самодержца Россий-
ского государства...
290 Мемуары
В личной, слишком личной, собственной моей истории нередко
шел и я сам на эти подвиги самоуничижения.
И в личной, самой личной, сокровенной личной моей жизни,
может быть, слишком даже часто, слишком поспешно, почти
что слишком даже охотно и тоже... безуспешно.
Впрочем, потом, “по истечении времени”, и мне иногда, как
Грозному, удавалось рубать головы, торчащие из шуб; у гордых
золоченых подолов мы вместе с Грозным царем катались, прини-
мая унижение во имя самых страстных наших устремлений...
С моей стороны рубка была, конечно, метафорической.
И чаще, занося меч над чужой головой, я сносил ударом не
столько ту голову, сколько свою собственную.
Третьим впечатлением был “Шоколадный солдатик” Бернар-
да Шоу в очень нежные, романтические и героически настро-
енные годы — беспощадностью иронии, казалось бы, навсегда
остудивший юношески пламенную тягу к пафосу.
А потом всю жизнь я волок героико-патетическую лямку эк-
ранных “полотен” героического стиля!..
Здесь может воспоследовать описание сцены моего посеще-
ния Бернарда Шоу в Лондоне в 1929 году, завершившегося по-
сылкой (им) мне радиограммы, застигнувшей меня в самом цен-
тре Атлантического океана на путях в САСШ и предлагавшей
мне ставить “Шоколадного солдатика” в кино “при условии
сохранения полного текста в совершенно неискаженном виде”.
Ретроспективное осмысление через это той безустанной атмо-
сферы вербующего “шарма”, которым он окружил меня во вре-
мя пребывания у него. Великая честь этого предложения, ис-
ходившего от человека, наотрез и ни за какие деньги никому
до того не дававшего права на киноинсценировку его произве-
дений.
Наравне с Максимом Горьким еще один крупный писатель, чье
предложение ставить его творения мною было turned down*.
И здесь, естественно, просится описание моей поездки в Горки
к Горькому, чтобы прослушать сценарий, который он хотел
видеть поставленным моими руками1.
И старик до самой своей смерти — я после этого видел его еще
несколько раз — так и не мог забыть и простить мне этот out-
rage**...
_________
* — отвергнуто (англ.).
** — оскорбительный поступок (англ.).
Автор и его тема
Двадцать лет спустя
(1925 — 1945: от “Броненосца” к “Грозному”)
Прошло двадцать лет...
Два раза по десять.
То есть дважды срок давности, снимающий с виновного судеб-
ную ответственность за его деяния, а с добивающегося прав —
основание для притязаний.
Мне кажется, что этот срок дает нам право о “Броненосце” и
его авторе писать как о третьем лице и о предмете посторон-
нем; как о предмете и лице, объективно вне нас существующих
и лишь благодаря счастливой (?) случайности нам более или
менее знакомых и более подробно известных, нежели ряду дру-
гих исследователей.
Будем об авторе и картине писать со стороны, не стесняясь
симпатии, которую мы питаем к обоим, и используя доступ к
ряду материалов, никому другому не известных и вовсе даже
не доступных.
И раз мы уже взялись писать об авторе “Броненосца “Потем-
кин” как о лице постороннем, постараемся это сделать соглас-
но канону, которого в этом вопросе требовал еще... Белин-
ский.
“...От современной критики требуют, чтобы она раскрыла и
показала дух поэта в его творениях, проследила в них преоб-
ладающую идею, господствующую думу всей его жизни, всего
его бытия, обнаружила и сделала ясным его внутреннее созер-
цание, его пафос...” (“Стихотворения Баратынского”, 1842).
Среди проблем, по поводу которых ужасно легко развить не-
ограниченное литературное многословие, очень популярна сле-
дующая:
Автор и его тема.
292 Мемуары
Существует ли у авторов подобная “сквозная” тема или нет;
всегда ли существует; как к ней относится изменяющийся ряд
произведений и т.д. и т.д. — все это точно не очень известно —
а потому это невероятно благодарная почва для нескончаемых
умозаключений и догадок.
Какая-то доля истины, видимо, есть.
Некоторые исследователи находят подтверждение этому даже
в простом сопоставлении заглавий.
Так, например, автор давно вышедшей и разошедшейся книжеч-
ки “Поэтика заглавий” Крижановский приводит ряд примеров
этому из литературы нашей и иностранной.
Основная тема Дж. Лондона — род — и подавляющее большин-
ство заглавий его сочинений говорит именно об этом.
В отношении Гончарова автор идет еще дальше, считая, что тема
Гончарова даже связана с определенным звуковым символом —
“Об”.
Звуковой символ этот проходит через цепь основных творе-
ний автора (“Об-рыв”, “Об-ломов”, “Об-ыкновенная исто-
рия”), а сочинение, по внутреннему своему ходу долженство-
вавшее противостоять этому ряду (и неосуществленное) и са-
мим своим заглавием должно было противостоять им: “Не-
об-ыкновенная история”.
К подобного рода примерам можно было бы присовокупить
строгую приверженность заглавий к определенной формуле,
как это имеет место у одного из самых плодовитых и лучших
авторов детективных романов “золотой эры” этого жанра в
Америке — С.С. Ван-Дайна (тридцатые годы нашего столетия).
Здесь все названия одинаковы по типу: “The Canary murder
case”, “The dragon murder case”, “The kennel murder case” и
т.д.
Причем мало этого — в каждом из названий то обозначение,
которое дает характеристику самого случая убийства, обяза-
тельно имеет... шесть букв: canary (канарейка), dragon (дракон),
kennel (собачий питомник), garden (сад), scarab (скарабей), ca-
sino (казино), Benson (фамилия Бенсон), Greene (фамилия Грин),
Bishop (сложная игра слов, дающая основания к ложным хо-
дам внутри детективного расследования, где его читают то как
“епископ”, то как фамилия Бишоп, то, наконец, как обозначе-
ние шахматной фигуры — “туры”) и т. д.
В какой-то из своих статей сам автор этих романов (посред-
ственный искусствовед и литературный неудачник на поприще
293 АВТОР И ЕГО ТЕМА
серьезной литературы, заработавший на детективах громадные
деньги) отмечает это обстоятельство.
Он объясняет это... суеверной приметой: первое подобное за-
главие принесло ему удачу и он свято придерживается той
формулы заглавия, которая связана у него с первым литера-
турным успехом!
Конечно, самый разговор о заглавиях лишь отмечает поверх-
ностную примету, касающуюся сущности вопроса, вероятно за-
ложенного очень глубоко.
Решать данный вопрос я не берусь. И хочу ограничиться лишь
одним примером строгого наличия подобной “сквозной темы”,
ибо уж очень увлекательно и соблазнительно развернуть по-
добное положение у автора, одинаково ответственного за по-
добные, казалось бы, несовместимые по темам opus'ы, как
“Броненосец “Потемкин” и “Иван Грозный”.
Что может быть более разительно несхожего, чем темы и раз-
работка подобных двух сочинений, по времени отстоящих друг
от друга на двадцать лет?
Коллектив и масса — там.
Единодержавный индивид — здесь.
Подобие хора, сливающееся в коллективный облик и образ, —
там.
Резко очерченный характер — здесь.
Отчаянная борьба с царизмом — там.
Первичное установление царской власти — здесь.
Если здесь, на этих двух крайностях, темы кажутся разбежав-
шимися во взаимно исключающие друг друга противополож-
ности, то, что между ними, на первый взгляд кажется просто
невообразимым хаосом совершенно случайно разбросанной
тематики.
О “теме автора”, да еще “единой” или “сквозной”, казалось
бы, смешно и думать, наивно говорить.
Действительно!
Считая осуществленное наравне с задуманным: тут и краткая
повесть о некой единичной забастовке (“Стачка”); тут и венок
экзотических новелл на фоне мексиканской панорамы (“Que
viva Mexico!”); тут и эпическое изложение Октябрьского пе-
реворота 1917 года (“Октябрь”) и вдруг рядом — “Американ-
ская трагедия” (по роману Теодора Драйзера), история черно-
кожего короля Гаити — Анри-Кристофа, из освободителя сво-
его острова ставшего его тираном; героическая борьба Алек-
294 Мемуары
сандра Невского против тевтонов-интервентов XIII века —
“псов-рыцарей”; и внедрение коллективного хозяйства в об-
становке отсталой деревни (“Старое и новое”); история капи-
тана Зуттера, на чьей земле в Калифорнии впервые было обна-
ружено золото в 1848 году; и история восстания на мятежном
броненосце; сценарий о строительстве ферганского канала (в
1939 году), своеобразный исторический триптих (первая часть
включала в себя эпизоды из войн Тамерлана, напечатаны в
“Искусстве кино” за 1939 год1); и в папках — подробно разра-
ботанный сценарий о... Пушкине, цветовой и очень интимно
личный из жизни поэта, по теме, так блестяще затронутой
Ю. Тыняновым сперва в статье “Безыменная любовь” (“Лите-
ратурный критик”, № 5,1939 года) и затем значительно менее
интересно развернутой в третьей части “Пушкина”... И, нако-
нец, фильм о титане прошлого — Иване Грозном и учрежде-
нии единодержавия в Московском государстве XVI века!
Конгломерат явно несовместимого и несоизмеримого — оче-
видный даже для самого невооруженного взгляда.
И нужно быть достаточно маниакально-одержимым, чтобы
стараться в этой тематической пестроте искать тематическое
единство, искать единую тему, подлежащую всему этому раз-
но- и многообразию.
Прощупать у автора одну сквозную “господствующую думу
всей его жизни” (нет, может быть, не всей, но двадцатипяти-
летнего отрезка ее, во всяком случае: 1920 — 1945).
Пока запомним эту тенденцию — искать единое в пестроте мно-
гообразия, а касающееся маниакальной одержимости обнару-
жим с лихвою впереди!
Сейчас же вооружимся малою толикою терпенья и разберем-
ся подробнее в том, о чем толкует каждое из этих сочинений.
При этом отчетливо будем помнить, что дело идет здесь не об
отдельных нарядах и облачениях, исторических ситуациях или
положениях той или иной картины, этнографической случай-
ности облика, — а в каждом отдельном случае о тех элементах
внутри темы, которые эмоционально влекли автора браться за
тот или иной сюжет — большинство из коих вольный выбор
автора, во всяком случае всегда “личный поворот” внутри темы,
и во всех случаях — самостоятельное сочинительство самого
материала фильма.
При этом независимо даже от того, был ли это государствен-
ный заказ — ибо тогда из эпопеи “1905 год” возникает эпизод
295 АВТОР И ЕГО ТЕМА
“Потемкина”; или инсценировка — и тогда она либо должна
быть очень близка автору по разворачиванию событий (“Зо-
лото Зуттера” Блэза Сандара) или по психологической подо-
плеке вещи (подмеченное Тыняновым в Пушкине); или полная
свобода выбора темы (“Que viva Mexico!”)...
Единство
Если бы я был сторонним исследователем, я бы о себе сказал:
этот автор кажется раз и навсегда ушибленным одной идеей,
одной темой, одним сюжетом.
И все, что он задумывал и делал, — это не только внутри от-
дельных фильмов, но и сквозь все его замыслы и фильмы —
всегда и везде одно и то же.
Автор пользует разные эпохи (XIII, XVI или XX век), разные
страны и народы (Россию, Мексику, Узбекистан, Америку), раз-
ные общественные движения и процессы внутри сдвига в от-
дельных социальных формах почти неизменно как сменяющие-
ся личины одного и того же лика.
Лик этот состоит в воплощении конечной идеи — достижения
единства.
На русском, революционном и социалистическом материале
это проблема единения национально-патриотического (“Алек-
сандр Невский”), государственного (“Иван Грозный”), коллек-
тивно-массового (“Броненосец “Потемкин”), социалистичес-
ки-хозяйственного (колхозная тема “Старого и нового”), ком-
мунистического (“Ферганский канал”).
На почве иностранной это — либо та же тема, видоизменен-
ная в соответствующих национальных аспектах, либо “тене-
вая” и непременно трагически окрашенная обратная сторона
все той же темы, оттеняющая позитивную тему всего opus'a
совершенно так же, как, например, основная “светлая” патри-
отическая тема “Невского” оттеняется мрачными эпизодами
расправы немцев над Псковом, стоящим за единство Руси.
Таковы трагедии индивидуализма, запланированные во время
нашего западного турне — “Американская трагедия”, “Золо-
то Зуттера” (рай первобытной патриархальной Калифорнии,
разрушаемой проклятием золота — совершенно в морально-
этической системе самого генерала Зуттера — противника зо-
лота), “Черное величество” (о гаитянском герое освободитель-
296 Мемуары
ных революционных боев рабов-гаитянцев против колонизато-
ров-французов, сподвижнике Туссена-Лувертюра — ставшем
императором гаитянским, [Анри]-Кристофом, погибающим че-
рез индивидуалистический отрыв от своего народа), “Ферган-
ский канал” (снова “гимн” коллективистическому единению в
социалистическом труде, единственно способному обуздать
силы природы — воду и пески, которым дали волю человечес-
кие распри среднеазиатских войн Тамерлана, с распадом чьего
государства начинается торжество пустыни; и свергнуть иго по-
рабощенности природой, под которой томились народы Азии
одновременно с порабощенностью царской Россией.
Наконец, “Que viva Mexico!” — эта история смен культуры, дан-
ная не по вертикали — в годах и столетиях, — а по горизонта-
ли — в порядке географического сожительства разнообразней-
ших стадий культуры — рядом, чем так удивительна Мексика,
знающая провинции господства матриархата (Техуантепек) ря-
дом с провинциями почти достигнутого в революции десятых
годов коммунизма (Юкатан, программа Сапаты и т.д.) — и она
имела центральным эпизодом идею национального единения:
исторически — объединенное вступление в столицу — Мехи-
ко — объединенных сил северянина Вильи и южанина Эмилиа-
но Сапаты, а сюжетно — фигуру мексиканской женщины — со-
лдадеры, переходящей с той же заботой о мужчине из группы
в группу враждующих между собою мексиканских войск, раз-
дираемых противоречиями гражданской войны. Как бы вопло-
щая физически образ единой национально объединенной Мек-
сики, противостоящей международным интригам, старающим-
ся расчленить народ и натравить разъединенные его части друг
на друга.
Еще резче возразят мне здесь: это тем более доказывает, что
все излагаемые наблюдения относятся целиком лишь к вам,
автору, уже абсолютно toque* — ушибленному одной, может
быть и почтенной, но все же одной идеей.
И тем более свирепо буду вынужден ответить я, что вовсе нет,
и опять-таки “в разбираемом случае” мы имеем лишь пример
сугубо, быть может, подчеркнутой черты, абсолютно общей.
И снова, быть может, лишь более наглядной и обнаженной [...]
Процесс освоения материала, то есть делания материала “сво-
им”, осуществляется в тот момент, когда при встрече с этим
__________
* — помешанному, одержимому (франц.).
297 АВТОР И ЕГО ТЕМА
материалом действительности он начинает размещаться по сет-
ке абрисов и контуров того особого строя, в который сложи-
лось формирующееся сознание.
Безразлично: встреча ли это с неожиданно новой страной и
средой, встреча ли это с обликом ушедшей эпохи, встречи ли
лицом к лицу с эпохою своею, собственной.
Я познал все виды подобных встреч: и с неведомой страной,
внезапно представшей передо мною; и с эпохою прошлого, вне-
запно развернувшегося передо мною; и лицом к лицу со своим
временем.
Я встретился и с разными возможностями внутри этих встреч.
С мнимым совпадением моей сетки с контуром встречного яв-
ления и болезненным разломом произведения; с еще не разре-
шенными встречами и великолепным ощущением встреч абсо-
лютного совпадения. Я могу говорить об этом из личного опы-
та.
В каждом из нас — как бы сложный узел, похожий на хитро-
сплетенные узлы Леонардо для Академии Миланды2, расчер-
ченные им на потолках.
Мы встречаем явление.
И схема этого узла как бы накладывается на явление.
Черты одного совпадают или не совпадают.
Совпадают частично.
Частями.
Не совпадают.
Насилуют друг друга в целях этого совпадения.
Иногда ломая строй и очертания действительности в угоду аб-
рису индивидуального хотения.
Иногда насилуя индивидуальности в целях “синхронизации” с
требованиями того, с чем столкнулся.
Впрочем, примеров последнего случая в собственной практике
не запомню, но зато имею немало образцов, иллюстрирующих
предыдущее положение...
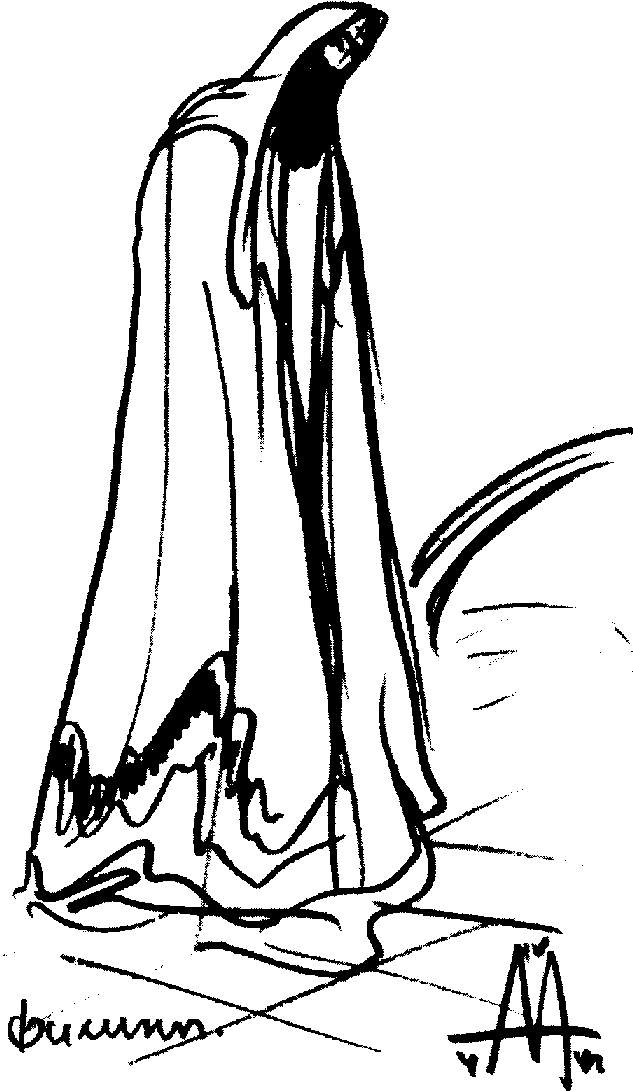
| Профили |
[О Мейерхольде]
Последний носитель настоящего Театра. Театра с большой бук-
вы. Театра другой эпохи —
умер.
Наиболее совершенный выразитель Театра. Театра вековой
традиции. И сам блестящий Театр —
умер.
