Давид юм сочинения в двух томах: том 1
| Вид материала | Реферат |
- Давид юм сочинения в двух томах тоμ, 12223.9kb.
- Рене декарт сочинения в двух томах том, 9502.28kb.
- Источник: Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Сочинения, 565.43kb.
- Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Сочинения в восемнадцати, 751.72kb.
- Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Сочинения в восемнадцати, 620.01kb.
- Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Сочинения в восемнадцати, 669.46kb.
- Анна Ахматова. Сочинения в двух томах, 5.38kb.
- Борис Пастернак. Сочинения в двух томах, 5.69kb.
- Готфрид вильгельм лейбниц сочинения в четырех томах том, 12182.14kb.
- Публичная лекция, 468.37kb.
^ Юма и теории махистов и неокантианцев, В. И. Ленин
сделал вывод, что «агностик—чистый «позитивист»»* и что «современный позитивизм есть агностицизм» **. В философии Юма и его последователей Ленин видел яркое отражение одной из сторон эволюции буржуазного сознания: утрачивая прогрессивные функции в политике и идеологии, западноевропейская буржуазия со все большей охотой возвращается к агностическим воззрениям. Нежелание прогресса приводит к неверию в прогресс, а последнее переходит в неверие в познавательные возможности человека вообще. В новейших исследованиях буржуазных историков философии мы находим признание, что на одну страницу, прочитанную позитивистами XX в. у И. Канта, приходится чуть ли не сотня страниц, прочитанных ими у Юма ***, и что теоретически Юм гораздо ближе к Витгенштейну, чем к позитивистам XIX в. «Два его основных понятия, а именно принцип первичности впечатлений по отношению к идеям и разграничение между фактами и отношениями идей, освобожденные от их психологизма, стали двумя известными краеугольными камнями эмпиризма (читай: неопозитивизма.—И. Н.), т. е. принципом верифицируемое™ и принципом аналитичности» ****.
С момента своего возникновения марксистско-ленинская философия объявила решительную войну как концепции «науки наук», так и плоскому позитивизму и агностицизму. Странно поэтому читать заявления, будто принципы юмовско-позитивистского эмпиризма «вполне марксистские» *****, а понятие непосредственно данного надо включить в диалектический материализм как «ценное» его обогащение ******. Конечно,
В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 18, стр. 107. ·* Там же, стр. 174; ср. стр. 214.
«** «philosophical Analysis. A collection of essays». Ed. by Max Blacli Prentice — Hall. 1963, p. 13.
*** Farhang Zabeeh, Hume, precursor of modern empiricism. An analysis of his opinions on Meaning, Metaphysics, Logic and Mathematics, The Hague, 1960, p. 158.
**** «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», 1958, N 5, S. 708.
***** «Studia filozoficzne», 1963, N l, s. 127.
==62
в своей критике причинности Юм нащупал действительные слабости метафизического материализма картезианской и ньютонианской формации, и их преодоление стало одной из задач материалистической философии в последующем ее развитии. Но Юм и позитивисты пошли совсем не по этому единственно прогрессивному пути. И если анализ ими трудностей перехода от инстинктов и привычек к мышлению, от наблюдаемой последовательности явлений к их сущностной каузальной связи, от моральных и художественных вкусов к их объективной подоплеке и т. д. по-своему поучителен, то «учиться» у них решению проблем диалектическим материалистам все же никак не приходится. Недостаточность метафизического материализма преодолевается не отказом от материализма, но его развитием и преодолением метафизического метода познания.
В наши дни позитивизм — это чрезвычайно типичное явление упадка буржуазной духовной культуры. Это не идеология империалистической агрессии в непосредственной ее форме и не религиозный иррационализм. Неопозитивизм, например, внешне складывался как реакция на неогегельянство, феноменологию, бергсонизм и неосхоластику, подобно тому как агностицизм Юма складывался как реакция на католический и англиканский спиритуализм. Но как философия Юма, так и неопозитивизм отнюдь не в равной мере «жертвуют» материализмом и религией. Юм запрещал теории выходить за пределы явлений. Неопозитивисты XX в. запрещают выходить философии за пределы языка. В обоих случаях именно религия получает ободряющую санкцию на свою духовную экспансию; на это, например, вполне определенно указывает неотомист Ф. Коплестон в своей «Современной философии».
Длительная история позитивизма в расширенной форме воспроизвела переход Д. Юма от убеждений в абсолютной правильности скептической позиции к осознанию ее сомнительности. И если агностицизм и позитивизм существуют до сих пор, то виной этому социальные причины. Отчужденное в теоретической форме неверие в будущее своего класса и свои духовные возможности сохраняется пока реакционными силами
==63
==64
00.php - glava02
АВТОБИОГРАФИЯ
отжившего свой век, но все еще цепляющегося за жизнь капитализма. Это неверие все чаще перемещается в плоскость буржуазного обыденного сознания, уже не способного нацело отвергнуть науку, но в то же время от нее отшатывающегося и бессильного ее постигнуть. Таковы настроения витгенштейнианцев и экзистенциалистов, многим обязанных феноменализму Юма.
« «
Настоящее издание сочинений Давида Юма в двух томах, проспект которого подвергся обсуждению в Институте философии АН СССР и на философском факультете МГУ, за что составитель и редакция выражают свою признательность, впервые познакомит советскую философскую общественность с многосторонним творчеством выдающегося британского философа XVIII в.
В частности, в первый том входит впервые издаваемый на русском языке в полном составе «Трактат о человеческой природе». Во втором томе читатель найдет эссе Юма на политические, экономические, морально-эстетические и другие темы, работы по религии, извлечения из «Истории Англии» и переписки философа, а также «Исследование о человеческом познании», «Исследование о принципах морали» и «Исследование о страстях», в форме которых Юм популяризировал идеи «Трактата», заодно придав им вид, соответствующий его взглядам на позднем этапе его творчества.
Критическое изучение сочинений Д. Юма необходимо для всех тех, кто хочет сделать свое понимание закономерностей упадка буржуазной философии в наши дни более глубоким и конкретным, не говоря уже о более верпом понимании особенностей ее противоречивой эволюции в прошлом.
^ И. С. Нарский
==65
==66
Человеку, который долго говорит о себе, трудно избежать тщеславия; поэтому я буду краток. Можно усмотреть признак тщеславия уже в самом замысле — описать свою жизнь, но это описание будет содержать мало чего иного, кроме истории моих сочинений, ибо воистину почти вся моя жизнь была посвящена литературным трудам и занятиям. Первоначальный успех большей части моих сочинений вовсе не был таковым, чтобы возбудить во мне тщеславие.
Я родился 26 апреля 1711 года по старому стилю в Эдинбурге. Как мой отец, так и моя мать принадлежали к добропорядочной фамилии. Семья отца составляет ветвь графов Гоум (Ноше), или Юм (Hume), и мои предки в течение многих поколений владели тем поместьем, которое теперь принадлежит моему брату. Мать была дочерью сэра Давида Фальконера, президента судейской коллегии; титул лорда Галкертон (На1kerton) перешел по наследству к ее брату.
Несмотря на это, моя семья не была богата, и так как я был младшим братом, то причитавшаяся мне доля наследства была, по обычаю моей страны, очень мала. Отец, считавшийся даровитым человеком, умер, когда я был еще ребенком, оставив меня вместе со старшим братом и сестрой на попечении нашей матери, женщины редких достоинств, которая, несмотря на свою молодость и красоту, всецело посвятила себя воспитанию и образованию своих детей. Я с успехом прошел
==67
элементарный курс наук и очень рано почувствовал влечение к литературе, которое было господствующей страстью моей жизни и главным источником моих наслаждений. Мои склонности к наукам, трудолюбие и серьезность внушили моей семье мысль, что мое призвание — адвокатура; но я чувствовал глубокое отвращение ко всякому другому занятию, кроме изучения философии и общеобразовательного чтения, и, в то время как мои родные думали, что я увлекаюсь Вётом (Voet) и Виннием (Vinnius), втайне пожирал Вергилия и Цицерона.
Однако скудость средств, совсем не соответствовавших этому плану жизни, и слабость здоровья, расстроенного чрезмерным прилежанием, заставили меня попытать счастье на другом, более практическом поприще. В 1734 году я приехал в Бристоль, будучи снабжен рекомендациями, адресованными к крупным коммерсантам, но спустя немного месяцев увидел, что совершенно непригоден для этого рода деятельности. Я отправился во Францию с целью продолжать свои занятия в провинциальном уединении и тогда же составил себе план жизни, который позже осуществлял неуклонно и с успехом. Я решил Еозмещать скудость моих средств самой строгой бережливостью, дабы оберегать мою независимость и не обращать внимания на что-либо, кроме усовершенствования моего литературного таланта.
Во время пребывания во Франции (сначала в Реймсе, а потом главным образом в Ла-Флеше в Анжу) я написал «Трактат о человеческой природе». Проведя в этой стране три приятных года, я в 1737 году вернулся в Лондон. В конце 1738 года я издал свой «Трактат» и тотчас отправился к матери и брату, который жил в деревне и с большим благоразумием и успехом старался улучшить свое материальное положение.
Едва ли чей-нибудь литературный дебют был менее удачен, чем мой «Трактат о человеческой природе». Он вышел из печати мертворожденным, не удостоившись даже чести возбудить ропот среди фанатиков. Но, отличаясь от природы веселым и пылким темпераментом, я очень скоро оправился от этого удара и с большим
==68
усердием продолжал мои занятия в деревне. В 1742 году я напечатал в Эдинбурге первую часть моих «Опытов»; книга встретила радушный прием, который вскоре заставил меня совершенно забыть предшествовавшую неудачу. Я по-прежнему жил с матерью и братом в деревне и в течение этого времени упрочил свои познания в области греческого языка, которым я слишком пренебрегал в годы молодости.
В 1745 году я получил письмо от маркиза Аннандэля, приглашавшего меня приехать к нему в Англию; вместе с тем я узнал, что друзья и родственники молодого маркиза хотят поручить его моему попечению и руководству, так как состояние его духа и здоровья делало это необходимым. Я прожил с ним год. Жалованье, полученное мной за это время, значительно увеличило мое маленькое состояние. Вслед за тем я получил приглашение от генерала Сен-Клэра сопровождать его в звании секретаря в экспедиции, которая вначале замышлялась против Канады, но кончилась как набег на берега Франции. В следующем, т. е. 1747, году генерал, назначенный военным посланником в Вену и Турин, снова просил меня следовать за ним в прежнем звании. Я надел офицерский мундир и был представлен Этим двум дворам в качестве адъютанта генерала, как и сэр Гарри Эрскин и капитан Грант, теперь генерал. За всю мою жизнь эти два года были почти единственным перерывом в моих занятиях; я провел их приятно и в хорошем обществе, а состояние мое благодаря значительному жалованью и бережливости увеличилось настолько, что я считал себя уже вполне обеспеченным, хотя мои друзья улыбались, когда я говорил это; словом, я имел тогда около тысячи фунтов.
Я всегда думал, что неуспех моего «Трактата о человеческой природе» объясняется скорее его формой, нежели содержанием, и что я сделал очень обычную ошибку, слишком рано обратившись к печати. Поэтому я заново переделал первую часть этого сочинения в «Исследование о человеческом познании», вышедшее в свет во время моего пребывания в Турине. Но вначале указанный труд встретил не лучший прием, чем «Трактат о человеческой природе». Вернувшись из Италии, я
==69
мог с огорчением видеть, как вся Англия волнуется по поводу «Свободного исследования» д-ра Миддльтона, тогда как мое сочинение осталось незамеченным и было совершенно забыто. Такой же прием встретило и второе издание моих «Моральных и политических опытов», вышедшее в Лондоне.
Но такова сила врожденного темперамента, что все ати неудачи оказали незначительное влияние или совсем не повлияли на меня. В 1749 году я вернулся к брату и провел с ним два года в деревне, потому что матери уже не было в живых. Там я написал вторую часть «Опытов», которую назвал «Политическими беседами», и «Исследование о принципах морали», составляющее переработку второй части «Трактата» '.
Между тем мой издатель А. Милляр известил меня, что мои книги (все, за исключением злополучного «Трактата») начинают привлекать к себе внимание: о них говорят, их все более покупают и уже требуют новых изданий. В течение года появилось два-три ответа со стороны духовных лиц, подчас весьма высокопоставленных, и ругань д-ра Уорбэртона 2 показала мне, что мои сочинения начинают ценить в хорошем обществе. Но я принял решение, которого позже неизменно придерживался, не отвечать ни на какие нападки и, не будучи вспыльчивым от природы, легко воздерживался от всякого рода литературных споров. Эти симптомы нарождающейся известности вселили в меня бодрость, ибо я всегда был склонен видеть скорее приятную, чем неприятную сторону вещей, что является способностью, которая может сделать человека счастливым вернее, чем обладание с самого дня рождения ежегодным доходом в десять тысяч фунтов.
В 1751 году я переселился из деревни в город, настоящую арену деятельности всякого литератора. В 1752 году в Эдинбурге, где я жил тогда, вышли «Политические беседы»— единственное из моих произведений. имевшее успех с момента публикации: оно было хорошо принято и за границей, и на родине. В том же году в Лондоне вышло «Исследование о принципах морали», по моему мнению (хотя мне не следовало бы выступать судьей в этом деле), лучшее из всех
К оглавлению
==70
моих сочинений исторических, философских или литературных. Оно не было замечено.
В 1752 году Общество юристов избрало меня своим библиотекарем3; указанная должность не приносила мне почти никаких доходов, но давала возможность пользоваться обширной библиотекой. В это время я принял решение написать «Историю Англии», но, не чувствуя в себе достаточно мужества для изображения исторического периода продолжительностью в семнадцать веков, начал с воцарения дома Стюартов ибо мне казалось^ что. именно с этой эпохи дух партии наиболее исказил освещение исторических фактов;- -Признаюсь, я был почти уверен в успехе данного сочинения. Мне казалось, что я буду единственным историком, презревшим одновременно власть, выгоду, авторитет и голос народных предрассудков; и я ожидал рукоплесканий, соответствующих моим усилиям. Но какое ужасное разочарование! Я был встречен криком неудовольствия, негодования, почти ненависти: англичане, шотландцы и ирландцы, виги и тори, церковники и сектанты, свободомыслящие и ханжи (religionist), патриоты и придворные — все соединились в порыве ярости против человека, который осмелился великодушно оплакать судьбу Карла I и графа Страффорда; и, что обиднее всего, после первой вспышки бешенства книга была, казалось, совсем забыта. Г-н Милляр говорил мне, что он продал в течение года не более сорока пяти экземпляров. Действительно, во всех трех королевствах едва ли был хоть один человек, пользовавшийся некоторой известностью в обществе или литературной славой, который относился бы к моей книге снисходительно. Я должен, впрочем, указать на примаса Англии д-ра Герринга и примаса Ирландии д-ра Стоуна (Stone) как на два любопытных исключения: эти почтенные прелаты прислали мне по ободряющему письму.
Между тем, признаюсь, я был обескуражен; если бы не война, вспыхнувшая в то время между Англией и Францией, я, вероятно, удалился бы в один из провинциальных городов последней, переменил имя и никогда не возвратился на свою родину. Но так как такой план был тогда неисполним и второй том уже значительно
==71
подвинулся вперед, то я решил крепиться и продолжать.
Между тем я издал в Лондоне «Естественную историю религии» вместе с некоторыми другими небольшими статьями; она прошла незамеченной, если не считать памфлета, которым ответил мне д-р Герд (Hurd), невежественно раздраженного, высокомерного и оскорбительно грубого, каковые [качества вообще] отличают школу Уорбэртона. Этот памфлет на фоне общего равнодушия, которым была встречена эта книга, несколько утешил меня.
В 1756 году, через два года после провала первого тома, вышел в свет второй том моей «Истории», охватывающий период от смерти Карла I до Революции. Этот том возбудил в вигах менее неудовольствия и был лучше принят; он не только разошелся сам, но и помог пробиться своему несчастному брату.
Однако, хотя опыт показал мне, что в руках вигов находится власть распределять все места как в государстве, так и в литературе, я был так мало расположен уступать их неразумным требованиям, что почти все изменения числом около ста, которые чтение, размышление и новые исследования заставили меня внести в историю первых двух Стюартов, благоприятны для торийской партии. Смешно рассматривать английскую конституцию до этого периода как последовательное (regolar) воплощение свободы.
В 1759 году я издал мою «Историю дома Тюдоров». Это сочинение вызвало против себя почти такую же бурю, как и «История» первых двух Стюартов. Особенно были недовольны изображением царствования Елизаветы. Однако на этот раз я был неуязвим для яростных нападок публики и продолжал мирно и с удовлетворением работать в своем уединении в Эдинбурге над последними двумя томами первой части «Истории Англии»; я издал их в 1761 году с более или менее удовлетворительным успехом.
Но как ни была подвержена прихотям погоды судьба моих сочинений, они имели такой успех, что плата за каждый экземпляр, которую я получал от издателей, далеко превосходила обычный до того в Англии размер
==72
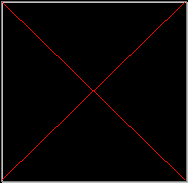
вознаграждения; я сделался не только оО601164611111'™ но и богатым человеком. Я вернулся на родину, B Шотландию, с твердым намерением более не покидать ее и приятным сознанием того, что ни разуне прибегал к помощи сильных мира сего и даже IIе искал их дружбы. Так как мне было уже за пятьде^'1'» т0 я на деялся сохранить эту философскую свобо^У Д0 "онца жизни. Но в 1763 году я получил от нез^а"0110!'0 мне графа Гертфорда, назначенного послом в Париж, приглашение последовать за ним туда, с тем41'001'1 в ск0 ром времени получить пост секретаря посГ·111'0™' а Д0 тех пор исполнять обязанности последнего· "ак 11И заманчиво было это предложение, вначале я отклонил его отчасти из нежелания завязывать cHOift®1111" c Бвяьможами, отчасти из страха, что утонченны16 манеры и рассеянный образ жизни парижского оба86™ У^ не придутся по вкусу человеку моих лет и дакдонностеи; но когда граф повторил свое предложся!·^ я Да·'1 согласие. Исходя из полученных мной удовольствия и материальной выгоды, я имею все основ»11™ считать счастливыми свои отношения с этим благо^Д111·"" чел0" веком, а позже с его братом генералом ^онвэи (Conway).
Тот, кто не знает силы моды и разнообразия ее проявлений, едва ли может представить себе прием, оказанный мне в Париже мужчинами и жевЩниами всякого звания и положения. Чем более я укл011™0" от их чрезмерных любезностей, тем более последние сыпались на меня. Как бы то ни было, жизнь в Париже представляет истинное наслаждение благода^ большому количеству умных, образованных и вежл)™11^ людей, какими этот город изобилует больше, чем какое бы то ни было другое место в мире. Я подумына·'1 Даже как-то поселиться здесь на всю жизнь.
Меня назначили секретарем посол^^ летом 1765 года я расстался с лордом Гертфор^01"' который получил пост лорда-лейтенанта Ирландии я исполнял обязанности chargé d'affaires4 до конца го^а' когда прибыл герцог Ричмондский. В начале 1766 roffa я покинул Париж, а летом отправился в Эдинбург, чГ°бы там попрежнему замкнуться в моем философской уединении.
==73
Благодаря дружбе лорда Гертфорда я вернулся в этот город хотя и не богатым, но все же с несколько большим количеством денег и более значительным доходом, чем оставил его. В 1767 году м-р Конвэй просил меня принять пост помощника государственного секретаря; личные свойства генерала и мои отношения к лорду Гертфорду не позволили мне отказаться от этого предложения. В 1768 году я вернулся в Эдинбург весьма богатым (я обладал годовым доходом в 1000 фунтов), здоровым и хотя несколько обремененным годами, но надеющимся еще долго наслаждаться покоем и быть свидетелем распространения своей известности5.
Весной 1775 года у меня обнаружились признаки внутренней болезни, которая вначале не внушала мне никаких опасений, но с тех пор сделалась, кажется, неизлечимой и смертельной. Теперь я жду скорой кончины 6. Я очень мало страдал от своей болезни, и, что еще любопытнее, несмотря на сильное истощение организма, мое душевное равновесие ни на минуту не покидало меня, так что если бы мне надо было назвать какую-нибудь пору моей жизни, которую я хотел бы пережить снова, то я указал бы на последнюю. Я сохранил ту же страсть к науке, ту же живость в обществе, как и прежде. Впрочем, я думаю, что человек 65 лет, умирая, не теряет ничего, кроме нескольких лет недомогания; и, хотя, судя по многим признакам, приближается время нового и более яркого расцвета моей литературной известности, я знаю, что мог бы наслаждаться им лишь немного лет. Трудно быть менее привязанным к жизни, чем я теперь.
Чтобы покончить с изображением моего характера, скажу еще, что я отличаюсь или, вернее, отличался (ибо, говоря о самом себе, я должен употреблять теперь прошедшее время, что побуждает меня еще более смело высказывать свое мнение), повторяю, отличался кротостью натуры, самообладанием, открытым, общительным и веселым нравом, способностью привязываться, неумением питать вражду и большой умеренностью во всех страстях. Даже любовь к литературной славе — моя господствующая страсть — никогда не ожесточала моего характера, несмотря на частые неудачи. Мое
==74
общество было приятно как молодым и беззаботным людям, так и ученым и литераторам; и, находя особенное удовольствие в обществе скромных женщин, я не имел основания быть недовольным приемом, который встречал с их стороны. Словом, в противоположность тому, как это бывает с большинством выдающихся людей, которые пользуются некоторой известностью, жало клеветы никогда не касалось меня, и, хотя я сам необдуманно навлекал на себя бешеные нападки политических и религиозных партий, они как бы сдерживали в отношениях со мной свою обычную ярость. Мои друзья никогда не имели случая защищать от нападок какую-нибудь черту моего характера или поведения: не то чтобы ханжам (zealots) ни разу не посчастливилось придумать и распространить обо мне какую-нибудь клевету, но они не придумали ни одной, которая им самим казалась бы правдоподобной. Я не могу отрицать тщеславия в мысли посвятить самому себе надгробное слово, но надеюсь, что оно не будет неуместно,— и это было бы легко доказать с помощью фактов.
18 апреля 1776 года.
==75
==76
00.php - glava03
^ ТРАКТАТ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ, ИЛИ ПОПЫТКА ПРИМЕНИТЬ ОСНОВАННЫЙ НА ОПЫТЕ МЕТОД РАССУЖДЕНИЯ К МОРАЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ
==77
==78
ВВЕДЕНИЕ
Нет ничего более обычного и естественного для людей, претендующих на то, чтобы открыть миру что-либо новое в области философии и наук, как путем порицания всех систем, предложенных их предшественниками, подготовлять почву для восхваления своих собственных. И действительно, если бы они довольствовались сетованием на то невежество, в котором мы все еще пребываем по отношению к самым важным вопросам, какие только могут предстать перед судом человеческого разума, то лишь немногие из тех, кто знаком с наукой, не согласились бы с ними вполне охотно. Человеку здравомыслящему и ученому легко понять шаткость основания даже тех систем, которые достигли наибольшего признания и которыми предъявлены наивысшие претензии на точность и глубину мышления. Принципы, принятые на веру; следствия, выведенные из них с грехом пополам; недостаток связности в частях и очевидности в целом — вот что постоянно можно встретить в системах наиболее выдающихся философов, вот что, по-видимому, навлекло опалу на саму философию.
Не требуется даже особенно глубокого знания для того, чтобы заметить несовершенное состояние наук в настоящее время: ведь и толпа, стоящая вне [храма науки], может судить по тому шуму и тем крикам, которые она слышит, что не все обстоит благополучно внутри. Нет ничего такого, что не было бы предметом
==79
спора и относительно чего люди науки не придерживались бы противоположных мнений. Мы не обходим в наших спорах самого простого вопроса, а самый важный не в состоянии решить сколько-нибудь определенным образом. Споры множатся — точно все решительно недостоверно, ведут же эти споры с величайшей горячностью — точно все без исключения достоверно. Посреди всей этой суматохи награда достается не разуму, а красноречию; и всякий, кто достаточно искусен, чтобы представить самую безумную гипотезу в наиболее благоприятных красках, никогда не должен отчаиваться в возможности привлечь к ней приверженцев. Победу одерживают не вооруженные люди, владеющие копьем и мечом, а трубачи, барабанщики и музыканты армии.
Отсюда и проистекает, на мой взгляд, тот общий предрассудок против всякого рода метафизических рассуждений, который замечается даже среди людей, причисляющих себя к знатокам науки и придающих должное значение всякой другой отрасли литературы. Они понимают под метафизическими рассуждениями не такие, которые относятся к какой-либо специальной отрасли науки, но всякого рода аргументы, до известной степени туманные и требующие для своего понимания некоторой внимательности. Нам так часто приходилось понапрасну затрачивать труд на подобного рода исследования, что обычно мы отвергаем их без колебаний и приходим к следующему решению: раз уж нам навсегда суждено быть жертвой ошибок и заблуждений, пусть они будут по крайней мере естественными и занимательными. И воистину только самый крайний скептицизм вместе с большой долей беспечности может оправдать это отвращение к метафизике. Ведь если даже истина вообще доступна человеческому пониманию, она, несомненно, должна скрываться в очень большой и туманной глубине; и надеяться на то, что мы достигнем се без всяких стараний, тогда как величайшим гениям это не удавалось с помощью крайних усилий, было бы, признаться, порядочным тщеславием и самонадеянностью. Философия, которую я собираюсь излагать, не претендует на подобное преимущество, и,
К оглавлению
==80
будь она слишком легкой и очевидной, я бы счел это сильным доводом против нее.
Несомненно, что все науки в большей или меньшей степени имеют отношение к человеческой природе и что, сколь бы удаленными от последней ни казались некоторые из них, они все же возвращаются к ней тем или иным путем. Даже математика, естественная философия и естественная религия в известной мере зависят от науки о человеке 1, поскольку они являются предметом познания людей и последние судят о них с помощью своих сил и способностей. Невозможно сказать, какие изменения и улучшения мы могли бы произвести в этих науках, если бы были в совершенстве знакомы с объемом и силой человеческого познания (the extent and force of human understanding), а также могли объяснить природу как применяемых нами идей, так и операций, производимых нами в наших рассуждениях. На такие улучшения можно особенно надеяться в естественной религии, так как она не довольствуется тем, что знакомит нас с природой высших сил, а задается далее целью указать их отношение к нам и наши обязанности к ним; и, следовательно, мы сами являемся не только существами, которые мыслят, но и одним из объектов, о которых мы мыслим.
Однако если такие науки, как математика, естественная философия и естественная религия, находятся в подобной зависимости от знания человека, то чего же иного можно ожидать от других наук, которые связаны с человеческой природой еще более тесно и близко? Единственной целью логики является объяснение принципов и операций нашей способности рассуждения, а также природы наших идей: этика и критицизм2 касаются наших вкусов и чувств, а политика рассматривает людей как объединенных в общество и зависимых друг от друга. В этих четырех науках: логике, этике, критицизме и политике — содержится почти все то, что нам сколько-нибудь важно знать, равно как и то, что может способствовать усовершенствованию или украшению человеческого ума (mind).
Итак, единственный способ, с помощью которого мы можем надеяться достичь успеха в наших философских
4 Давид Юм
==81
исследованиях, состоит в следующем: оставим тот тягостный, утомительный метод, которому мы до сих пор следовали, и, вместо того чтобы время от времени занимать пограничные замки или деревни, будем прямо брать приступом столицу, или центр этих наук,— саму человеческую природу; став, наконец, господами последней, мы сможем надеяться на легкую победу и надо всем остальным. С этой позиции мы сможем распространить свои завоевания на все те науки, которые наиболее близко касаются человеческой жизни, а затем приступить на досуге к более полному ознакомлению и с теми науками, которые являются предметом простой любознательности. Нет сколько-нибудь значительного вопроса, решение которого не входило бы в состав науки о человеке, и ни один такой вопрос не может быть решен с какой-либо достоверностью, прежде чем мы познакомимся с этой наукой. Итак, задаваясь целью объяснить принципы человеческой природы, мы в действительности предлагаем полную систему наук, построенную на почти совершенно новом основании, причем это основание единственное, опираясь на которое, науки могут стоять достаточно устойчиво.
Но если наука о человеке является единственным прочным основанием других наук, то единственное прочное основание, на которое мы можем поставить саму эту науку, должно быть заложено в опыте и наблюдении. Соображение, что основанная на опыте философия (experimental philosophy) 3 применяется к предметам морали спустя более чем сто лет после того, как она была применена к предметам природы, не должно смущать нас, ибо на деле оказывается, что между возникновением этих наук лежит почти такой же интервал и что промежуток времени от Фалеса до Сократа приблизительно равен промежутку, отделяющему лорда Бэкона от некоторых более поздних английских философов *, которые начали основывать науку о человеке на новом фундаменте, чем привлекли к себе внимание общественности и пробудили ее любознатель-
• Локка, лорда Шефтсбери, д-ра Мандевиля, Гетчинсона, д-ра Батлера и др.
==82
ность. Все это настолько бесспорно, что, как бы другие нации ни соперничали с нами в поэзии, как бы они ни превосходили нас в некоторых иных изящных искусствах, все усовершенствования в области разума и философии могут исходить только из страны терпимости и свободы.
Нам не следует также думать, что эти последние усовершенствования в науке о человеке окажут меньше чести нашей родине, чем первые, сделанные нами в естественной философии; напротив, мы скорее должны считать, что они принесут нам большую славу ввиду большей значимости этой науки и необходимости подобного ее преобразования. Ибо мне представляется очевидным, что сущность духа (mind) так же неизвестна нам, как и сущность внешних тел, и равным образом невозможно образовать какое-либо представление о силах и качествах духа иначе как с помощью тщательных и точных экспериментов и наблюдения над теми особыми действиями, которые являются результатом различных обстоятельств. И хотя мы должны стремиться к тому, чтобы сделать все свои принципы столь всеобщими, насколько это возможно, доводя свои эксперименты до крайних пределов и объясняя все действия из самых простых и немногочисленных причин, однако несомненно, -что мы не можем выходить за пределы опыта и всякая гипотеза, претендующая на открытие наиболее первичных качеств человеческой природы, сразу же должна быть отвергнута как тщеславная и вздорная.
Я не думаю, чтобы философ, прилагающий столь серьезные усилия, чтобы объяснить первые начала души, выказал себя большим знатоком той самой науки о человеческой природе, на объяснение которой он претендует, или оказался очень сведущим в том, что естественно дает удовлетворение человеческому уму. Ибо нет ничего более достоверного, чем то, что отчаяние производит на нас почти такое же действие, как и радость успеха: ведь стоит нам только убедиться в невозможности удовлетворить какое-либо желание, чтобы само это желание исчезло. Обнаружив, что нами достигнуты крайние пределы человеческого разума, мы
4*
==83
чувствуем себя удовлетворенными, хотя вполне убеждаемся лишь в своем невежестве и понимаем, что не можем дать иного обоснования своим самым общим и утонченным принципам, кроме нашего опыта, свидетельствующего об их реальности; но такое же обоснование дают и профаны, и, чтобы открыть его по отношению к наиболее исключительному, наиболее необычному явлению, не требуется предварительного изучения. Но если эта невозможность какого-либо дальнейшего прогресса способна удовлетворить читателя, то автор может извлечь более тонкое удовлетворение из свободного признания своего невежества и из стремления осторожно избегать той ошибки, в которую впадали столь многие, а именно навязывания миру собственных предположений и гипотез под видом самых достоверных принципов. По достижении же учителем и учеником такого взаимного понимания и удовлетворения, я уж не знаю, чего еще мы можем требовать от своей философии.
Но если эту невозможность объяснения первых начал сочтут недостатком науки о человеке, то я решусь утверждать, что она разделяет этот недостаток со всеми другими науками и искусствами, которым мы вообще можем посвятить себя, причем не имеет значения, изучаются ли они в философских школах или же применяются на практике в мастерских самых захудалых ремесленников. Ни одна из этих наук, ни одно из этих искусств не может выйти за пределы опыта или же установить какие-либо принципы, которые не были бы основаны на авторитете последнего. Правда, моральной философии свойствен один специфический изъян, которого мы не находим в философии естественной, а именно, накапливая опыты, она не может производить их намеренно, предумышленно, так, чтобы удовлетворительно разрешить всякую трудность, какая только может возникнуть. Когда я затрудняюсь указать действие одного тела на другое при некоторых условиях, мне остается только поставить их в данные условия и наблюдать, какие результаты получаются из этого. Но если я постараюсь таким же образом разъяснить любое сомнение в моральной философии, поставив себя
==84
в положение, подобное тому, которое я рассматриваю, то, как очевидно, такая рефлексия и такая предумышленность настолько нарушат действие моих естественных принципов, что вывести какое-либо правильное заключение из рассматриваемого явления станет невозможным. Поэтому в указанной науке мы должны подбирать наши опыты путем осторожного наблюдения над человеческой жизнью; нам следует брать их так, как они проявляются при обыденном течении жизни, в поведении людей, находящихся в обществе, занимающихся делами или предающихся развлечениям. Тщательно собирая и сравнивая опыты этого рода, мы можем надеяться учредить с их помощью науку, которая не будет уступать в достоверности всякой другой науке, доступной человеческому познанию, и намного превзойдет ее по полезности.
==85
==86
00.php - glava04
^ ТРАКТАТА О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ КНИГА ПЕРВАЯ О ПОЗНАНИИ
==87
==88
00.php - glava05
ЧАСТЬ I
ОБ ИДЕЯХ, ИХ ПРОИСХОЖДЕНИИ, СОСТАВЕ, СВЯЗЯХ, АБСТРАГИРОВАНИИ И Т. Д.
