Составление и общая редакция игумена андроника (а с. Трубачева), П. В. Флоренского, М. С
| Вид материала | Документы |
СодержаниеОколо хомякова Памяти феодора дмитриевича самарина Памяти владимира францевича эрна Троице-сергиева лавра и россия О лавре как unicum'e |
- Федеральная программа книгоиздания россии составление игумена андроника (А. С. Трубачева),, 419.1kb.
- Составление и общая редакция А. Н. Стрижев Издательство «Паломникъ» благодарит игумена, 8735.23kb.
- Составление и общая редакция А. Н. Стрижев Издательство «Паломникъ» благодарит игумена, 8854.9kb.
- В. Э. Мейерхольд статьи письма речи беседы часть первая 1891-1917 Издательство "Искусство", 4810.66kb.
- В. Э. Мейерхольд статьи письма речи беседы часть первая 1891-1917 Издательство «Искусство», 5254.96kb.
- Темы конспекта №1: 1, 2 и 4 по большей части отражены в вопроснике. Внимательно просмотрите, 10705.21kb.
- Б. Рассел логический атомизм, 442.78kb.
- Общая редакция В. В. Козловского В. И. Ильин драматургия качественного полевого исследования, 4631.85kb.
- Составление и общая редакция, 8475.77kb.
- Учебное пособие для высших учебных заведений Составление и общая редакция, 6781.85kb.
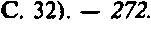
ОКОЛО ХОМЯКОВА
и западном понимании соборности в связи с учением о Церкви, 3) об онтологизме как существе православия, 4) о таинствах, 5) о непогрешимости папы и патриаршестве «как особой степени священства, — четвертой», 6) о необходимости изучения «генеалогической подпочвы» Хомякова, 7) о родственности у славянофилов и вытекающей из этой родственности борьбе «против твердого начала в Церкви». Глубокая разработка этих вопросов закрепила за этой критической рецензией Флоренского значение особого, самостоятельного труда о Хомякове, отодвинув на второй план рецензируемую книгу.
Ставшее библиографической редкостью двухтомное исследование о Хомякове проф. Завитневича Владимира Зеноновича (1851—1927) писалось в течение многих лет: в 1902 г. вышли две книги I тома, в 1913 г. — II том. В промежутке Завитневичем была опубликованы две небольшие работы, одна из них — «Место А. С. Хомякова в истории русского народного самосознания» (Харьков, 1904). В 1904 г. в России официально отмечали столетие со дня рождения А. С. Хомякова. На фоне праздничных речей и поверхностных, за редким исключением, публикаций, «капитальная» (по словам В. В. Зеньковского) работа Завитневича выгодно отличалась научным подходом и обширным фактическим материалом. Не случайно уже первый том монографии был представлен на соискание премии графа Уварова. В «Отчете...» о присуждении премии (1905) сохранились две рецензии: Кирпичников А. И., написавший почти что отрицательную рецензию, упрекал автора в одностороннем освещении взглядов Хомякова и предлагал наградить соискателя, но не премией, а «почетным отзывом», другой рецензент, Пальмов И. С, отмечая то обстоятельство, что Завитневич «исполнил только историческую часть задуманного им труда», тем не менее высказался за присуждение премии.
Из работ, опубликованных к юбилею, отметим как всегда яркую с глубоким психологическим подтекстом статью В. В. Розанова «Памяти Хомякова» (Русская мысль, 1904, JSfe 6), в которой еще раз поставлена под сомнение правильность понимания Хомяковым католицизма и протестантизма. Н. А. Бердяев в своей книге о Хомякове (1912) хотя и ссылался на труд Завитневича, но от общей оценки воздержался, тем более, что II том с изложением философских и богословских воззрений Хомякова к тому времени не был опубликован. Познакомившись в 1916 г. с рецензией Флоренского на труд Завитневича, Бердяев написал статью «Хомяков и свящ. Флоренский» (Русская мысль, 1917, февр.), в которой пытался выразить свои философские, религиозные и политические расхождения с Флоренским. То ли обидевшись на невнимание Флоренского к его работе о Хомякове, то ли по причине существовавшей между ними антипатии, Бердяев подверг статью Флоренского «Около Хомякова» крайне резкой по тону, но малоубедительной по содержанию критике, не ограничивая себя в том числе в личных оскорблениях в адрес Флоренского. Основной упрек Бердяева — отрицание Флоренским духовной свободы, высказанный им ранее в рецензии на «Столп и утверждение Истины», здесь варьировался на разные лады — от «рабьего страха» и преклонения перед церковными властями до «черносотенного радикализма». Относительно главного вопроса — вопроса о таинствах у Хомякова, который мог, казалось бы, стать основным предметом спора, Бердяев спорить не стал, отчасти солидаризируясь с Флоренским, отчасти упрекая его в заимствовании аргументов из католического богословия. Непозволительная по форме статья Бердяева стала печальным эпизодом в его отношениях с Флоренским. После октябрьского переворота, в 1919 г., Бердяев дважды настойчиво приглашал Флоренского участвовать в работе Вольной Академии Духовной Культуры, но встретил вежливый отказ.
В своей «Истории русской философии» В. В. Зеньковский, имея в виду статью Флоренского «Около Хомякова», писал не детализируя: «Острую и несправедливую критику Хомякова находим лишь у Флоренского, который, однако, сам был выдающимся богословом» (Париж, 1948. Т. 1. С. 191). Еще раньше подобную точку зрения высказал Г. Флоровский в книге «Пути русского богословия» (2-е изд.: Париж, 1981. С. 278). Вяч. Иванов в неопубликованном письме к Флоренскому от 12 июля 1917 г. писал: «Политическая часть Вашей парадоксальной статьи о Хомякове ставит меня прямо в тупик. Что именно имеете Вы в виду, при Вашей дальновидности? Вероятно, Вы в свое время читали один мой фельетон о славянофилах; если так, Вы знаете, что я прямо противоположную оценку даю государственно-правовой теории Хомякова. Прибавлю, что вижу в ней пророчественное предостережение старой власти, провозглашение альтернативы: или транс-цендентизм по отношению к народу и неминуемая гибель, или последовательно проведенный имманентизм, как воспитание к свободе» (из архива свящ. Павла Флоренского).
Наконец — еще одно косвенное свидетельство, на наш взгляд, крайне сомнительное (либо неверное в описании, либо сильно преувеличенное). С. И. Фудель в своей книге (Уделов Ф. И. [С. И. Фудель] Об отце Павле Флоренском. Париж, 1972. С. 84) приводит рассказ М. А. Новоселова о том, как он обсуждал с Флоренским статью «Около Хомякова», «спорил и доказывал ему его «римско-магический уклон». И... в конце концов о. Павел поник головой и согласился и при этом сказал: «Я больше не буду заниматься богословием»».
А. Т. Казарян
Публикуется по изданию: Около Хомякова (Критические заметки). С таблицею родственных связей ранних славянофилов, составленною Ф. К. Андреевым). Сергиев Посад, 1916. На обороте титульного листа брошюры помета: «Оттиск из «Богословского вестника». 1916 г.» Вероятно, что указание на номер журнала, обычно присутствующий на отдельных оттисках, в данном случае отсутствует в связи с тем, что отдельный оттиск вышел ранее номеров «Богословского вестника». Данная работа Флоренского, состоящая из двух частей, была напечатана: 1. Рецензия «Завитневич В. В. Алексей Степанович Хомяков» // Богословский вестник. 1916. Т. 2. № 7/8. С. 516-581; 2. Отзыв «О кандидатском сочинении студента LXX курса МДА Василия Херсонского на тему «Этико-социальная теория А. С. Хомякова». 5 июня 1915 г.» // Богословский Вестник. 1916. Т. 2. N° 7/8. С. 367-376 (паг. 3-я).
В черновой рукописи рецензии на книгу Завитневича находятся надписи: «Окончено ночью с 24 по 25 января 1916 г. в 3 часа утра, при утреннем благовесте в Лавре». «Исправления копий окончены вечером часов в 8-9 1916. I. 25».
Эта же надпись рукою Флоренского приведена на последней странице экземпляра брошюры «Около Хомякова», вплетенном в сборник «Павел Флоренский. Опыты 2. 1907—1917». Здесь же находится и другая его пометка: «Оттиски эти получены 1916. X. 19». В этот же экземпляр вклеен отдельный листок с записью рукою Флоренского:
«Критика на статью «Около Хомякова».
1) В. Щеглов, — Православие и самодержавие. («Церковь и Жизнь», год II, N° 5-6, Петроград, 10. 25 марта 1917 г., стр. 71-73).
2) Николай Бердяев. — Идеи и жизнь. Хомяков и свящ. П. А. Флоренский («Русская Мысль», 1917 г., кн. II, февраль, стр. 72—83).
3) Архим. Виссарион, — «Свободная» Церковь или Христова Церковь? (Уфимские Епарх[иальные] Ведомости]. 1—15 февраля, N° 3—4, 1917, часть неофициальная], стр. 80-91, особ[енно] стр. 83—84).
4) Перепечатка из «Русской жизни» с примечанием] Еп. Андрея Уфимского по поводу статей Бердяева и Карташева».
Сохранились отдельные черновые подготовительные материалы (рукопись, машинопись), а также экземпляр верстки с правкой Флоренского.
Примечания составлены А. Т. Казаряном.
Игумен Андроник
1* По плодам их узнаете их (Мф. 7, 16). — 288.
2* Илиодор (Труфанов Сергей), иеромонах, деятельный участник «Союза русского народа», антисемит, мнимый выразитель интересов крестьянства, демагог, призывающий к расправе над интеллигенцией, к бунту и неподчинению властям. В 1912 г. по постановлению Синода заточен во Флорищеву пустынь Владимирской епархии, в октябре того же года в письме в Синод покаялся в своей деятельности и отрекся от православия, поэтому был расстрижен и освобожден из монастыря. — 290.
3* дано третье (лат.). — 295.
4* Трудно сказать со всей определенностью, о каких «жалобах» Бердяева идет речь. Единственная жалоба, если ее считать жалобой, а не констатацией факта, относится совсем к другой теме: «Нам нет возврата к славянофильской уютности, к быту помещичьих усадеб. Усадьбы наши проданы, мы оторвались от бытовых связей с землей» (Бердяев Н. Алексеи Степанович Хомяков. М., Путь, 1912. С. 77).
Отмечаемая Флоренским связь «имманентизма» с волеизъявлением церковного народа, как бы коллективно «сочиняющего» Истину, дает основания предполагать, что его реплика имеет в виду тему свободы, которая Бердяевым в ссютветствии с его собственными философскими и политическими идеями выдвинута на первый план при рассмотрении учения Хомякова. («Хомяков же верил, неизменно, что только в Церкви есть свобода, что Церковь и есть свобода, и потому свободное богословствование было для него богословствованием церковным», там же, с. 85 и далее, в особенности — с. 93, где Бердяев полностью разделяет критикуемую Флоренским точку зрения: «Даже вселенские Соборы потому только подлинно вселенские и потому авторитетны, что они свободно и любовно санкционированы церковным народом».) Одно несомненно, сам Бердяев, который в ответной статье «Хомяков и свящ. Флоренский» цитирует Флоренского (опустив слова «вопреки жалобам Н. А. Бердяева»), эту реплику увязывает с проблемой свободы и заявляет категорично, что «предстоит сделать решительный выбор между свящ. Флоренским и Хомяковым, отдать решительное предпочтение одному из этих учителей Церкви, пойти направо или налево, к свободе или принуждению» и далее о Флоренском: «Он последовательно истолковывает христианство как религию необходимости, принуждения и покорности» (Бердяев Н. А. Собр. соч. Т. 3. Париж, 1989. С. 569). «Отец Флоренский открывает в Хомякове опасный уклон к имманентизму. Но это и есть в нем уклон к религиозной свободе, не до конца доведенный. Имманентизм, глубоко продуманный, и есть религия свободы и свободных» (Там же. С. 574—575). — 296.
5* всеобщее согласие в любви (лат.). — 297.
б* всеобщая подача голосов (франц.). — 298.
7* Листок иностранца (возможно, название газеты). — 326.
8* Несколько замечаний православного христианина о западных вероисповеданиях (франц.). Не полное и не точное заглавие не позволяет с достоверностью утверждать, идет ли речь о брошюре Хомякова от 1853 г. («По поводу брошюры Лоранси») или же 1855 г. («По поводу одного окружного послания парижского архиепископа»). — 337.
ПАМЯТИ ФЕОДОРА ДМИТРИЕВИЧА САМАРИНА
Публикуется по третьему прижизненному изданию: Памяти Феодора Дмитриевича Самарина
В третьем издании опубликовано 6 писем Ф. Д. Самарина к Флоренскому: от 29 июня 1912 г., от 24 августа 1912 г., от 28 августа 1912 г., от 27 апреля 1913 г., от 26 апреля 1914 г., от 21 мая 1915 г. (Ранее опубликовано: Богословский вестник. 1917. № 4/5. С. 464-477). Надо заметить, что целый ряд дат в этой публикации приводится неверно, что и было исправлено в посмертной публикации данных писем: Вестник Русского Студенческого Христианского Движения. 1978. № 125. С. 255—271, — где приведены также ответные письма Флоренского (публикация и предисловие Г. Г. Суперфина).
Сохранился оригинал — рукопись Флоренского, датированная на полях «1916.XI.28» (Архив священника Павла Флоренского).
Примечания А. Т. Казаряна.
1* завтра, всегда завтра, так проходит жизнь человеческая (лат.). — 345.
ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ФРАНЦЕВИЧА ЭРНА
Известный русский философ В. Ф. Эрн (1882—1917) принадлежал к кругу ближайших друзей П. А. Флоренского. Жизненные пути и судьбы Эрна и Флоренского на протяжении многих лет были тесно переплетены. Эрна и Флоренского связывала дружба детства: они учились в одном классе 2 тифлисской гимназии. Общие воспоминания детства придавали дружбе этих двух духовно и душевно родственных людей особую глубину. Близость религиозно-философских исканий, культурных и научных интересов Эрна и Флоренского выразилась в их участии в одних и тех же философских кружках и христианских объединениях начала века. Биография Эрна подробно не изучена, она хранит в себе загадки (см.: Волкова В. Α., Куликова М. В. Эрн: Новые документы и материалы // Начала. N9 3. М., 1993. С. 129).
В жизни Флоренского, как до женитьбы, так и после нее, «дружбы» занимали исключительное место — об этом свидетельствуют его отношения с В. Ф. Эрном, С. С. Троицким, В. В. Розановым, В. А. Фаворским, и этот список не является полным. Эта особенность жизни Флоренского, кажется, противоречит распространенному мнению о замкнутости, холодности и уединенности о. Павла. Но одно, по-видимому, не исключало другого, самому характеру и душевному складу Флоренского была присуща антиномичность.
Теме дружбы Флоренский специально посвятил одиннадцатое письмо книги «Столп и утверждение Истины» (М., 1914). Здесь он развивает философию и богословие дружбы, рассматривая ее психологические, этические, а также метафизические и церковно-мистические аспекты. Биографический подтекст рассуждений этого письма очевиден, он намеренно не скрывается автором. Содержащиеся в тексте замечания позволяют утверждать, что наряду с метафизическим углублением
общих мест Флоренский высказывает об «уединенной дружбе» (словосочетание весьма примечательное) ряд оригинальных идей, в том числе спорных с теоретической точки зрения, но безусловно важных как для его философии личности, так и для понимания его собственной биографии, в частности для прояснения требований, предъявляемых к «Другу». Например, он пишет, что «други образуют двуединство, диаду; они не они, а нечто большее — одна душа» (указ. соч., с. 434), причем это «едино-душие» надо понимать не номиналистически, а реалистически (с. 431). Не менее радикальной представляется и следующая фраза: «Объединяясь так, существом своим, и образуя рассудочно непостижимое дву-единство, други приходят в едино-чувствие, едино-волие, едино-мыслие, вполне исключающие разно-чувствие, разно-волие и разно-мыслие» (с. 435).
Несомненно, Флоренского и Эрна многое связывало как в жизни, так и в понимании жизни, но существовало ли между ними то чаемое едино-мыслие, притом что один писал о «природе мысли», а другой о ее «водоразделах»? На существенные разногласия Флоренский указывает в статье «Памяти Эрна», с замечательной проницательностью отмечая в жизни, судьбе и философии Эрна нарушение мистического равновесия между солнечным и пещерным, земным и небесным, светом и тьмою, Аполлоном и Дионисом.
Флоренский глубоко пережил смерть своего друга. Бюст Эрна неизменно находился в кабинете о. Павла. Подготавливаемый П. А. Флоренским и С. Н. Булгаковым сборник памяти Эрна не был издан по условиям того драматичного времени. В «Архиве свящ. Павла Флоренского» хранится еще неопубликованная переписка между Флоренским и Эрном.
А. Т. Казарян
От первоначального варианта статьи сохранились начальные страницы (автограф Флоренского). На странице 1-й следующие заголовок и датировка: «Памяти Вл. Фр. Эрна. І917.Ѵ.25. Серг. Пос. Ночь». Следующий вариант — беловая рукопись, написанная под диктовку Флоренского священником Александром Гиацинтовым, братом А. М. Гиацинтовой (супруга Флоренского). В конце статьи автограф Флоренского: «Священник Павел Флоренский. 1917.V.26. Сергиев Посад. Продиктовано о. Александру Гиацинтову. Прочитано С. Н. Булгаковым 26-го мая 1917-го на заседании Рел.-Философ. Общества, посвященном памяти Вл. Фр. Эрна». На странице 1-й особо, самим Флоренским, вероятно, после завершения диктовки статьи вписан эпиграф: ««Солнце-Сердце*. Вячеслав Иванов*. Сохранились также машинописные перепечатки статьи.
Данная статья предполагалась для неосуществленного сборника, посвященного памяти Вл. Ф. Эрна. Часть материалов, а также записка с перечнем материалов сборника сохранились в архиве священника Павла Флоренского.
Статья публикуется по изд.: Священник Павел Флоренский. Памяти Владимира Францевича Эрна // «Христианская мысль». 1917. № 11/12. С. 69-74 — с учетом правки Флоренского в его печатном экз., вплетенном в сборник «Павел Флоренский. Опыты 2. 1907—1917».
Примечания написаны А. Т. Казаряном.
Игумен Андроник (Трубачев)
1* В качестве эпиграфа П. А. Флоренский использовал название одного из разделов первой книги стихов Вяч. Иванова «Сог Ardens» (1906). Эпиграф «Солнце-Сердце» содержит глубокий философский
и биографический подтекст. Он символизирует жизнь и трагическую судьбу мыслителя, характер его философского дарования и напоминает о солнечном прочтении Платона (Эрн писал о «гелиофании» у Платона ♦как постижении самой Истины», тема Солнца, разрабатываемая в русской философской традиции, начиная от Г. Сковороды до Вяч. Иванова и В. В. Розанова, была близка ему). Кроме того, эпиграф — свидетельство духовной близости Вяч. Иванова, В. Ф. Эрна и П. А. Флоренского. Эрн болел и умер в московской квартире Вяч. Иванова, с которым его связывала многолетняя дружба. Поэт посвятил Эрну 18 Газэл в пятой книге «Сог Ardens», на смерть Эрна им в ноябре 1917 г. были написаны два стихотворения — «Скорбный рассказ» и «Оправдание». — 346.
2* Речь идет о работе «Верховное постижение Платона», которую Эрн не успел дописать. Написанная часть была опубликована: «Вопросы философии и психологии». 1917. Т. 2-3. С. 102—173. — 348.
* Пс. 107, 2. - 351.
ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА И РОССИЯ
Написание данной статьи связано с деятельностью Флоренского в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры. Формально Флоренский занимал в Комиссии в 1918-1920 гг. должность ученого секретаря и хранителя Ризницы, фактически он был ее идейным руководителем. В Комиссию вошли ближайшие друзья Флоренского: Ю. А. Олсуфьев (зам. председателя), С. П. Мансуров (впоследствии священник), М. В. Ивик (впоследствии священник), С П. Дурылин (впоследствии священник), М. В. Боскин, П. Н. Коптерев, — а также ряд деятелей культуры и искусства из Москвы и Сергиева Посада: И. Е. Бондаренко, Н. Д. Протасов, Т. Н. Александрова-Дольник, Ф. Я. Мишуков. Деятельность Комиссии опиралась на благословение Святейшего Патриарха Тихона и определялась тем обстоятельством, что согласно декрету от 20 января 1918 г. Трои-це-Сергиева Лавра была национализирована, ее историко-художест-венные ценности поступали в ведение Наркомата просвещения, а прочее имущество подлежало разделу между Гохраном (для отправки за границу) и местным Сергиевским исполкомом. При этом монастырская жизнь продолжала существовать в тех же стенах до ноября 1919 г. и Комиссия предпринимала различные попытки, чтобы оградить и сохранить ее. В начале ноября 1918 г. Флоренский писал Святейшему Патриарху Тихону:
«Ваше Святейшество, Милостивый Архипастырь и Отец. Будучи приглашены в Комиссию по охране и реставрации Лавры, мы испрашиваем благословение Вашего Святейшества на предстоящее, полное величайшей ответственности, дело, а чтобы иметь право просить о благословении — считаем долгом своим объяснить, как понимаем выдачу серебра Правительству] — по декрету. С 30-го октября нов[ого] стиля Лавра стала достоянием Комиссар [иата] Нар [одного] Просвещения]. Следовательно, речь может быть не о том, что отнимут у Церкви из Лавры, ибо все отнято, но скорее о том, что удастся сохранить для Церкви на том или ином косвенном основании. Основная задача Комиссии — не дать ничему уйти за пределы Лаврских стен и по возможности сохранить строй Лаврской жизни. К этой основной задаче присоединяется другая, сама по себе второстепенная, но тем не менее делающая возможным осуществление первой — направить реставрационные работы в наиболее безобидную для Церкви сторону».
Статья «Троице-Сергиева Лавра и Россия» была написана Флоренским в первый же месяц деятельности Комиссии как своеобразный идейный манифест и доложена 26 ноября 1918 г. на 5-м заседании Комиссии. В архиве священника Павла Флоренского сохранились лишь: 1. Первоначальный рукописный план статьи под названием «О Лавре, как unicum'e» (датировка не вполне ясная: «1918. Χ. 24? (XI. 10). [Вечер?]»); 2. Окончание статьи, написанное неизвестным лицом и самим Флоренским; 3. Некоторые предварительные выписки Флоренского (использованные в редакционных примечаниях). Машинописный авторский оригинал статьи сохранился в отделе хранения Сергиевского государственного историко-художественного музея-заповедника (фонд Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры, д. 3, лл. 11—17; машинописный экземпляр подписан Флоренским, но не правлен; в конце статьи: «Сергиев Посад. 30 октября — 2-го ноября/17—21 ноября 1918 года. В дни всемирной революции») и в отделе рукописей Государственной Третьяковской галереи (ф. 31, д. ИЗО; машинописный экземпляр, правленный Флоренским; в конце статьи: «Сотрудник Комиссии П. А. Флоренский. Сергиев Посад. 30 октября — 2-го ноября/12—15 ноября 1918 года»). Исходя из всех материалов, можно предположить такой ход событий: 28 октября (н. ст.) 1918 г. на 1-м заседании Комиссии Флоренский избирается ученым секретарем, 10 ноября (н. ст.) он составляет план статьи, 12—15 ноября пишет статью, 26 ноября на 5-м заседании Комиссии Флоренский читает статью в качестве доклада членам Комиссии. Приведем текст «О Лавре как unicunVe» полностью.
1918. X. 24? (XI. 10) [Вечер?]
О ЛАВРЕ КАК UNICUM'E
1) Лавра или микрокосм. Пр. Сергий — патрон Рус. земли. Исключ. красота Лавры. Павел Алеппский. В сам. деле: привычка к Лавре: чувство старины; родная. Передала удивления детские, но самый воздух мил.
