Доклад подготовлен для его обсуждения на экономической
| Вид материала | Доклад |
- Ли Елена Львовна, 227.21kb.
- Я. М. Миркина (редакция на 1 июля 2004 г.) Проект подготовлен и внесен для обсуждения, 287.87kb.
- Кочергин Альберт Николаевич, 121.17kb.
- Госдума подготовила доклад о путях совершенствования российской налоговой системы, 2275.38kb.
- Аналитический доклад, 2172.07kb.
- Организации Объединенных Наций доклад, 1517.52kb.
- Инструкция Найм высококвалифици-рованного персонала Компания, 229.05kb.
- Открытый информационно аналитический доклад, 608.54kb.
- Сертификация по управлению проектами какую выбрать?, 62.13kb.
- Доклад Администрации Песчанокопского района Ростовской области, 379.18kb.
3. 4. Пропорциональность советской
и диспропорциональность современной российской экономик
Нетрудно заметить, что идея рыночного саморегулирования занимает в неоклассической теории то место, которое в политической экономии социализма занимала идея планомерного управления экономикой. Согласно первой концепции равновесие достигается спонтанностью развития. Согласно второй, наоборот, спонтанность считается источником нарушения равновесия, возникновения диспропорций, которые могут быть устранены путем сознательного воздействия со стороны государства как экономического центра общества. Россия имеет опыт применения как одной, так и другой концепции, и теперь мы можем рассмотреть и оценить, какая концепция чего стоит.
В оценке этого опыта решающее значение имеет тот факт, что советская экономика характеризовалась высокими темпами роста. По самым осторожным и уточненным расчетам акад. Анчишкина А.И. ежегодные темпы экономического роста СССР за 1951 – 1975 гг. находились в пределах от 7,8 до 6,7%. (Анчишкин, 2003,с. 97). За те же годы темпы роста экономики США колебались от 1,3 до 2,8%. (Economic Report of President, 1987. Table-2). Отрицание этой разницы пропагандистами рыночного фундаментализма, нельзя принимать всерьез. Их позиция оставляет без ответа вопрос о том, как без высоких (выше, чем в других странах) темпов роста, можно было превратить отсталую российскую империю во вторую сверхдержаву мира? Между тем, превосходство СССР в темпах экономического роста подтверждается как советскими, так и американскими данными.
Таблица 1
Валовой национальный продукт США и СССР за 1950-1987 гг., млрд. дол.
| | Данные советской статистики | Данные американской статистики | |||||
| | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 |
| США | 288,3 | 516,6 | 1071,1 | 3750 | 4528 | 4379 | 4572 |
| СССР | 89,3 | 263,8 | 522,0 | 2115 | 2330 | 2434 | 2460 |
| СССР в % к объему США | 31,0 | 51,0 | 51,3 | 56,4 | 54,7 | 55,6 | 54,3 |
Составлена по: Народное хозяйство СССР 1922-1970. М., 1971. С. 64; Народное хозяйство СССР за 70 лет. М. 1987. С. 13; Historical Statistic. Рart I. N., – Y, 1989. P. 8. Statistical Abstract. 1990. Р. 840.
Как видно, американские данные существенно не отличаются от советских, и показывают одну и ту же закономерность превышения советских темпов роста над американскими. В 1950 г. объем национального дохода СССР составлял менее одной трети, а к 1980 – ым гг. превысил половину соответствующего показателя США. Такого изменения в соотношении двух стран можно было добиться одним путем – опережением советских темпов роста над американскими.
Советская экономическая мысль связывала высокие темпы экономического роста СССР с плановым характером развития, возможностью сознательного определения пропорций народного хозяйства. Как бы к этому не относиться, но едва ли можно отрицать, что именно планомерность позволяла обеспечить ту пропорциональность (марксистское обозначение равновесия), благодаря которой достигались высокие темпы роста.
Разумеется, это не значит, что советская экономика была во всем и всегда пропорциональной. Дисбалансы то и дело возникали. Так, в ходе выполнения первой пятилетки (1928-1932) возникли большие диспропорции в развитии промышленности и сельского хозяйства, между тяжелой и легкой отраслями индустрии и т.д. Подобное можно было наблюдать также в годы застоя. Участие СССР в гонке вооружений требовало выделения на эти нужды чрезмерной доли валового продукта. В такой ситуации приоритетность военных расходов осуществлялась за счет ущемления гражданских отраслей, что отрицательно сказывалось на технической модернизации экономики и развитии потребительского сектора. Иначе говоря, усиление ВПК означало усиление диспропорциональности экономики, результатом чего и стало замедление темпов экономического роста. В экономике существует прямая связь между темпами и пропорциями (равновесием). Эта связь, как мы увидим ниже в разделе о экономическом росте, признается любой концепцией и предусматривается любой моделью роста. Различия касаются разных механизмов достижения пропорциональности (равновесия) и темпов роста.
С этой точки зрения опыт последних полтора десятка лет рыночного развития не выдерживает сравнения с периодом планирования. «Саморегулирование российской экономики» характеризуется не эффективным распределением ресурсов и гармоничным развитием, а тем более - социально справедливым вознаграждение труда, а колоссальными перекосами в экономике и безумным расточительством ресурсов со стороны захвативших их собственников. Что касается справедливости вознаграждения труда, то об этом едва ли станут говорить даже самые ревностные поклонники рынка.
Колоссальные диспропорции в экономике исключают равновесные цены. Ниже приводимый график показывает, что более высокими темпами росли цены в отраслях, работающих на экспорт.
Как показывает рисунок 1, особенно высокими темпами росли цены на энергоносители, продукцию черной и цветной металлургии. То же самое следует сказать о ценах на продукцию пищевой промышленности, а также о тарифах на грузовые и пассажирские перевозки. Рост цен в этих отраслях превышал их среднеотраслевой рост по промышленности в несколько раз. В то же время рост цен на продукцию такой жизненно важной для технического прогресса отрасли как, машиностроение, отставал от общеотраслевого темпа роста в 2-3 раза. В таком же тяжелом финансовом положении оказались легкая промышленность и сельское хозяйство, которые ввиду этого вытесняются из внутреннего рынка иностранными конкурентами.
Индексы роста отраслевых цен
по отношению к среднему по промышленности уровню цен
в 1990-2003 гг.

Рис. 1
Составлена по данным: Российский статистический ежегодник, 2001, с. 593, 595, 5970598). Россия в цифрах, 2004, с. 385, 387, 389.
Рост цен, обусловленный не нуждами экономики, а необходимостью удовлетворения интересов частной наживы, привел к колоссальным диспропорциям и увел экономику далеко от того относительно равновесного состояния, в котором она была в советское время. Сложившийся теперь диспаритет цен поставил одни сектора в незаслуженно привилегированное положение, в то время как другие стали жертвами этой практики. Это отчетливо показывают различия в уроне рентабельности отраслей.
Уровень рентабельности в различных отраслях российской экономики в 2003 г.
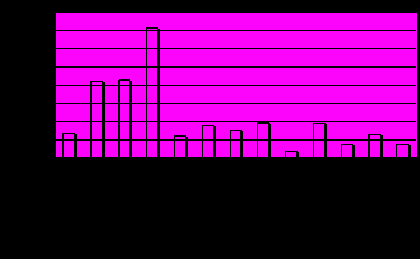 Рис. 2
Рис. 2Составлено: Россия в цифрах. 2004.С, 336-338.
Приведенные данные начисто опровергают басню неоклассической теории о том, что рынок имманентно содержит в себе механизм достижения эффективного равновесия. Российский опыт свидетельствует, что дело обстоит как раз наоборот: рынок содержит в себе источник создания и усиления диспропорций в экономике и в наших условиях порождает механизм спада и торможения экономического роста. Диспропорциональная экономика не способна осуществлять технический прогресс и обеспечить рост. Привилегированные отрасли не имеют к этому стимулов, потому что и без этого им достаются баснословные прибыли, а отрасли-жертвы не имеют собственных средств для развития, им неоткуда их получить.
Переход на рыночные рельсы привел к небывалому спаду экономики и созданию таких кричащих диспропорций в хозяйстве и социальной сфере, которые лишают страну и народ какой-либо достойной перспективы. Структурная деформация экономики с гипертрофией топливно-сырьевого комплекса наносит такой ущерб обрабатывающей промышленности, который исключает возможность ее выхода на уровень высоких технологий, а без этого мы обречены окончательно превратиться в страну периферийного капитализма и объект эксплуатации со стороны мирового капитала.
3.5. Сраффианская цена
В наших условиях не наблюдается также тот жестко действующий маршаллианский механизм ценообразования в результате взаимодействия рыночного спроса и рыночного предложения, который во всех учебниках подается как основа рыночного хозяйства. Цены на энергоносители в нашей стране постоянно повышаются не потому, что без этого невозможно удовлетворить растущий спрос потребителей, а потому, что производящие топливо крупные компании все большую часть продукции вывозят на мировой рынок, и искусственно вздувают внутренние цены. Не рыночный спрос, а господство капитала диктует цены в российской экономике. Отсюда и показанная выше более высокая рентабельность одних отраслей в ущерб тем, которые лишены условий нормального воспроизводства и технического прогресса.
Позитивное воздействие на этот и другие подобные процессы в экономике, на наш взгляд, предполагает альтернативную концепцию цены, разработанную П. Сраффой (Сраффа, 1999.). В отличие от неоклассической теории, согласно которой цена определяется соотношением спроса и предложения и независимо от распределения национального дохода, по П. Сраффе, продолжавшему традицию классической политической экономии, цена и распределение определяются одновременно.
Разумеется, здесь нет возможности сколько-нибудь подробно осветить эту непростую модель. Но даже самое общее представление о ней убеждает в ее чрезвычайной практической ценности для современной российской экономики. Продолжая попытки Рикардо найти неизменную меру стоимости, Сраффа разработал относительные цены, которые являются результатом межотраслевых пропорций обмена товаров. Такие цены выполняют две основные функции: во-первых, возмещают материальные издержки производства и тем создают условия простого воспроизводства; во-вторых, обеспечивают распределение чистого продукта (добавленной стоимости) между социальными классами и отраслями экономики. Рассмотрим подробнее вторую функцию.
Все помнят из прежнего курса политической экономии, как К. Маркс объясняет образование цены производства в результате межотраслевой конкуренции. В этой конструкции не все так гладко, как говорилось в наших прежних учебниках. К. Марксу не удалось до конца решить данную проблему, и пресловутое утверждение о противоречии между первым и третьим томами «Капитала» имеет под собой известное основание. Но здесь не место отклоняться на рассмотрение этого вопроса. Сейчас для нас важнее другое: Маркс показал процесс межотраслевого обмена, в результате которого товары продаются по ценам производства, которые в одних отраслях выше стоимости, а в других ниже стоимости, что необходимо для выравнивания нормы прибыли. В модели Маркса одни отрасли выступают как доноры, а другие как реципиенты общей величины прибавочного продукта и только благодаря этому достигается равновесие и осуществляется единый процесс общественного воспроизводства.
Хотя у П. Сраффы никаких ссылок на Маркса нет, но разработанная им модель цены, во всяком случае, в некоторых важных аспектах, строится сходным образом. Взяв в качестве исходной предпосылки анализа для всех отраслей единую норму прибыли и единую ставку заработной платы, П. Сраффа показывает, как распределяется созданный в обществе чистый продукт в соответствии с этими требованиями.
Ему удалось продемонстрировать, что изменение распределения ведет к изменению относительных цен товаров при неизменности физических параметров производства. Наиболее интересным обстоятельством является то, что направление этих изменений зависит не отчего иного, как от соотношения труда и средств производства в данной отрасли. Зависимость между ценой и распределением в рассматриваемой модели является столь жесткой, что П. Сраффа констатирует: одно не может измениться без другого.
Мировая экономическая мысль высоко оценила эту модель, признав ее главным вкладом в теорию стоимости ХХ в. Она не только возрождает взгляд классической политической экономии на цену как на социальный феномен, но и показывает ее роль в межотраслевом распределении чистого продукта. Цена не просто опосредует обмен одного товара на другой, а предопределяет межотраслевые пропорции. Именно благодаря этому экономика страны выступает как единый организм, в котором отношения между отраслями строятся по принципу сообщающихся сосудов.
В советской экономике далеко не идеально, но так или иначе это единство соблюдалось благодаря планомерности развития и соблюдению необходимой пропорциональности между ее отраслями. Иначе не было бы роста экономики, ибо темпы роста можно рассматривать как меру соблюдения равновесия (пропорциональности).
На устранение имевшихся в этой области нарушений была направлена концепция плановой цены В.С. Немчинова. Любопытно, что он раньше других советских экономистов обратил внимание на модель П. Сраффы, причем вскоре после выхода его книги, когда даже на Западе она еще не приобрела достаточную известность. Причина, очевидно, в том, что у того и другого поиск шел в одном и том же направлении. Что для П. Сраффы относительная цена, то для В.С. Немчинова народнохозяйственные издержки, выраженные в плановой цене.
Есть определенные сходства и в их подходах. Во-первых, сходство в том, что относительные цены испытывают воздействие затрат труда на производство. Проанализировав продуктово-трудовую модель Сраффы, В.С. Немчинов писал, что при установлении цены «затраты труда неизбежно должны быть приняты во внимание даже при соизмерении структуры сферы материального производства на основе количественных соотношений между самими продуктами» (Немчинов, 1969, с. 16). Во-вторых, при определении стоимости В.С. Немчинов отвергает денежный метод исчисления и предлагает все три рассматриваемых им элемента общественно необходимых затрат исчислять в затратах рабочего времени. Лишь на конечной стадии он предлагает использовать денежный измеритель. «В схеме определения стоимости по труду, - писал он, - таким образом, все три измерения ведутся в трудовых единицах, вплоть до постоянного множителя (денежный масштаб стоимости), позволяющего на конечной стадии перейти от трудовых единиц к денежным» (там же, с.245). П. Сраффа тоже выражает стоимость не в деньгах, а в натуральных величинах. Правда, у него измерителем является стандартный товар – составной товар, взятый в физическом виде. Однако он превращается в однородную величину, приравниваясь к количеству труда, которое можно купить на эту единицу при данной ставке реальной заработной платы.
То обстоятельство, что П. Сраффа и В.С. Немчинов разрабатывали свои модели для разных систем, предопределило многие различия в их подходах и решениях. Так, у П. Сраффы объектом распределения выступает весь чистый продукт (добавленная стоимость), которая распадается на прибыль и заработную плату пропорционально соотношению труда и капитала в каждой отрасли в результате конкуренции. У Немчинова объектом распределения и фактором определения цены выступает прибавочный продукт, распределяемый пропорционально фондоемкости каждого производства в целях повышения эффективности планового хозяйства (см. там же, с. 79). Есть немало и других различий. Но они не мешают нам думать над сходством подобных подходов, выражающих связь нашей науки с мировой. Было бы нелепо игнорировать ее и в то же время слепо принимать идеи, которые никакого отношения к нашей реальности не имеют.
К сожалению, в современной российской экономике необходимое единство ее различных сторон нарушено, и многим стало казаться, что оно и не нужно. Но рано или поздно гром очередного кризиса неизбежно грянет и станет ясно, что без определенной пропорциональности между различными своими сторонами экономика развиваться не может. Тогда, надо думать, научные разработки данной проблемы понадобятся. Пока же дело так обстоит, что отдельные части единого экономического организма отданы на откуп тем, кому до общества никакого дела нет. Бесконтрольное положение, которое занял крупный российский капитал в результате «дармовой» приватизации, позволяет ему контролировать финансовые потоки и извлекать сверхприбыли, не прилагая к этому особых усилий и без соблюдения необходимых в экономике пропорций. Западный капитал таких тепличных условий не имеет. Рынок и конкуренция диктуют ему такие правила игры, конечным результатом которых является соблюдение определенной пропорциональности (равновесия).
В нашей экономике подобной системы принуждения нет. Российский капитал живет одним днем, по существу свободен во всех своих действиях и имеет возможность бесконтрольно использовать попавшие в его руки ресурсы. Это дает ему уникальную возможность извлечения краткосрочной прибыли путем осуществления не инвестиций в экономику, а контроля над финансовыми потоками. Подобный доход, как отмечалось, получил название инсайдерской ренты. Ее существование является постоянно действующим побудительным стимулом повышения цен, поскольку таким путем прибавочный продукт перераспределяется в пользу обладателей капитала. Как мы покажем в следующем разделе, именно в этом главный источник нашей инфляции. Таким образом, не монетаристская, а, скорее, сраффианская концепция проясняет российскую ситуацию.
4. Основной экономический закон социализма и капиталистическая оптимальность по Парето
Особый интерес представляет сопоставление того, как советская политическая экономия отражала социалистическую реальность с помощью того, что называла основным экономическим законом социализма с тем, как теперь наша сегодняшняя капиталистическая действительность характеризуется неоклассической теорией с помощью того, что она называет оптимальностью по Парето.
Согласно всем советским учебникам основной экономический закон социализма выражал самую глубокую сущность этого общественного строя, которая усматривалась в подчиненности экономики удовлетворению материальных и культурных потребностей людей. Было ли это положение только идеологическим штампом или отражало объективные реальности социализма? В свете приобретенного нами теперь опыта приходится признавать, что такое определение имело не только идеологический, но и определенный научный смысл. Верно, конечно, что советская номенклатура пользовалась этой формулой для обоснования своих претензий на власть. Но будет глубокой неправдой утверждать, что дело этим ограничивалось. Следует по достоинству оценить ту аргументацию, которую политическая экономия социализма выдвигала в обоснование этого постулата.
Господство общественной (государственной) собственности, утверждала она, экономически реализуется прежде всего в праве каждого на труд, управление и заработок. Относительно участия каждого в управлении дело обстояло не лучше того, что обычно бывает с мелкими акционерами, - а граждане СССР были акционерами единой общегосударственной корпорации, - оно во многом было формальным. Что касается права на труд и его вознаграждение, то это было таким невиданным во всей предыдущей истории и недоступным никакой другой общественной системе достижением, в отношении которого нынешнее молчание отнюдь не золото.
Что означала достигнутая при социализме всеобщая занятость и почему ее не стало?
К сожалению, значительная часть российской интеллигенции попалась на удочку жульнического утверждения приватизаторов, что общественная (государственная) собственность при социализме была, якобы, «ничейной». Понятно, что такая выдумка была нужна для обоснования приватизации. Если собственность «ничейная», то не грех ее прихватить. Но нетрудно заметить, что понятия «собственность» и «ничейность» взаимно исключают друг друга. Только принадлежность владельцу делает ту или иную вещь его собственностью. Утверждать же, что несметные богатства гигантской страны, созданные потом и кровью многих поколений и служившие для удовлетворения их потребностей, никому не принадлежали и были «ничейными», можно лишь в порядке циничной насмешки над людьми и здравым смыслом.
Известно, что экономическое содержание собственности состоит в том, в чем она реализуется на деле, т.е. в том, что от нее имеет собственник. С этой точки зрения трудящиеся СССР много чего имели от общественной (государственной) собственности. Первой формой ее реализации было гарантированное право работника на труд и соответствующее вознаграждение. На языке политической экономии социализма эта реальность называлась «непосредственным характером соединения работника со средствами производства». В условиях частной собственности и господства рыночных отношений, утверждает марксистская теория, такого быть не может, во-первых, потому, что работник отделен от средств производства и не имеет права на них, во-вторых, потому, что нет той формы, посредством которой происходит это соединение - планомерной организации экономики, создающей и обеспечивающей рабочие места.
В политической экономии социализма планомерность рассматривалась как способ определения макроэкономических пропорций (равновесия), прежде всего благодаря тому, что она позволяет увязывать производственную программу и инвестиции с созданием необходимого количества рабочих мест. На этом основании она доказывала, что эффективность не сводится к одним лишь экономическим показателям, а ее надо рассматривать более широко, в сочетании с разнообразными интересами человека, что планомерная организация обеспечивает более эффективный, чем рынок, способ использования ограниченных ресурсов и более полное удовлетворение как личных, так и общественных потребностей. В соответствии с этой логикой она утверждала, что при социализме человек является целью, а при капитализме лишь средством извлечения прибавочной стоимости. Верно это или нет?
Сегодня на этот вопрос уже нельзя отвечать с помощью расхожих идеологических трафаретов, как это делалось вчера. Есть реальный опыт нашего пребывания как в одной, так и другой системе ведения хозяйства. Одна теория трактует эффективность как социально-экономический феномен, связывая ее с положением всех граждан страны и тем самым со способностью государства обеспечить им определенные социальные гарантии. Таков был наш прошлый опыт. Другая теория сводит эффективность к прибыли и тем самым к положению ее получателя безотносительно к положению остальных граждан, получателей заработной платы. Таков наш нынешний опыт. Одна теория связывает эффективность с государством как с субъектом и гарантом ее обеспечения и по этой причине усматривает в экономической роли государства благо. Другая теория ограничивает эффективность выгодой собственника и выступает за его независимость от государства как некого, «перманентного» зла.
Теперь следует решить, какая теория подтверждается, а какая опровергается нашим опытом. Было ли положение рядовых граждан хуже, когда государство брало на себя определенные обязательства по отношению к ним, и стало ли лучше, когда оно отбросило эти обязательства в сторону как ненужный патерналистский хлам?
Согласно всем неклассическим учебникам рыночная конкуренция обеспечивает более совершенный, чем при социализме, механизм распределения, названный по имени автора этой идеи Вильфредо Парето (1848-1923) оптимальностью по Парето. В западных учебниках и их российских копиях она определяется как такое распределение ресурсов и готовой продукции, при котором нельзя улучшить положение ни одного индивида, не ухудшив при этом положение кого-то другого. «В совершенно конкурентной экономике, - говорится в известном учебнике, - все блага эффективно производятся (эффективность производства) и эффективно распределяются среди потребителей (эффективность потребления)… Следовательно, распределение ресурсов, порождаемое конкурентной экономикой, является эффективным по Парето» (Фишер и др., 1993, с. 188). Только так. Ни один неклассический учебник даже не упоминает о какой-либо альтернативной трактовке этой проблемы.
Если не мешать свободной игре рыночных сил, разъясняют закон оптимальности по Парето эти учебники, то «невидимая рука рынка» обеспечит идеальное распределение ресурсов. «Любое изменение, - пишет Баумоль, - которое не вредит никому и которое делает некоторых людей более зажиточными (по их собственной оценке), должно рассматриваться как улучшение» ( Baumol, 1965, р.376).
Это и есть Парето-оптимальность. Она базируется на абсолютном совершенстве определяемых рынком цен спроса и предложения. В каждом случае, – идет ли речь о фирмах или домохозяйствах – цены, как об этом говорилось выше, позволяют максимизировать полезность путем выбора товаров в таких пропорциях, что предельная норма их замещения (по субъективным оценкам каждого продавца и покупателя) равна отношению цен любого другого набора товаров. Короче говоря, каждый в выигрыше от того, что выбирает то, что ему (ей) больше всего по вкусу и интересам. Это обстоятельство, в сочетании с тем, что цена факторов производства, включая рабочую силу, считается равной величине его предельного продукта, доводит до предела идеал справедливого распределения (по мнению неоклассиков, разумеется).
По такой логике проблема распределения из социальной превращается в техническую, т.е. в процесс, технологически предопределенный альтернативными издержками производства. Неслучайно в изложении учебного материала участвующие в этом процессе агенты рынка обычно обозначаются как безличные физические константы a, b, c, d и т. д., а не как переменные со своими, отличными друг от друга социальной физиономией и интересами. Поскольку же распределение обусловлено техническими условиями, то всякое вмешательство в этот процесс со стороны государства, утверждает неоклассическая теория, способно только причинить вред. «Предпринимая меры по перераспределению дохода от богатых к бедным, – пишут авторы распространенного учебника П. Самульсон и В. Нордхаус, - государство может нанести вред экономической эффективности и снизить доступную для распределения величину национального дохода» (Самуэльсон, Нордхаус, 1997, с.410). Подобные меры авторы сравнивают с попытками таскать воду в дырявом ведре, когда часть содержимого теряется по пути.
В странах капитализма нет таких потерь и такого перераспределения, а потому, утверждают авторы, здесь растет благосостояния населения, в то время, как странах социализма, где господствовал идеал равенства, люди жили в нужде и нищете: «Практика социалистических стран демонстрирует, что попытка уравнять доходы с помощью экспроприации собственности у богатых, в конечном счете, может принести вред всему обществу. Запрещая частную собственность на средства производства, социалистическое государство уменьшало неравенство, возникающее из-за больших доходов от собственности. Однако снижение стимулов к труду, накоплению капитала и нововведениям нанесло урон этому эксперименту, главным принципом которого был «каждому по потребностям» (так в тексте – С. Дз.) и привело к тому, что целые страны оказались в нищете». (там же, с.411).
В ходе рыночных реформ мы поступили согласно этой рекомендации. Мы отказались от принципа оплаты по труду, формирования общественных фондов потребления, за счет которых неравенство в распределении в известной мере выравнивалось, и пошли по пути передела собственности – а тем самым и доходов от собственности – в пользу некоторых, как предлагали неоклассические теоретики. Теперь, надо думать, воду разносим в цельном ведре, откуда посторонним уж точно ничего не капнет, и содержимое достается только тем, кого неоклассическая теория считает наиболее достойными. В результате получили картину, отраженную в табл. 2. .
Таблица 2
Рост неравенства в распределении денежных доходов населения (%)
| Годы | Денежные доходы, всего | Первая 20%-ная группа (с наименьшими доходами) | Вторая 20%-ная группа | Третья 20%-ная группа | Четвертая 20%-ная группа | Пятая 20%-ная группа (с наибольшими доходам) |
| 1991 | 100,0 | 11,9 | 15,8 | 18,8 | 22,8 | 30,7 |
| 1992 | 100,0 | 6,0 | 11,6 | 17,6 | 26,5 | 38,3 |
| 1993 | 100,0 | 5,8 | 11,1 | 16,7 | 24,8 | 41,6 |
| 1994 | 100,0 | 5,3 | 10,2 | 15,2 | 23,0 | 46,3 |
| 1995 | 100,0 | 5,5 | 10,2 | 15,0 | 22,4 | 46,9 |
| 1996 | 100,0 | 6,2 | 10,7 | 15,2 | 21,5 | 46,4 |
| 1997 | 100,0 | 6,2 | 10,6 | 15,1 | 21,4 | 46,7 |
| 1998 | 100,0 | 6,2 | 10,5 | 14,9 | 21,0 | 47,4 |
| 1999 | 100,0 | 6,2 | 10,6 | 14,9 | 21,0 | 47,3 |
| 2000 | 100,0 | 6,1 | 10,6 | 14,9 | 21,2 | 47,2 |
Источник: Львов Д.С. Экономический рост и качество экономики. М. Русская книга, 2004.(Б-ка «Гудка»). …..с. 15.
Приведя эти данные, академик Д.С. Львов пишет, что "в выигрыше от так называемых рыночных реформ оказалась лишь небольшая, наиболее состоятельная часть населения. Вся остальная Россия – проиграла". Если бы дело обстояло так, как пишут П. Самуэльсон и В. Нордхаус и множество других неоклассических теоретиков, то должна была заработать оптимальность по Парето, и мы должны были избавиться от той нищеты, в которой они нас, якобы, застали. На самом деле переход на рыночный путь развития, как об этом говорят широко известные показатели, сопровождался катастрофическим падением уровня жизни, образования и культуры.
Возникает вопрос о том, какой закон действует в наших условиях: закон оптимальности по Парето, или закон капиталистического накопления Маркса, согласно которому концентрация богатства на одном полюсе общества сопровождается увеличением нищеты и страданий на другом?
Не имея возможности привести множество фактических данных, позволяющих всесторонне ответить на этот вопрос, ограничимся показателями смертности населения, поскольку именно они наиболее обобщенно выражают уровень жизни и социальную обеспеченность граждан (см. табл. 3).
Таблица 3
Коэффициент смертности в СССР – России и в развитых странах за 1940 – 2003 гг.
| | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2002 | 2003 |
| СССР -Россия | 18,0 | 9,7 | 7,1 | 8,2 | 10,3 | 10,3 | 14,7 | 16,3 | 16,4 |
| США | 10, 8 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 8,7 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | – |
| ФРГ | 11,4 | 10,5 | 11,4 | 9,4 | 8,7 | 8,8 | 8,7 | 10,3 | – |
| Англия | 14,4 | 10,5 | 11,5 | 11,8 | 11,8 | 11,5 | 10,9 | 10,2 | – |
| Фран-ция | 18,9 | 12,8 | 11,4 | 10,7 | 10,2 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | – |
| Япония | 16,4 | 10,9 | 7,6 | 6,9 | 6,2 | 6,4 | 7,4 | 7,6 | – |
Составлена по: Народное хозяйство СССР 1922-1982 гг. М., 1983. С. 28-29; Народное хозяйство СССР в 1975 г. М., 1976. С. 42-43; Народное хозяйство СССР за 70 лет. С. 406 -407,710; Народное хозяйство СССР в 1990 г. М. 1990. С.665. Российский статистический ежегодник. 2001. С. 104. Российский статистический ежегодник. 2004. С. 101, 677.
Данные этой таблицы являются убийственной оценкой проведенных у нас реформ и принятой нами теоретической концепции. В советский период коэффициент смертности составлял 7-10 человек и был одним из самых низких в мире. Теперь, когда стали жить по Парето, он перевалил за 16 смертных случаев. Известный ученый и врач акад. А. И. Воробьев на Общем собрании РАН в мае 2005 г. оценивал нашу нынешнюю ситуацию в следующих словах: «Ежегодно, по сравнению с 1960 г., мы теряем один миллион двести тысяч человек. Это сопоставимо с потерями во время войны. Наши мужчины не доживают до 60-летнего возраста. Мы организованно и продуманно, системно разрушили наше здравоохранение, классическое здравоохранение, которое удивляло весь мир своими фантастическими достижениями».
Такова цена реформ. В советский период происходил, хотя и медленный, но непрерывный рост народного благосостояния. В результате по показателям здоровья населения, его образовательного и культурного уровня, как о том свидетельствуют многие данные и факты, Советский Союз вышел на передовые позиции в мире. (См. Социальное развитие СССР. Статистический сборник. М. 1990. С.214, 246 -259, 305-310; Теория капитала и экономического роста. М., 2004. С. 234-235). Теперь по всем этим показателям мы становимся одной из худших стран.
Подчеркнем еще раз, что речь идет не о пересмотре пороков советской системы (которые, разумеется, тоже были), а о признании той реальности, в которой мы оказались в результате реформ, проведенных в соответствии с постулатами неоклассической ортодоксии. Перед лицом приведенных здесь данных, прежде всего таблиц деградации материально-технической базы общества (см. ниже табл. 4) и только что показанной возросшей смертности населения (табл. 3), все достоинства рынка и демократии теряют свою значимость. Кому и для чего они, если экономика разваливается, а народ вымирает?
Сегодняшнее бедственное положение ставит нас перед необходимостью более вдумчивого и береженого отношения к достижениям советской системы. Напрашивается вопрос: были ли у советских политэкономов основания отвергать прибыль в качестве основного показателя эффективности экономики, а усматривать эффективность в подчиненности экономики цели удовлетворения материальных и культурных потребностей людей (качество жизни) и именно это считать основным экономическим законом общества?
Если прибыль считать показателем эффективности экономики, то надо признать вытекающий отсюда абсурдный вывод: сегодня в мире нет более эффективной экономики, чем российская. Нигде за короткое время не было получено столько прибылей, сколько у нас. А каково же положение населения? Оно нищает и вымирает. Эта ситуация вынуждает нас внимательнее присмотреться к тому, на чем базировалось положение советской политической экономии об основном экономическом законе социализма.
Выше мы приводили данные о том, что объем советского ВВП, составлял приблизительно половину американского, а в расчете на душу населения - и того меньше. Из этой величины Советский Союз тратил около 20% на военные нужды, в то время как США для этих целей было достаточно 6-7% ВВП. Если из ВВП вычесть военные расходы, то выходит, что Советский Союз располагал менее чем четвертью американского потребительского фонда (см. Теория капитала… 2004, с. 234-235). Тем не менее он:
а) достиг и поддерживал военно-стратегический паритет с самой могучей в мире державой – США;
б) обеспечивал бесплатное образование и медицинское обслуживание своим гражданам на уровне или выше уровня развитых стран;
в) создал и поддерживал развитую систему социальных гарантий и льгот. Советский Союз содержал не имеющую аналогов в других странах, доступную широким массам населения систему санаторно-курортного обслуживания и профилактики, которая в сочетании с другими формами отдыха и занятий физической культурой и спортом обеспечивала населению возможно более полное физическое и духовное здоровье.
Располагая менее чем четвертью американского потребительского фонда, СССР смог снизить смертность своего населения до уровня или даже ниже уровня стран развитого капитализма и достиг почти равной с ними продолжительности жизни. Верно, что он в то же время отставал от развитых стран по ряду важных показателей: потреблению мяса, количеству автомобилей, компьютеров, телефонных аппаратов и т.д. Но все эти промежуточные показатели меркнут перед той реальностью, что его население было не менее, если не более здоровым и интеллектуально развитым. Не факт, что потребление 120 кг мяса показывает более здоровый образ жизни, чем потребление, скажем, 70 кг мяса. Автомобиль, компьютер и телефон представляют большое удобство, но не могут сравниться с ценностью самой жизни. Жили мы дольше, а умирали меньше.
Выше мы видели, как советская система обеспечивала социальные гарантии населению, в том числе право на труд. Что касается заработной платы, то ее уровень определялся двумя частями. Первую составляла та, которую работник непосредственного получал в виде денежного вознаграждения за свое участие в производстве, а вторую – та, которую государство удерживало с работника, и направляло в общий фонд (общественные фонды потребления). С помощью этих фондов, образованных, в конечном счете, конечно, за счет самих работников, но непосредственно бесплатно, а, следовательно удовлетворялись основные социальные нужды общества: медицинское обслуживание и профилактика, образование, получение и использование жилья, досуг и многое другое.
Был ли такой «патерналистский», как теперь его называют, способ удовлетворения социальных нужд более эффективным или менее эффективным по сравнению с нынешним способом монетизации и коммерциализации социальных услуг?
Для ответа на этот вопрос прошлый опыт плановой экономики и нынешний опыт рыночной экономики дают богатый материал. Несмотря на отказ от планового хозяйства мы продолжаем жить за счет того, что было создано в рамках этого хозяйства. Живем в тех же домах, работаем на тех же предприятиях, ездим по тем же дорогам и пользуемся теми же средствами сообщения, которые были созданы тогда. А что дали рынок и капитализм рядовому человеку? Только то, что он живет меньшее количество лет, а умирает в больших количествах.
5. Предельная производительность капитала или эксплуатация труда?
Разорение и обнищание основной части населения и баснословное обогащение считанного числа семьей, за короткий период наживших колоссальные состояния - под стать богатейшим людям в мире является самой характерной чертой нашего рыночного развития. «В России, - пишет журнал «Форбс», - больше миллиардеров по отношению к ВВП, чем в любой другой стране мира, - 36 человек на 458 млрд. долл» (Форбс, 2004, № 2, с. 47). Журнал отмечает и другую важную особенность российского капитала. «Капитал в России, - пишет он далее, - не только сконцентрирован в руках небольшой группы людей - большинство этих людей связано с этим городом. По нашим расчетам, 33 из 36 российских миллиардеров либо живут в Москве, либо сделали свое состояние «решая вопросы» в столице России. Никакой другой город мира не может похвастаться таким количеством миллиардеров, даже Нью-Йорк служит базой всего лишь 31 миллиардера» (с.48). Но если брать в расчет также живущих вне Москвы богачей, а принятую «Форбсом» нижнюю границу крупного состояния в 210 млн.долл. несколько снизить, допустим, до 100 млн. долл., то заветный список значительно пополнится за счет местных баронов и высшего чиновничества в центре и на местах. В таком случае он значительно увеличится до более реального числа - около 500 семьей, которым принадлежит теперь Россия.
Не менее, если не более важное научное значение имеет вопрос об источниках их обогащения в условиях спада экономики и ее технической деградации. Из опыта западных стран известно, что в периоды кризиса происходит не рост прибылей, а их снижение вплоть до разорения обанкротившихся компаний. У нас же, как в период спада, так и нынешнего оживления имеет место такой рост прибылей, что по числу долларовых миллиардеров Россия вышла на третье место в мире. Откуда такая чрезвычайно высокая прибыльность в стране с растущим обнищанием девяти десятых ее населения?
В неоклассических учебниках обычно даются приведенные выше определения прибыли как предельного продукта капитала, а заработной платы – как предельного продукта труда. Но никогда в них не приводится данная Максом альтернативная трактовка этих понятий, очевидно, потому, что для учащихся она может показаться более убедительной. Но сами теоретики о них не забывают. Имея в виду марксистское обвинение в эксплуатации труда капиталом, Дж. Кларк писал, что над обществом тяготеет обвинение в том, что оно «эксплуатирует труд». «Рабочих, как говорят, «регулярно грабят, лишая их того, что производят». Это делается в законных формах и посредством естественного закона конкуренции». Если бы это обвинение было доказано, - продолжал он, - всякий здравомыслящий человек стал бы социалистом, и его стремление переделать систему производства было бы мерилом и выражением его чувства справедливости» (Кларк, 1992, с.25). Чтобы опровергнуть опасное обвинение, неоклассическими теоретиками была разработана изящная конструкция интенсивной производственной функции. Ее смысл состоит в том, чтобы показать зависимость распределения продукта при капитализме от технических условий производства без апелляции к анализу общественных отношений и институтов.
Со времен Рикардо известно, что прибыль и заработная плата находятся в обратной зависимости друг от друга. Чем больше одно, тем меньше другое. Неоклассическая теория объясняет это с позиций спроса и предложения. Цены всех товаров и услуг, утверждает она, включая факторы производства (труд и капитальные товары), определяются рынком. Из этого делается вывод о предельной производительности каждого фактора производства, который используется до той точки, где его цена равна предельному доходу от него. Существенным элементом этой системы является понятие «предельной ставки замещения» одного товара на другой в точном соответствии с соотношением цен, чтобы полезность (в данном случае - прибыльность) на единицу затрат всегда была максимальной. Этим предопределяется стратегия фирмы: больше использовать относительно дешевый и меньше – относительно дорогой фактор производства. Отсюда исключительная важность соотношения ставки заработной платы ( w ) и нормы прибыли ( r ) в каждый данный момент деятельности фирмы. Зависимость между ними неоклассическая теория выражает через график выпуска на работника. В ней выпуск на работника зависит от капиталовооруженности его труда (к) (рис. 3).
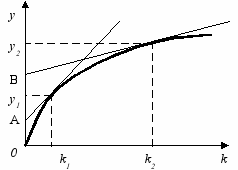
Рис. 3. Интенсивная производственная функция
По оси ординат отложен выпуск на работника (y), а по оси абсцисс – капиталовооруженность труда (k), т.е. капитал на работника. Кривая показывает, что с ростом капиталовооруженности труда (k) происходит и рост выпуска на одного работника (y), но с замедляющимся темпом. При этом наклон касательной к кривой выражает норму прибыли на капитал (предельный продукт капитала) в каждой точке графика. Мы видим, что при переходе от k1 к k2 наклон касательной уменьшается, что соответствует допущению об уменьшающейся предельной производительности. Если мы сравним два отрезка - оy1 и оy2, то увидим, что касательные разбивают их на две неравные доли, причем доля Ay1 больше, чем доля By2. Это и есть величина прибыли в выпуске на работника в двух случаях. Теперь ясно, что второй отрезок в обоих случаях – OA и OB – заработная плата на работника, или ставка заработной платы. Как видим, нет двух точек графика с одинаковой касательной, а значит, и с одинаковыми долями труда и капитала при каждой величине выпуска на работника.
Приведенный график утверждает следующее: каждой величине созданного продукта и варианту его распределения (на прибыль и заработную плату) соответствует один-единственный вариант соотношения труда и капитала, т.е. капиталовооруженности. Это жесткое соответствие распределения и капиталовооруженности труда является краеугольным камнем неоклассической теории капитала, распределения и роста, от которого она не может отказаться ни при каких условиях. Дело в том, что только тем, что распределение обязательно меняется с изменением капиталовооруженности, может обосновываться теория предельной производительности, а значит, и подтверждаться легитимность притязаний капитала на прибыль. Понятно, что чем выше капиталовооруженность труда, тем выше его производительность и больше продукт на работника. Именно рост выпуска на работника рассматривается неоклассической теорией как источник увеличения прибыли при том, что ее норма может и снижаться. Дело в том, что с увеличением производительности труда растет и ставка заработной платы и происходит замещение труда капиталом. Это значит, что снижение нормы прибыли сопровождается увеличением фонда капитала. Именно поэтому при падении нормы прибыли ее масса возрастает.
Таким образом, график производственной функции призван подтвердить неоклассическое положение, что источником прибыли является капитал: растет капиталовооруженность труда, возрастает и прибыль. Ортодоксальная теория не допускает обратной ситуации – разрушения производительных сил и снижения капиталовооруженности. А в современной России именно это и происходит, что теперь стало весьма неприятным сюрпризом для гладкого объяснения происхождения прибыли. Рассмотрим возрастную структуру оборудования в современной российской экономике (табл. 4).
Таблица 4
Возрастная структура производственного оборудования
в промышленности Российской Федерации за 1980 – 2003 гг.
| | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Все обору-дование на конец года, | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| из него в возрасте: до 5 лет | 35,5 | 33,1 | 29,4 | 10,1 | 7,2 | 5,2 | 4,1 | 4,1 | 4,7 | 5,7 | 6,7 | 7,8 |
| 6 – 10 лет | 28,7 | 28,2 | 28,3 | 29,8 | 27,5 | 24,1 | 20,1 | 15,2 | 10,6 | 7,6 | 5,8 | 4,9 |
| 11 – 15 лет | 15,6 | 16,0 | 16,5 | 21,9 | 23,4 | 24,7 | 25,3 | 25,7 | 25,5 | 23,2 | 20,0 | 16,4 |
| 16 – 20 лет | 9,5 | 9,8 | 10,8 | 15,0 | 16,1 | 17,5 | 18,9 | 20,1 | 21,0 | 21,9 | 22,6 | 22,7 |
| более 20 лет | 10,7 | 12,9 | 15,0 | 23,2 | 25,8 | 29,0 | 31,6 | 34,8 | 38,2 | 41,6 | 44,9 | 48,2 |
| Средний возраст (лет) | 9,5 | 10,1 | 10,8 | 14,25 | 15,16 | 16,09 | 17,01 | 17,89 | 18,7 | 19,4 | 20,1 | 20,7 |
Российский статистический ежегодник, 2003, с. 354.
В советское время, когда средний возраст оборудования составлял 8 -10 лет, и мы критиковали эту ситуацию, не без основания усматривая в этом свидетельство нашего технического отставания. Что же мы должны сказать теперь, когда уже в условиях рыночного развития катастрофическое старение оборудования достигло запредельного уровня и его средний возраст превысил 20 лет? Напрашивается тот ответ, что в принятой нами модели рынка побудительные мотивы технического прогресса, обновления и умножения производственного капитала не просто низкие, как при советском строе, а отсутствуют вообще.
Тогда откуда тот бешенный рост прибылей крупных собственников, в силу которого Россия выдвинулась на третье место в мире по числу миллиардеров, занимая лишь 36-е место по ВВП на душу населения? Курицей, несущей золотые яйца, неоклассическая теория считает рост капиталовооруженности труда, а в российской экономике происходит обратный процесс. Стареющее оборудование с каждым годом стоит все меньше и меньше. Если бы прибыль создавалась капиталом, то в российской экономике происходил бы постепенный процесс снижения прибыли, как показано на приводимых ниже двух графиках.
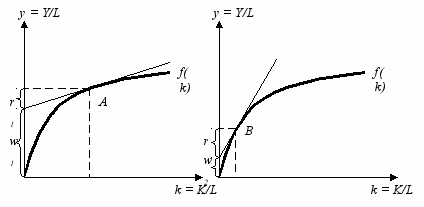
Рис.4. Падение капиталовооруженности и производительности труда в российской экономике
Ввиду падения капиталовооруженности труда с каждым годом прибыль должна была уменьшаться и со временем превратилась бы в отрицательную величину. В результате капиталисты давно были бы в убытках и долгах. Откуда же «золотые яйца» такой гигантской величины, если куры вымирают? Ответ на этот вопрос может быть дан только с позиций классической, прежде всего марксистской политической экономии. «Золотые яйца» прибыли приносит не капитал, а труд; труд же в России есть, причем в большом количестве и дешевый.
По части эксплуатации российский капитал и раньше отличался и теперь отличается особо жестокими формами. Вместо технического прогресса и повышения производительности труда он использует варварские источники и способы накопления богатства. Это позволило ему необычно высоко поднять норму прибавочной стоимости.
