Конкурс Александра вощинина. Силуэты далёкого прошлого
| Вид материала | Конкурс |
- Программа кружка «Моя родословная» (144 ч.) Учебно-тематический план, 222.68kb.
- Д. Ф. Сафонов из далёкого прошлого, 2145.16kb.
- Данная курсовая работа представляет собой взгляд на рекламу, а точнее применение такой, 381.53kb.
- «силуэты» (1969) 1, 45.96kb.
- Из доклада секретаря ЦК вкп(б) А. Жданова, 69.74kb.
- Аскар кишкембаев, 76.41kb.
- Кристофер Найт, Алан Батлер Мистерия Луны, 7995.39kb.
- Кутузов и его время, 447.76kb.
- Исследовательская работа по дисциплине «Литература», 185.3kb.
- Методическая разработка урока Тема: «Многофигурная композиция «Бал 19 века. Силуэты», 268.81kb.
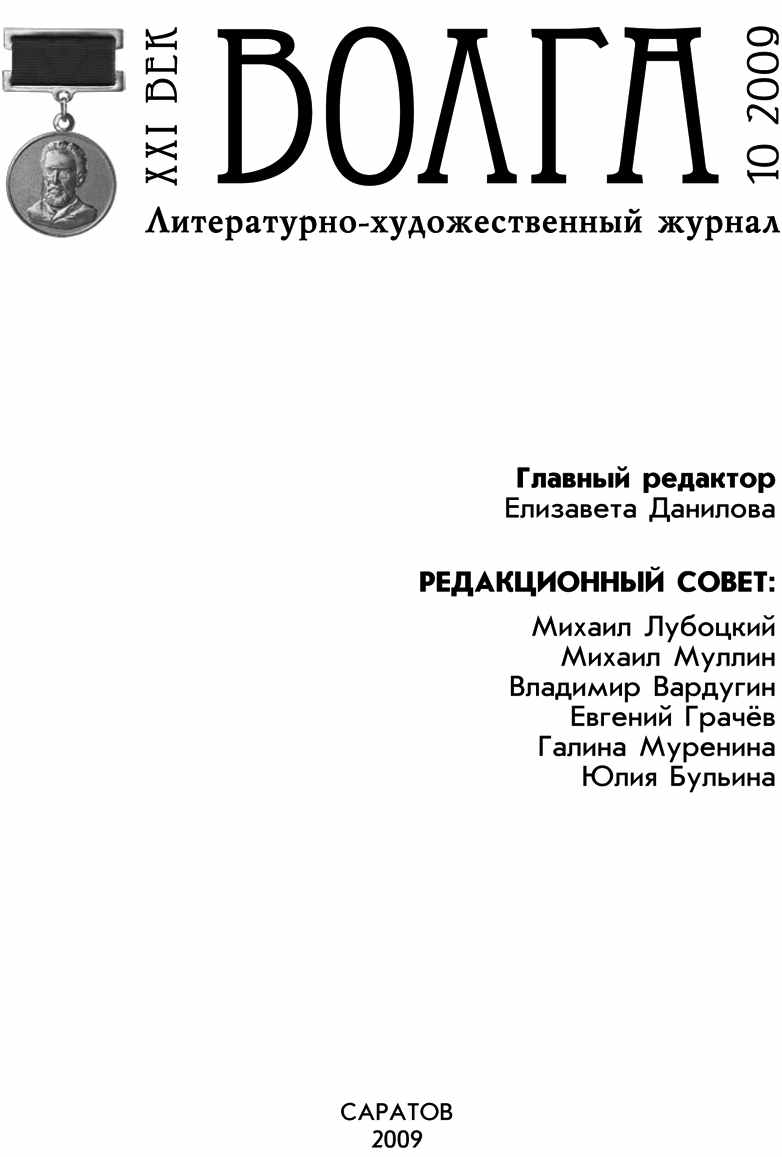
10
2009
СОДЕРЖАНИЕ
Поэтоград
Алексей СОЛОДОВ. В стране, которой нет на карте…
Отражения
Алексей ПОЛУБОТА. Когда деревья тоскуют
Поэтоград
Сергей КАРГАШИН. Люди-деревья
Отражения
Татьяна БРЫКСИНА. Трава под снегом. (Продолжение)
Поэтоград
Юрий МИКУЛИН. Мелодия пришла из ничего…
На волне памяти
Николай СЕМЁНОВ. Дневник моего деда
В садах лицея
Саша ИРБЕ. Любовь к тебе останется в стихах
Отражения
Алексей ГОЛЯКОВ. Первый грех
Камера абсурда
Михаил ШАХНАЗАРОВ. История в стиле fine
Останется мой голос
Илья ФРИДЛИБ. Сиреневый вереск
Литературное сегодня
Юрий МИКУЛИН. «Последний»
«Да разве ж я об этом…»
Мария БАХАРЕВА. Канонизация или поиск?
Ирина СЕРГЕЕВА. Время перемен
Десятая планета
Нина КОРОВКИНА. Каиново семя. (Продолжение)
В мире искусства
Откровения девятого года
Конкурс
Александра ВОЩИНИНА. Силуэты далёкого прошлого. (Продолжение)
ПОЭТОГРАД

Алексей
СОЛОДОВ
Алексей Солодов родился в 1967 году в Саратове. Окончил Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (филологический факультет). Автор книг: «Моя первая книжка», «Легкомысленный Козочкин», «Пока душа не успокоится…», «Моя звезда», «Он любил тишину», «Завещание», «Колыбельная для мамы». Публиковался в журнале «Волга – ХХI век», местных периодических изданиях.
В СТРАНЕ,
КОТОРОЙ НЕТ НА КАРТЕ
Как хорошо
(рассказ советского пионера)
Как хорошо в стране советской
Жилось в году шестидесятом.
Всё в памяти осталось детской.
Я в том году учился в пятом.
Я благодарен тем героям,
Что защищали нас когда-то.
Мы скоро коммунизм построим.
Мы помним Зою и Марата.
Пылает галстук пионерский,
Гремят советские линейки.
И запах «Беломора» мерзкий,
И спички по одной копейке.
Махорка, книжка «Три героя»,
Бокс, полубокс, панамы, шляпы,
Костюм свободного покроя
И шаровары, как у папы.
Гамаши, шлёпанцы, пижамы,
Торшеры, лампы, абажуры,
Футбол, училка, слёзы мамы
И юбилей у тёти Шуры.
И первомайские знамёна
Горят, как пламенные лица.
Флажки, гармошка, листья клёна –
Пусть это будет вечно длиться!
И до утра под радиолу
Плясать и слушать «Кукарачу».
Мечта: скорей закончить школу
И летом укатить на дачу.
До посинения на речке
В трусах сатиновых купаться.
И спать на бабушкиной печке,
И неумело целоваться
С девчонкой, что живёт напротив.
Мы с ней поженимся, наверно.
Она согласна, я не против.
Нам друг без друга очень скверно.
И в космос полетит Гагарин,
Как я – такой же невысокий.
Я бесконечно благодарен
Ему за это. Все уроки
Я приготовлю на «отлично»,
И перемою всю посуду,
И галстук свой поглажу лично,
И тоже космонавтом буду.
И нехорошие ребята,
Что невысоких обижают,
Как Неизвестного солдата,
Тогда меня зауважают.
Я – пионер страны прекрасной!
Клянусь: перед врагом не струшу!
И к Ильичу с гвоздикой красной
Приду и клятвы не нарушу.
«Мы все – советские ребята!» –
Я начертил гвоздём на парте…
Как хорошо жилось когда-то
В стране, которой нет на карте!
Свидание с прошлым
Пусть смешным вам покажется это и пошлым,
Я сегодня пойду на свидание с прошлым.
Пусть разбудит меня «Пионерская зорька»,
Комсомольская свадьба, весёлое «Горько!»
«Пионерскую правду» из шкафа достану,
Прочитаю заметку «Салют Казахстану».
И рассказ Пантелеева «Честное слово»
Перечитывать буду я вечером снова.
Олимпийского мишку на полку поставлю
И значок пионерский на память оставлю.
Газировка на улице, пиво в бидоне,
А в трамваях компостеры в каждом вагоне.
Пью зелёный «Тархун» и ситро «Буратино».
Из окна Пугачёва поёт «Арлекино».
Чёрно-белый экран, телевизор «Берёзка»,
Отрывной календарь, холодильник «Морозко».
У соседей большая румынская «стенка».
Юбилейный концерт легендарной Шульженко.
«Огоньки голубые», концерты, парады
И советская сборная против Канады:
Три – один, и свисток раздаётся финальный…
Выступает в Кремле Секретарь Генеральный
И читает доклад Двадцать пятому съезду.
И старушки, как птицы, слетелись к подъезду.
И ещё один орден «любимому Лёне»
Осуждает сосед-фронтовик на балконе.
А дворовый футбол, а игра на баяне,
А весёлые шутки по «Радионяне»...
Театральный кружок, акварельные краски –
Это детство моё проплывает, как в сказке.
Заурядное детство, обычное детство,
Чтоб вернуться туда – не придумано средства.
Я лопату возьму и прочищу дорожку
К тем годам, по которым тоскую немножко.
Пусть смешным вам покажется это и пошлым, –
Я всё чаще хожу на свидание с прошлым.
Нераскрывшийся парашют
У меня парашют не раскрылся, увы,
И пятнадцать секунд до зелёной травы.
Я всё ждал, что раскроется он наконец,
Ведь пятнадцать секунд – и полёту конец!
Я руками, как птица, махал на лету
И внезапно проснулся в холодном поту.
И испуганно сердце стучало в груди:
Всё казалось, что встреча с землёй впереди.
И, ударясь о землю, на небо взлечу,
И в старинной церквушке поставят свечу…
Ничего не случилось, я жив и здоров,
На работу пришёл, и мой сменщик Петров
По-приятельски пару стрельнул папирос.
– Как дела? – затянувшись, мне задал вопрос.
– Всё нормально, – ответил, обиду тая.
И подумал, что жизнь не раскрылась моя.
Я неверный, наверное, выбрал маршрут,
Моя жизнь не раскрылась, как тот парашют.
Нераскрытая жизнь – как короткий полёт.
Только в небе куда-то летит самолёт,
А я падаю вниз и вот-вот разобьюсь,
Но развязки такой я совсем не боюсь.
Вот ещё один вздох и ещё один миг,
Но не слышит никто мой испуганный крик.
Деревянная церковь устала терпеть,
Ей бы душу мою поскорее отпеть.
Всё готово уже, и отец Никодим
Мне простит, что я был не однажды судим,
И с Петровым ругался, и женщин бросал,
И с ошибками в школе диктанты писал,
Что другие погибли, а я невредим –
Всё простит мне сегодня отец Никодим.
Уж стоят под иконами свечи во фрунт,
А в запасе – пятнадцать коротких секунд.
Серёга
Серёга пьяный приходил
И спать ложился.
А я смотрел и говорил:
– Опять напился.
А он страдал, во сне стонал
И матерился.
А я, как дурень, повторял:
– Зачем напился?
А он ответить мне не мог,
Лежал и злился.
А я ему, как педагог:
– Совсем запился!
А он лежал, переживал,
Молчал упрямо.
Меня ужасно раздражал
Серёга пьяный.
Но вот однажды я пришёл –
Серёги нету.
И на душе нехорошо
Ещё при этом.
За что его я оскорбил,
Зачем бранился,
Когда он пьяный приходил
И матерился?
И стало горько мне тогда
И одиноко.
За всё, что было иногда –
Прости, Серёга!
Нет, я не вышел на балкон
И не разбился.
Я просто сделал всё, как он:
Пошёл, напился.
***
Не часто, конечно, но всё же бывает:
Лишь северо-западный ветер подует –
Над городом странный мужчина летает,
И это давно никого не волнует.
Поверьте, его вы узнаете сразу,
Обманывать нет у меня основанья.
Он бережно держит волшебную вазу,
А в вазе – заветные наши желанья.
Хранит фотографии в правом кармане,
Пытаясь вернуть то, что было когда-то.
Быть может, когда-нибудь в прошлом романе
Он что-то забыл. И теперь виновато
Над городом кружит, как дивная птица,
И ищет кого-то: тебя ли, меня ли…
А может, он ищет знакомые лица,
А лица давно адреса поменяли?
Он крыши домов поливает слезами,
А в стареньком парке сирень расцветает…
Я всё это видел своими глазами:
Мужчина над городом нашим летает.
Он любил тишину
Он любил тишину этих улиц старинных,
Этих скромных рассветов неяркие платья,
И росу, и листву в паутинках недлинных,
И ажурных каштанов немые объятья.
Он хранил этот город от бед и напастей
И хотел, чтобы завтра всё было как прежде.
Защищал эти стены от бурь и ненастий
И надежду дарил королеве Надежде.
Он был юным поэтом с душой нараспашку,
Он по лужам пройтись босиком не боялся,
Он носил макинтош и такую фуражку,
Над которой весь город безумно смеялся.
У него пара крыльев в портфеле хранилась,
Он объехал сто стран, облетел все планеты,
Он увидел такое, что нам и не снилось,
Но любил неприметные эти рассветы.
Поэт и море
Жизнь была ненастоящей, словно фильм неинтересный:
Встречи, ссоры, поцелуи, разговоры о делах,
Нервы, вещи, пересуды, по утрам автобус тесный,
Грязь на улицах и в душах, пыль на книгах и столах.
В этом выдуманном мире настоящим было Море:
Море пело и манило, говорило, чуть дыша.
Море в радости блестело и темнело, если горе.
Было всех оно богаче, не имея ни гроша.
По утрам Поэт безусый приходил сюда от скуки.
Он писал стихи без рифмы и для Моря их читал.
А потом, расправив крылья, позабыв, что это руки,
Целый день над этим Морем чайкой сказочной летал.
В этом мире, словно в сказке, было всё ненастоящим.
Настоящим было Море. Только Море и Поэт.
Он был юным и наивным. Море – тёплым и блестящим,
И сводил с ума, представьте, их загадочный дуэт.
Голос
На плёнку записан твой голос живой,
Его я сто раз в тишине прокручу
И снова заплачу с ночною совой,
На кнопку нажму и задую свечу.
А если однажды нагрянет беда,
И если порвётся спасательный круг,
Я знаю, я верю – так было всегда:
Поможет твой голос – единственный друг.
Навеки расходятся наши пути,
А ветер зовёт и скользит по плечу.
Напрасно: ведь если куда-то идти,
То только с тобой – без тебя не хочу.
У властной судьбы ни о чём не прошу.
Узды не порвать на канатах тугих.
Но если я что-то ещё напишу,
То лишь для тебя – не хочу для других.
***
Если б можно было время обмануть
И назад среди дороги повернуть,
Я давно бы повернул и убежал
К тем годам, где в колыбели я лежал.
Там всё так же наши ходики идут,
Там друзья мои меня не подведут,
Там летает стая белых голубей,
Там в футбол играют с громким криком: «Бей!»
И деревья вырастают выше крыш.
Там, набегавшись, ты крепко-крепко спишь.
Там желания наивны и чисты,
Над рекой сияют радуги-мосты,
Там плывёт по морю белый пароход,
Капитан даёт команду: «Полный ход!»
Там никак не успокоится прибой
И трубач стоит с серебряной трубой.
Я хочу туда вернуться и пожить,
Чтоб стихи об этом времени сложить,
И синицу улетевшую поймать,
И увидеть молодых отца и мать.
Маме
Славься, квартал довоенных домов,
Славьтесь, дороги, деревья и ямы, –
Тихие улицы, старый Тамбов,
Год тридцать первый – рождение мамы.
Как я мечтаю уехать в Тамбов,
Как мне охота увидеться с мамой!
Пусть меня встретит средь милых дворов
Старый мороженщик с белой панамой.
Гордый камыш задремал у пруда,
Тихо стоит на окошке алоэ.
Хочется очень поехать туда,
Взглядом счастливым окинуть былое.
Где эта улица, где этот дом?
Где тот фонарь, что горел до рассвета?
Столько хорошего в городе том…
Было – и нет его – кануло в Лету.
Время несётся, как всадник, вперёд,
Плачет, поёт и ликует природа…
Только покоя никак не даёт
Старый Тамбов тридцать первого года.
Она была
Всю ночь кричала громко птица,
Луна плыла.
Мне мама не могла присниться:
Она была.
Варенье, что она варила,
Ещё стоит.
А свитер, как и говорила,
Тепло таит.
И платье, что она носила,
Ещё висит.
Но маму никакая сила
Не воскресит.
И вторит маятник упрямый
Мне в унисон:
Она была, и это самый
Счастливый сон.
Она была, но улетела
В далёкий Рай.
А возвратиться не сумела.
Но мой сарай
Хранит потрёпанную карту
И два крыла.
Я в Рай лечу, готовлюсь к старту,
И все дела.
В Раю, под яблоней цветущей,
Что по весне
Стоит, забыв про день грядущий,
Я, как во сне,
Увижу ангелов и маму
И удивлюсь.
Домой отправлю телеграмму,
Что остаюсь,
Что в понедельник на работу
Я не приду,
Часы настенные в субботу
Не заведу…
Вот только б вешняя природа
Не подвела.
Лишь только б лётная погода
В тот день была.
Я изучу маршрут до Рая,
Зайду в сарай
И, ничего не забирая,
Отправлюсь в Рай.
Надену я, чтоб не разбиться,
Лишь два крыла…
Нет, мама не могла присниться:
Она была.
Солдат Серафим
Солдат Серафим не вернулся с войны,
В окопах погиб Сталинграда.
А сосны стоят высоки и стройны,
Мундиры надев для парада.
Он в детстве стакан выпивал молока,
Смеялся красиво и просто.
Была гимнастёрка ему велика,
Он был невысокого роста.
Он был озорной городской мальчуган,
Совсем никого не боялся.
Старушки кричали ему: «Хулиган!»,
А он убегал и смеялся.
И надо ж такому случиться: домой
Солдат Серафим не вернулся.
В атаке последней он крикнул: «За мной!»
И в землю родную уткнулся.
Он, руки раскинув, лежит на земле,
И кровь вытекает из раны.
На праздник Победы, на встречу в Кремле
Другие придут ветераны.
Стоит сиротливо стакан молока,
Стареют отцы-командиры.
А в небе плывут и плывут облака,
И сосны надели мундиры.
***
Я в сорок пятом навсегда остался,
Для всех пропавшим без вести считался.
Меня искали долгие полвека –
Солдата, мужа, просто человека.
И день за днём, покуда были живы,
Писали письма в разные архивы,
И на приём ходили в кабинеты,
А по ночам в слезах шептали: «Где ты?»
Над карточками плакали моими,
А я всё знал и плакал вместе с ними.
Теперь забыт. Но в жизни так бывает:
Пришедший день о прошлом забывает.
Но мне забыть не суждено, поверьте,
Письмо из дома в маленьком конверте.
А в том письме и слёзы, и приветы,
И грусть, и довоенные рассветы.
Настанет ночь, и мне опять приснится
И то письмо, и дорогие лица,
И первый бой, и первые утраты,
И как от пули падают солдаты,
Земля гудит и кровью истекает,
От пота гимнастёрка промокает.
Мне миномётов не забыть охрипших
И всех своих товарищей погибших…
Который год мне эти сцены снятся,
И это будет вечно повторяться.
Я с той войной ещё не расквитался,
Я в сорок пятом навсегда остался.
Я не погиб, я без вести пропавший,
Безусый дед, давно легендой ставший.
ОТРАЖЕНИЯ
Алексей
ПОЛУБОТА
КОГДА ДЕРЕВЬЯ ТОСКУЮТ
Рассказы
Алексей Полубота родился в 1978 году в Мурманске. Живёт в Реутове Московской области. Окончил Литературный институт им. М. Горького. Работает в Департаменте культуры Москвы. Член Союза писателей России. Участник Форума молодых писателей России (2008). Дипломант 5-го Московского международного конкурса поэзии «Золотое перо». Публиковался в «Литературной газете», «Независимой газете», «Парламентской газете», в журналах «Север», «Московский вестник», в альманахах «Братина», «Площадь первоучителей».
СМЕРТЬ ДРУГА
Памяти Павла Черепанова
Андрей сидел в кабине грузовой машины. Он не знал её названия, но машина была мощная. Высоко и мягко подпрыгивала она на пыльных ухабах разбитой дороги. Андрею приходилось покрепче держаться за ручку перед собой, чтобы не удариться о крышу кабины. Всё это было бы даже весело, если бы не то, что лежало сзади, в крытом кузове машины.
За окнами тянулись выцветшие улицы маленького города. Стеклянное солнце разжигало бесшумные ослепительные костры в алых и золотых кронах придорожных деревьев. Осень. Прохладный солнечный день. Именно такие очень любил Андрей. Но сегодня в солнечный блеск осеннего воздуха как будто подмешали чёрного цвета.
Интересно, а Паша любил ясные дни осени? Наверно, любил. Бесхитростные души любят солнце. Точно теперь уже не узнаешь. Когда человек живёт рядом, как-то не приходит на ум спросить его о самых простых вещах. А потом становится поздно. Андрей впервые открывал для себя эту печальную аксиому.
Ещё несколько дней назад, когда Паша был жив, он считал его хорошим приятелем, не больше. Была между ними какая-то полоса взаимной сдержанности, недосказанности, переступить которую так и не решился ни один из них. Андрей порой сознательно избегал слишком сильного сближения. Тем неожиданней для него было потрясение, которое он испытал, узнав о смерти Павла.
Машину в очередной раз сильно подбросило на ухабе. Как они там, в кузове, догадались закрыть гроб или придерживают тело руками, чтобы не выпало?
Андрей не то чтобы боялся покойников. Он испытывал какое-то физическое отторжение, инстинктивное желание держаться подальше. Как будто тлетворная работа, которая шла в мёртвом теле, могла вдруг неизлечимым вирусом перекинуться на его живую здоровую плоть, проникнуть в душу. Поэтому по дороге в морг Андрей был напряжён. Готовил себя к тому, что придётся не только первый раз в жизни прикоснуться к мёртвому человеческому телу, но и что-то делать с ним, куда-то нести.
Однако мёртвый Павел совсем не был похож на тот страшный образ покойника, который рисовал себе Андрей. Его исхудавшее тело, в выцветшей гимнастёрке, в скромных, застиранных штанах, казалось почти невесомым, когда его несли к машине. А на заострённом, землистого цвета лице последней нестираемой печатью застыли предсмертные страдания. Как будто Павел, который при жизни не любил жаловаться, всё ещё какой-то своей частью был жив и говорил безмолвно: «Как же мне было больно».
Павел хотел жить. Вопреки грусти, с каждым годом густевшей в его чёрных казачьих глазах, вопреки запоям, после которых стены общажной комнаты темнели от липкой перегарной копоти, вопреки безвольному сползанию в нищету, бытовую неприкаянность, вопреки собственным, в пьяном бреду произнесённым словам.
Они познакомились в Литинституте. Андрей сначала с чувством снисходительного удивления смотрел на тридцатилетнего застенчиво-хмурого студента: не поздновато ли решил податься в литераторы? И только спустя несколько месяцев узнал, что Паша, как и его брат, стал студентом лишь для того, чтобы иметь крышу над головой.
Его душа, видимо, была сделана из какого-то добротного, не умеющего услужливо приспосабливаться к резким изломам жизни материала. Поэтому когда подземные толчки разрушили Материк его родины, он не затаился выжидательно и уныло, как многие. Приднестровье. Казачья батарея. Его брат рассказывал, что там, в грохоте разрывов, Павел был счастлив. Наверно, потому, что чувствовал себя причастным к делу, которое может что-то изменить в судьбе родины, а значит, и в его собственной.
Ободрённые победой на днестровских берегах, братья вернулись домой, чтобы попытаться снова сделать свою малую родину, южный Алтай, частью большой. Этой попытки власти суверенного обломка Материка им не простили. Чтобы не попасть в тюрьму, пришлось срочно уезжать в Россию.
Да, чубатый, облачённый в старомодный, добротного покроя пиджак, Павел странно смотрелся на их курсе. Был он словно из шукшинского времени, когда русские люди в большинстве своём ещё не оторвались от земли, жили дружней и проще; когда на многолюдных застольях ещё звучали протяжные старинные песни и раздавалась залихватская дробь сорвавшихся в пляс каблуков. Недаром же Павел, единственный среди студентов, умел огласить тусклую тишину общежитских коридоров не жиденьким звоном дешёвой гитары, не магнитофонным рёвом, а переливистыми звуками гармони.
А на курсе тон задавала «продвинутая» московская молодёжь. Андрей и сам порой терялся, слушая раскрепощённый щебет завтрашних переводчиц трёхгрошовых фильмов и выпендрёж эстетствующих и равнодушных к бедам своей страны длинноволосых отпрысков. Что чувствовал при этом Павел, можно только догадываться.
Он как-то всё больше сникал, становился тише и грустней. Всё реже лицо его освещала светлая, доверчивая улыбка. И всё трудней было представить этого заросшего махровой щетиной, похмельной тенью блуждающего по общежитию человека казачьим атаманом, смельчаком, на виду у вражеского берега посылающим мину за миной в чернеющее жерло миномёта. Как будто жизнь в Москве день за днём разуверяла его в том, что он может быть нужным и счастливым в изменившемся, чужом для него мире. И небольшая спайка друзей-однокурсников, возникшая возле братьев, не остановила, а лишь замедлила погружение его души в чёрный, беззвёздный колодец.
Впрочем, и в самые безысходные моменты жизни тот замес, на котором он был сделан, помогал ему оставаться цельным человеком, надёжным, как родная земля под ногами, товарищем.
Андрей вспомнил яростную, дикую драку, навязанную ему подвыпившим ухарем-боксёром. В критический момент, когда отбиваться приходилось уже от двух ухарей, Паша, случайно оказавшийся рядом, не медля ни секунды, ввязался в схватку. Большой помощи он, изнурённый алкоголем и полуголодной жизнью, оказать не смог. Но за чувство локтя, которое ой как нечасто приходилось испытывать при нынешних раскладах, Андрей и по сей день был благодарен Павлу.
Грузовик выбрался на оживлённую трассу, рассекающую сонный город. Под колёсами зашуршал, завздрагивал асфальт. Теперь уже скоро.
Да, судьба всё-таки великий режиссёр. Точно и безошибочно выбирает она время и место завершения вверенной ей жизни. Трудно представить, чтобы Паша умер в благополучном, благоухающем лакированными клумбами городе. Впрочем, пока человек жив, вообще трудно представить, где и как он умрёт. Да и не надо этого делать.
Когда стало окончательно ясно, что Павел не удержится в институте, решено было на деньги, доставшиеся ему в наследство, купить дом. Так в их жизни появился этот блёклый, запутавшийся в пустырях городишко. Поначалу казалось, что там, среди подступающих к городу былинных владимирских полей, в душистой тени яблоневого сада, Павел придёт в себя, осмотрится и с новыми силами начнёт осмысленную, плодотворную жизнь. Друзья вздохнули с облегчением. Однако тишина разуверившейся во всём, озабоченной выживанием провинции оказалась для Павла не лучше, а пожалуй, и хуже самодовольного столичного шума. На новом месте не удалось найти сколько-нибудь достойной работы, не складывалось общение. А главное, не было рядом той любящей, заботливой, «православной», как говорил сам Павел, женщины, которая ещё могла спасти его. Тиски одиночества лишь изредка разжимались, приезжали институтские друзья и бывшие боевые товарищи. Андрею навсегда запомнилась скудная сладость братской, сваренной на костре похлёбки, которую друзья, сбившись в кружок, по-солдатски черпали ложками из одного котелка. А вокруг в лучах мимолётного солнца золотилось грустно-радостное, по-осеннему умиротворённое поле. На лице Паши тогда светилось нарочито серьёзное, исполненное хозяйского достоинства выражение.
Иногда Павел и сам сбегал в Москву, к брату, чтобы на птичьих правах перебиться в общежитии несколько дней, почувствовать тепло неравнодушных рукопожатий. Между тем дом его всё больше пропитывался нежилым, нелюдимым духом. Всё наглее хозяйничали в нём сквозняки, воруя и без того скудное тепло. У мастеровитого, воспитанного в рабочей семье Павла уже не было душевных сил противостоять запустению. Зачем ремонтировать жилище, если нет веры в то, что будешь в нём счастлив?
Усталое осеннее солнце спряталось за облака. Наверно, не было больше сил делать землю лучше, чем она есть. Городок вдоль дороги стал ещё смурнее, безысходнее. На пыльных погасших листьях явственней проступили червоточины – следы одолевающего их тления.
В конце концов, лишь бы не оставаться один на один с чёрными мыслями, Паша стал пускать в дом всякое отребье. О чём он мог говорить с жуткими, опустившимися людьми, распивая шибающее ацетоном пойло?! В минуты просветления Павел выгонял их, но они, как вредные насекомые, появлялись вновь. Скоро соседи перестали с ним здороваться.
А тут ещё друзья, окончившие институт, все силы бросили на то, чтобы найти себе место в суетно-безжалостной московской жизни, и потому приезжали всё реже. Вакуум одиночества стал невыносимым.
Андрей вспомнил, как Павел в одну из откровенных минут с удивлением и какой-то надеждой говорил о том, что всё ещё жив. Да, Ангел-хранитель долго и терпеливо отдалял его конец, прощая бесконечное пренебрежение к дарованной Господом жизни, к тому запасу прочности, который достался сибирскому казаку от предков. Но в какой-то момент в своей неприкаянности Павел переступил невидимую спасительную черту, оберегавшую его жизнь. Теперь смерть только примерялась, как безошибочней нанести подлый удар.
Раскалённая печная заслонка. Ожог. Купить спасительный тюбик мази, забинтовать, и всё. Поболит несколько дней и пройдёт. Но нет денег на этот тюбик, а главное, нет сил бороться за себя. Чёрное безволие спеленало душу. Авось и так пройдёт. Бывали ранения и похуже.
Но не прошло. Обожжённая нога распухла и загноилась. Рядом – никого. До Москвы – бесконечные, непреодолимые три часа электричкой. Обычного телефона нет, сотового… – странно было даже представить Павла с мобильником в руке.
Среди его соседей были незлобивые русские люди, которые, забыв неприязнь, помогли бы. Но тридцатисемилетний Павел в житейских делах проявлял порой детскую застенчивость, смешанную с гордостью. Не мог он попросить помощи у тех, кто с осуждением смотрел на него.
В последний момент он всё-таки наскрёб какие-то гроши и дохромал до почты. В телеграмме брату было всего два слова: «приезжай плохо». Когда брат приехал, было уже поздно.
В кабине запахло табачным дымом.
– Друг? – спросил водитель, молодой парень с простым, сосредоточенным лицом.
– Да, друг, – Андрей вдруг удивился, что дорогу к тому, что некогда было домом Павла, выпало показывать именно ему.
– От чего умер, пил? – затянувшись, снова спросил водитель.
– Да ведь, как… – растерялся Андрей.
И вдруг, вспомнив о десятках, сотнях тысяч спившихся, потерявших себя на обломках Материка русских людей, согласно кивнул.
– Да, пил.
Никаких других слов не требовалось в эту минуту.
КОГДА ДЕРЕВЬЯ ТОСКУЮТ
Недалеко от моего дачного посёлка – деревенька: два десятка разбросанных возле тихой речки домишек. Большинство домов жилые «наполовину». Их купили дачники.
Дачники – люди современные. Любят они принарядить своё жилище помоднее. Кто-то спрячет потемневшие бревенчатые стены за пластиковой бездушной обёрткой, кто-то покроет крышу черепицей в голландском стиле, а кто-то и вовсе выстроит беседку с намёком на китайскую пагоду. Ну что ж, домам дачников повезло всё-таки больше, нежели тем, что стоят никому не нужные посреди деревни. И в дождь, и в солнце заглядывают они в глаза прохожих сиротливо треснувшими стёклами, как будто просят, чтобы кто-нибудь пожил в них. Впрочем, рассказать я хочу не об этом.
На самом краю деревни ещё пару лет назад стояла избушка. Именно избушка, а не изба и не дача. Несмотря на почтенный возраст и слегка покосившиеся стены, было в ней что-то сказочно опрятное. Наверное, оттого, что ладно, с любовью подогнали когда-то строители отборные, одно к одному, брёвнышки. Сквозь некрашеный штакетник выглядывал ухоженный огород с рядами весёлой, раскидистой картошки, с пёстрыми островками лёгких, словно бабочки, цветов. Не только двор, но и дорога рядом с избушкой, и спуск к реке – всё радовало глаз мягкой зеленью заботливо выкошенной травы.
Жила в избушке ветхая, чуть не пополам согнутая старушка. Уж не знаю, как ей удавалось поддерживать такой порядок в своём хозяйстве. Может быть, приезжал кто из города, помогал. В любом случае, жила она одна, и жила трудно.
Как-то, прогуливаясь, я увидел старушку с полной корзиной выстиранного белья в руках. Дорога до бельевой верёвки в полтора десятка шагов давалась ей с немалым трудом. Сделав два-три шага, старушка ставила корзину на землю и отдыхала.
Избушка кроме своей хозяйки примечательна была и тем, что росла рядом с ней высокая, статная лиственница. Широко, привольно закидывала она изумрудные ветви в голубое небо. Глядя на неё, вспоминались звонкие просторы её далёкой родины – Сибири.
Особенно хороша была лиственница в лучах осеннего солнца. Издалека, с объятых золотистой тишиной увядания холмов был виден сноп нежно-оранжевого пожара, поднятый деревом к небесам.
К сожалению, года через два после того, как я впервые оказался в тех местах, сказочной избушки не стало. Старушка, по всей видимости, умерла, а её жилище разобрали по брёвнышкам и продали. Однако ухоженный огород остался. И цветы всё так же порхали над овощными грядками. Но вот лиственница… Словно бы надломилась она. Некогда пышные ветки чахли и умирали одна за другой. Глядя, как тоскливо чернеют они над обезглавленным двором, трудно было поверить, что всё это случайность, совпадение.
Лишь на третий год после смерти старушки стала оживать лиственница. На могучем стволе проклюнулись свежие изумрудные побеги. Я уже, было, обрадовался за дерево. Всё-таки она искренней иных людей оплакала, пережила гибель близкого человека и заслужила право на продолжение жизни.
Однако новые хозяева рассуждали иначе. Они не стали дожидаться, чем окончится затяжная борьба лиственницы со смертью. В очередной раз проходя по деревне, я заметил расчленённый на беспомощные обрубки ствол моей старой знакомой.
ПОЭТОГРАД
Сергей
КАРГАШИН
Сергей Каргашин родился в 1965 году в г. Черняховске. Закончил факультет журналистики МГУ. Автор многих книг и более пятидесяти песен. Среди исполнителей – Николай Басков, Игорь Демарин, Александр Михайлов, Анна Снаткина, Антон Макарский, Игорь Матета, группы «Сябры», «И.К.С. – Миссия», «Белые росы» и др. Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии Александра Невского (2000) и «Хрустальной розы Виктора Розова» (2006).
