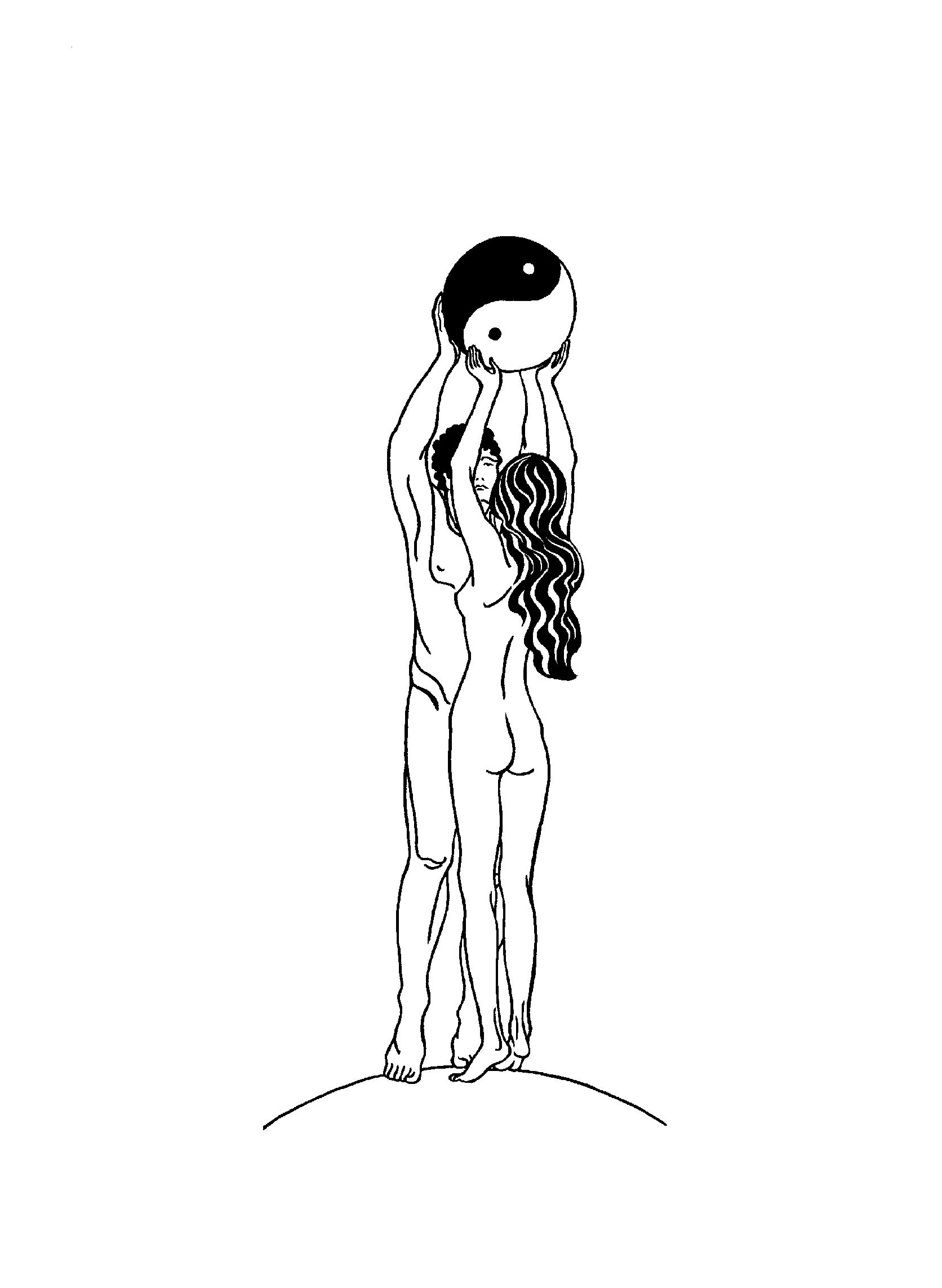И. М. Семашко Гендерные проблемы в общественных науках
| Вид материала | Документы |
СодержаниеЧитаем сказки «сквозь гендерные очки» Жалость и сострадание к слабым А.Ю. Першай |
- Тема I. Методология гуманитарного познания Картезианский идеал науки и социальная физика:, 49.65kb.
- Ркб им. Н. А. Семашко информирует, 464.49kb.
- Разработка Мельник Г. С, 92.35kb.
- А. Э. Еремеева Часть 3 Проблемы современных исследований в гуманитарных науках Омск, 4792.94kb.
- А. Э. Еремеева Часть 2 Проблемы современных исследований в гуманитарных науках Омск, 4444.52kb.
- Нп «сибирская ассоциация консультантов», 212.32kb.
- Бадмаев Эрнис Сагаевич Санкт-Петербург 2010 г. Содержание Введение Глава 1: Теоретический, 1227kb.
- О. Ю. Маркова Гендерные аспекты внутриорганизационных коммуникаций, 232.78kb.
- Syllabus по курсу «основы гендерных исследований» обоснование курса: Гендерные исследования, 188.14kb.
- Коткина Татьяна Рудольфовна учитель географии, Iкатегория. 2008 г пояснительная записка, 46.09kb.
Читаем сказки «сквозь гендерные очки»
(одна из методик гендерной педагогики)xciv
Самый могучий прием воспитания детей в русской народной педагогике — это воспитание Словом. Его действие ощутимо уже в тех «простейших» видах сказок — их именуют докучными — с которыми взрослые знакомят маленького человека, едва он только начинает понимать слова. С годами роль сказок в жизни ребенка возрастает. И наступает момент, когда взрослые начинают даже испытывать неудобство — так часто и так настойчиво дети требуют рассказывать им все новые и новые сказочные истории или же бесконечно повторять давно известные. Читаемые и рассказываемые детям сказочные сюжеты усложняются, превращаясь из простой забавы в мощнейший инструмент воспитанияxcv.
Почему сказки так волшебно привлекательны для детей?
Прежде всего — у сказок особая композиция. Кто не знает пристрастия сказочника к повторению сказочных эпизодов, приговорок, рифм («Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел…», «Бежала через мосточек, подхватила кленовый листочек…», или «Я — Муха-Горюха, я — Блоха-Потаскуха» в сказке «Теремок»). Повторы имеют следствием полное, точное усвоение сказки ребенком, в том числе всевозможных мельчайших подробностей. Слушать сказку и интересно, и легко, она все время успокаивает ребенка: не волнуйся, не упустишь, не прослушаешь самого важного, я тебе все повторю…
Далее, сказки направляют умение ребенка самостоятельно делать выводы и умозаключения. Каждая оплошность героя сказки, как и каждый успех заставляет слушателя самостоятельно «выстраивать» понятия о добре и зле, о поощряемом и предосудительном, причем даже самая простая композиция всецело отвечает обучающей и педагогической функциям сказок. В сказках непременно есть «плохие» и «хорошие». «Плохой» персонаж наказывается и гибнет, тем самым подавляется «плохой» жизненный сценарий, а «хороший» — вознаграждается, возводится в высший ранг…
Фольклористы, изучающие сказки, отмечают еще один важный педагогический момент — строгую логичность сказочного сюжета, его «цепьевидность» (связанность всех эпизодов, как звеньев одной цепи), с помощью которой рассказчик или читающий сказку удерживает внимание малыша и, одновременно, добивается большого эмоционального эффекта, отзывчивости и сострадательности. Сказка защищает слабого, делает его победителем, избавляет от бед всех творящих добро и обрекает на неудачи хитрых и жадных.
Для обострения драматизма и усиления глубины переживания в сказках всегда присутствует вымысел, фантазия. Очистительная сила вымысла удивительным образом воспитывает в добре и Добром, обучает малыша видеть прекрасное в обыденном. Дети приучаются глядеть на мир особенными глазами. Они весьма скоро начинают понимать, что сказка — выдумка, но след очарования сказочным чудом сохраняется, как сохраняется и привычка свободно мыслить, выходя за пределы реально существующегоxcvi.
Как мы видим, сказка — прекрасный материал для эстетического, обучающего, познавательного воспитания ребенка. Всей своей формой сказки — особенно в писательской обработке (С. Аксакова, Л. Толстого) буквально приглашают (если не провоцируют!) к морализаторству. Стоит учесть и то, что при всей «международности» многих сказочных сюжетов, — в общем сказочном богатстве, которое мы предлагаем (и читаем) своим детям, всегда есть и сказки, которые отражают сугубо национальные черты культуры. Воспринимая их через сказки, ребенок «делает своим» то, что было выработано и принято многими поколениями до него. Так что, читая сказки, мы как бы «подбираем ключ к отечественному умострою» (В.Максимов).
Прописанные в популярных сказках стереотипы необычайно выносливы и дологовечны. В том числе — добавим мы — стереотипы гендерные. Отсюда недалеко до неутешительной мысли о тщете перемен на Руси: мол, одежда перелицовывается, а суть остается. Но все ли возможности извлекаем мы из сказок, когда размышляем о направленности гендерного подхода к воспитанию детей младшего возраста? Знакомство со сказками создает иллюзию хорошего знания всех сюжетов, при этом сказка столь многомерна, что позволяет «вычитывать» именно то содержание, которое соответствует культурному уровню читающего. Потому-то так важно — приступая к чтению сказок своим детям и их сверстникам — ясно представлять себе, чего же все-таки мы хотим добиться в своем педагогическом порыве. Поставим в центр нашего обсуждения сказки, где главный действующий персонаж — женского пола.
Такие сказки можно сразу разделить на две группы:
- те, в которых эти персонажи представлены как воплощение «традиционной женственности» — их много, если не большинство, и такие сказки есть в фольклоре многих народов;
- те, где обрисованы поляницы (богатырши, «амазонки»)xcvii.
Многие «сказковеды» отмечали: в русских народных сказках, включая их талантливые авторские стилизации (А.С. Пушкина, С.К. Аксакова, Л.Н. Толстого) — как, впрочем, и в сказках других народов, героиня чаще, чем герой оказывается в положении «жертвы» и не просто жертвы — но «жертвы вредителя» (некоего, подчас — известного, подчас — неизвестного вредоносного существа)xcviii. Так или иначе, но героиня очень часто бывает объектом спасения. Достаточно вспомнить такие известные и любимые детьми сказки как «Морозко», «Василиса Прекрасная», «Крошечка-Хаврошечка» и многие, многие другиеxcix. Вне всякого сомнения, сказки подтверждают факт: активный женский жизненный сценарий и в жизни, и в сказке обычно подвергался подавлению, «вытеснению», в то время как безропотные — назовем их так — «Золушки-Падчерицы» восхвалялись и воспевались. Сказки в этом смысле были лишь частичкой общей традиционной идеологии, в которой социально активные представительницы прекрасного пола были изгоняемы, порицаемы, осуждаемы и — подчас — сжигались на кострах как ведьмы, а социально пассивные — напротив, восхвалялись.
Присмотримся повнимательнее к Настеньке из «Аленького цветочка», Падчерице из «Морозко» и другим их подружкам и сверстницам.
Главная героиня тех сказок, где действуют персонажи воплощенной женственности, как правило, с детства — наполовину сирота и живет поначалу с отцом. Матери-одиночки в русской сказочной традиции практически не известны. Поэтому в русской сказке девочка, как правило, остается именно с отцом и теряет мать — которая была при жизни воплощением всевозможных дободетелей [cразу заметим, что «в жизни» — в отличие от сказки — как правило, раньше умирают отцы, а не матери]. Сказка повествует о том, как отец находит себе новую жену, надеется, что она станет хорошей матерью для его дочери, но увы — обманывается в своих ожиданиях. Мачеха оказывается злой, ненавидит падчерицу, всячески притесняет, мучает разной работой и т.д.
А где же отец героини? Он — как правило, «добытчик», он обеспечивает семью (очень часто он — купец, как в «Василисе Прекрасной» или «Аленьком цветочке»c либо, например, царь — как пушкинской «Сказке о царе Салтане»). В любом случае ясно: бóльшую часть времени он проводит вне дома, он НЕ участвует в домашних делах, НЕ занимается воспитанием детей, в том числе и собственной дочери. Многим ли из нас — рассказчикам сказок, родителям, читавшим их своим детям, приходило в голову обратить внимание ребенка на то, что отец девочки в подобной ситуации выступает в роли непротивленца, если не пособника злу? Напротив, мы даже слегка жалеем его, этого отца, который не противится решению своей грубой и жестокой второй жены и мачехи его дочери.
Иными словами, сказка подчеркивает тему зависимости слабого мужчины от сильной женщины, причем Мачеха в сказочном тексте предстает истинным воплощением зла. Мужчины же — подкаблучники сплошь и рядом демонстрируют бессилие: когда мачеха посылает падчерицу в морозный лес, ее отец — сказано в сказке — лишь «тужит и плачет», но отнюдь не пытается задержать дочку или отменить решение своей злющей и вредной супруги.
Теперь взглянем на героиню. Жестокое, авторитарное отношение злой мачехи идет ей почему-то на пользу. Она не озлобляется, не грубит и не дерзит (что было бы естественно!), а медленно, но верно приобретает необходимые навыки для воплощения успешного — подчеркнем, с точки зрения традиционной семейной морали, традиционного распределения ролей и традиционного же понимания женского счастья — жизненного сценария. Крошечка-Хаврошечка, которую воспитатели «работою зануди, заморили», равно как героиня сказки «Морозко», которая и «скотину поила-кормила, дрова и воду в избу носила, печь топила, избу мела» — умеют буквально ВСЕ. Они — мастерицы на все руки, кто, как не они, умеют вежливо разговаривать, внимательно слушать и поддерживать разговор, они с детства научены и навыкли развлекать других (петь, танцевать) [«Снегурочка песню запоет — заслушаешься…»]. Все это очень важно для положительного женского характера, который пестуется сказочником, как бы приговаривающим: «Учись, девочка, быть служанкой по призванию…».
К тому же воспитание такого положительного характера или «проектировка личности» — как выражался корифей советской подагогики А.С.Макаренко, — идет в сказке при постоянном напоминании, что «хорошая девочка» (Крошечка-Хаврошечка, Василиса Прекрасная, героиня «Морозко» и т.д.) ничем не проявляет недовольства своим незавидным положением, не жалуется, а безропотно сносит все испытания.
Сказка умышленно превращает девушку-героиню в «как-бы-ребенка» (инфантилизирует) — ей отводится роль несамостоятельной, полностью послушной, кроткой исполнительницы чужих желаний. Подобно тому, как в детской сказке «Гуси-лебеди» крошка-Ванечка не в силах сопротивляться злым гусям-лебедям, которые уносят его в избушку к Бабе-Яге, в обычных сказках — «Морозко», «Крошечке-Хаврошечке», да и в европейской по присхождению «Золушке» — юные прилежницы ни в чем не ослушаются старших в доме и идут по первому требованию на верную смерть (в лес, в мороз) или на измождающую работу (перебирать зернышки и проч.). Спасение к ним приходит чудом и всегда — извне (ведь не сами же девушки выдумывают новый способ выживания в экстремальных условиях, а Мороз Иванович или же фея-крестная, или же добрый князь, — тот, что спас сестрицу-Аленушку и братца Иванушку ci– выручают горе-послушниц).
Со всем педагогическим пылом сказка внушает необходимость и даже полезность испытания мощи женской любви и силы преданности любимым мужчинам. Вот пример. С Марьюшкой — простой девушкой из сказки о «Финисте Ясном Соколе»cii — случилась беда — от нее улетел любимый. Казалось бы, с кем из нас такого не случалось? Сказка и учит тому, как девушке действовать в более чем обыденной и прозаической ситуации — не искать другого, не рыдать, не пускаться во все тяжкие, не вынашивать планы самоубийства и не бежать к психотерапевту с жалобами на депрессии, а, по мудрому народному совету, «искать его (любимого своего — Н.П.) за тридевять земель, в тридесятом царстве». («Прежде три пары башмаков железных истопчешь, три хлеба каменных изгложешь…»).
Сказка внушала (и внушает!) возможность и достижимость преодоления разных жизненных невзгод, в том числе и «расколдовывания», «окультуривания» даже самых мерзких Чудищ — и предлагала это делать девочкам-девушкам-женщинам силой одной только любви.
Казалось бы, в чем отличие европейской сказки о Спящей Красавице (которую расколдовывает поцелуй принца) и аксаковской сказки «Аленький цветочек» (в котором, наоборот, расколдовывание осуществляет девушка, заверяющая, что любит Чудище «как жениха желанного»)? На первый взгляд, больше сходств, чем отличий… На деле же — в русской сказке есть одна никем не замеченная воспитательная ловушка. Европейские девочки, воспитанные в духе «спящих красавиц», будут ждать своих принцев (и вряд ли выпускнице элитного коледжа придет в голову выходить замуж за пролетария и «поднимать его до себя»), а российские девочки, взращенные на «Аленьком цветочке», с детства запрограммированы на возможность исполнения мечты — превращения недотепы (-чудища) в достойного и равного им супруга. Они будут годами коротать век с мужьями-неудачниками и мужьями-подлецами, утешая себя весьма сомнительной перспективой исполнения их сказочной мечты.
Ждать, верить, стариться молодой да незамужней — но оставаться преданной… Похоже, здесь у Аксакова была и стилизация любви к Родине: полюби ее «черненькой», а «беленькой» ее любой полюбит. Можно ли отыскать примеры аналогичной верности своему чувству со стороны женихов, мужчин? Об этом — разговор ниже.
Добавлю, что из текста аксаковской сказки следует, что Настенька была 12-ой (!) в числе тех юных особ, которых чудище пыталось — но безуспешно — влюбить в себя и, в конечном счете, изничтожило как «не справившихся с заданием». Остается только изумляться жестокости того наказания, которое описывает русская сказка, осуждая тех женщин, кто решился отказаться от предначертанного — видеть свое счастье в браке, в супружеской преданности, в служении мужу! Сказка настойчиво педалирует эту угрозу: не хочешь быть такой, как все, — не просто замуж не выйдешь, но и вовсе погибнешь! Или — погибнут родные (отец, которого «казнят казнию лютою...»).
И все же в тексте аксаковской сказки заложен не только явный, можно сказать — поверхностно-очевидный смысл, но и второй, глубинный, очень важный именно для русской женщины. Бесстрашие, умение принять свою судьбу — черты в русской культуре более «социально высокие», нежели истеричность, меркантильность и малодушие. Добавим и еще одно качество, проявившееся у купеческой дочки Настеньки — и, заметим, типичное для предбуржуазной системы поведения, предбуржуазного этоса — «умение держать слово», так сказать, «соблюдать контракт» (Чудище велело Настеньке вернуться вовремя — и она стремилась сдержать свое слово…). Думаю, что умение обратить внимание современной девочки-слушательницы на эти высокие нравственные ориентиры — есть половина успеха в воспитании именно социально-активной личности, а не пассивной созерцательницы.
В сказках, где героиня — жертва обстоятельств, жертвенная любовь обязательно вознаграждается. Настенька из «Аленького цветочка», решив служить Чудищу «верою и правдою, исполнять его волю господскую» вознаграждается получением в мужья прекрасного принца. Вознаграждаемо и Большое Терпение (вспомним «Морозко» — девушка еле шевелила языком от холода, но на вопрос Мороза Ивановича «Тепло ли тебе?» — ответствовала «Тепло, Морозушко, тепло, батюшка…» — то есть заведомо обманывала, стараясь соответствовать имиджу «хорошей девочки», которая всем довольна). Так что сказка все время манит маленького читателя достижимостью хорошей жизни за одну только жертвенную любовь.
Читая сказки, можно легко составить и перечень тех даров, вознаграждений и, так сказать, призов, которые полагаются трудолюбивым, покорным, терпеливым, вежливым и кротким. Главный Приз для девушки — это, если верить сказке, удачный брак с «кудрявым, молоденьким» плюс богатство. Дальнейшее развитие «жизненного сценария» героини — сказкой опускается (жизнь после свадьбы всегда остается в сказке «за кадром», но мы-то ее можем восстановить, представить: материнство, ранняя смерть, сиротство дочери — и вот перед нами жизненный цикл, начало которого было описано выше!).
Стоит, мне кажется, обратить внимание и на то, что согласия героини сказки на брак никто не спрашивает: предполагается, что уж если сам царь (сказка о «Василисе Прекрасной») влюбляется без памяти в ту, что сшила ему сорочки, и говорит ей: «Нет, красавица моя, не растанусь я с тобой, ты будешь моей женою…» — то значит, обсуждать уже нечего и, как говорится, торг неуместен... Сущностный для любого человека вопрос «быть или не быть в браке» сказка сужает — когда речь идет, естественно, о женщине — до вопроса «за кем быть», а само принципиальное согласие на брак никем не запрашиваетсяciii. Пожалуй что, в единственной русской сказке — «Василиса Поповна» — девушка, ведущая себя по-мужски («одевалась она в мужское платье, ездила верхом на лошади, стреляла из ружья и… была охоча до водки») открыто и без обиняков заявляет, что лучше уж останется незамужней, нежели пойдет замуж за недостойного ее силы, умений и талантов. Причем не добившийся ее расположения царь Бархат, как говорит сказка, «остался на бобах», а «мудрую да лепообразную» Василису никто «так и не смог захватить»civ.
Жених (муж) — «главный приз» для обычной героини сказки. Лишение возможности выйти замуж — главное наказание для лже-героини (Ленивицы, сводных сестер — дочерей мачехи). Неумение лже-героинь выполнить женскую работу (шитье, готовка, заботы по уборке и вообще хозяйству) осуждается сказкой, равно как нетерпеливость (испугались мачехины дочки Мороза Ивановича и убежали домой), нежертвенность, стремление самостоятельно принимать решения (вернуться к родным, хотя велели с пустыми руками не приходить).
Отрицательное отношение к присутствию в женских характерах таких качеств как независимость, непокорность, стремление командовать — а они в сказках приписаны, главным образам (хотя и не всегда) Мачехам — усиливается сказочником за счет того, что им — если вчитаться — непременно сопутствуют такие негативные черты как мстительность, зависть, коварство, гордыня, капризность, лживость. Нет ни одной русской сказки, где независимая и самостоятельная Мачеха, воспитывающая и своих детей, и дочь мужа от первого брака (а мы понимаем, как это в житейском отношении нелегко!), была бы представлена положительной или хотя бы нейтральной героиней. Мачеха — всегда злюка, всегда мучительница.
Можно поразмышлять о том, почему жестокость женщины к женщине в русском фольклорном мире так остра. Не потому ли, что Падчерицы — это «частички» семьи, рода, клана мужа и относиться к ним терпимо значит в будущем делить с ними то, что положено детям от нового брака? Не потому ли все эти «золушки–падчерицы» готовы проявлять чудеса трудового героизма, что за ними стоит не только их жизнь, но и продолжение их рода? Падчерице нечего терять, «кроме своих цепей», отправляясь на поиски счастья в морозный лес, а риск для нее — «благородное дело», возможный толчок к разрешению личного конфликта, вариант обретения счастья. А мачехиным дочкам — им и с мамой хорошо.
Обращу внимание и на европейский вариант сказок о падчерицах. «Золушки» в нем могут быть представлены отпрысками знатного рода, чуть не потерявшимися в низкой среде. Тайная неизбежность властвования «высших» над «низшими» оказывается явной, едва становится очевидным какой-то признак принадлежности к высшей касте (маленькая ножка!), и тогда «золушки» немедленно возвращаются в «свой круг» (в одном из вариантов гриммовской сказки фея — это крестная, в другом — родная тетка). Однако — признаем — для русских сказок такой вариант развития сюжета о падчерице не столь характерен.
Авторитаризм хозяйки дома, Мачехи — великое Зло. Мужчина, не способный подчинить себе женщину — помощник злобных сил. «Плохая женщина» правит в доме в начале сказки — и проигрывает в ее конце; «хорошая женщина» угнетена (поначалу) — но выигрывает.
Аналогичным образом активный женский жизненный сценарий «угнетается» или «подавляется» в сказках — назовем их условно — «для взрослых», то есть не попадающих обычно в детские сборники. Вот пример — сказка «Головиха». Героиня его «бойка была» и попросила деревенских мужиков выбрать ее Головой. Чего в сказке не случается — те тотчас выбрали ее в Головы. История самостоятельного женского управления деревенским миром почти обойдена сказкой и сведена к строчке: «Живет баба, судит и рядит, вино с мужиком пьет, взятки берет». Зато истории ее жизненного поражения сказка уделяет куда больше внимания: «Головиха» пугается, что Власть в лице приехавшего казака обнаружит недоимки, прячется в мешок, казак тот мешок охаживает плетью — и в итоге несчастная женщина понимает, что «довольно ей головить, и стала после того мужа слушать…»cv.
Иными словами: популярные русские сказки — и в прошлом и в настоящем — в большинстве своем «конструировали» сильного, доминирующего мужчину и слабую, зависимую, пассивную женщину, то есть способствовали и сейчас способствуютcvi воспроизведению патриархатного сознания, «угнетая» женскую активность.
Сказки, где главный действующий персонаж — мужчина, предназначены для описания сценария мужского жизненного успеха. Их можно условно разделить на 3 группы.
Первая группа сказок — в которых желанным «призом» герою является невеста, а также прилагающиеся к ней богатство, признание и т.д. — обычно рассказывает о богатыре, который с детства был наделен и храбростью, и силой, и смышленостью, выгодно отличаясь от своих братьев или соперников. Чтобы получить награду-приз за «правильное» соответствие стереотипному мужскому образу, богатырю требуется продемонстрировать все свои умения — сразиться с Вихрем, Чудом-Юдом или иными волшебными силами, победить их и в конце концов получить свой «приз» (невесту, царевну). Таковы сказки «Два Ивана Солдатских сына», «Медное, серебряное и золотое царство» и дрcvii. Эти сказки — живое воплощение сказочного канона, задачей которого является пропаганда традиционного образа «настоящего мужчины», для которого уже изначально заготовлен «приз» в виде невесты (мнения последней, как мы уже поняли, никто никогда не спрашивает).
Вторая группа сказок — в которых действуют Молодец и царевна — объединяет мужские образы, типичные именно для русского фольклора. Это Иван-царевич из сказки о Царевне-лягушке, Иванушка-Дурачок, Емеля и многие, многие другиеcviii Благодаря прихоти русского писателя-эмигранта Андрея Синявскогоcix этот тип русского «мужичка» сподобился сомнительной чести представлять самую душу («квинтэссенцию») русского народного характера, которому якобы созвучна традиция юродства и юродствованияcx.
Как правило, начало жизненного пути у «молодца» из этой группы сказок бывает нелегким: он младший сын в семье, явно не любимец. Равно как и Крошечка-Хаврошечка, как бесконечные сказочные Падчерицы, — Иванушки-дурачки начинают свой жизненный путь как аутсайдеры, но обязательно выигрывают в конце!
Известно, что каждый из «дурачков» отличается кажущимся или действительно кротким нравом. Скажем, в сказке о Царевне-лягушке Иван-царевич «кроткий да ласковый» не в пример старшим братьям («Федор — старшой сын — с норовом, да прям, Петр — средний сын — умен, да упрям…»). В сказе об Иване-царевиче и Сером волке главный герой — малый «простой, веселый да ласковый». И таких примеров можно найти много.
«Глупость» младших сыновей в русском фольклоре — это видоизмененная форма их «необычности». По всей видимости, отразив более чем реальные факты, сказка зафиксировала и такую особенность тихих, кротких, глуповатых русских Иванушек как их прекрасная внешность. Все они — на подбор, «молодцы» и «молодцы прекрасные», за исключением, разве что, Емели.
Характер молодцев-младших сыновей обычно бывает прописан в русских сказках настолько подробно, что заставляет… заметить в нем женские черты. Не только кротость и ласковость, но и чисто женская плаксивость отличает таких «молодцев» («Идет Иван-царевич от морского царя, а сам слезами обливается…», «Залился стрелец горькими слезами, пошел к своему коню…», «Тогда царевич весьма запечалился и начал слезно плакать…»)
Доказано: наши русские «герои» держать себя в руках не умеют. То они прихвастнут, то пожадничают, то нос не в свое дело сунут. Да что же они могут, на самом-то деле? Почему именно им помогают разные «бабки-ёжки», не губят их и не казнят лютой казнию, хотя вообще-то милосердием не отличаются и вокруг их избушек полным-полно человечьих черепов на кольях забора? В сказке о «Марье-Моревне» Баба-Яга удовлетворяет это наше любопытство: «Много молодцев проезжало тут — да немного из них вежливо разговаривали». Вежливость, согласно сказке, — это черта идеального русского «мужчинки» — если он уготован сюжетом сказки в мужья какой-то богатырке.
Совершенно пассивно, то есть тоже по-женски, такие молодцы принимают помощь волшебных сил. Для получения такой помощи молодцы проявляют еще одну характерную женскую черту — некую близость к природе. Напомню, что умение разговаривать с травами и птицами — чаще всего приписано в сказках именно женским персонажам, а также Бабе Яге — покровительнице птиц, животных, растений. Уважение и понимание всего живого оказываются для «кротких молодцев» необходимыми положительными чертами, без которых им просто не выжить (ибо силы Природы постоянно помогают только тем, кто их не обижает и не пытается противостоять им).
Жалость и сострадание к слабым — тоже, если задуматься, женские качества — это залог сказочного успеха. Поэтому в сказке о Царевне-лягушке Иван (как ни голоден!) не решается убить ни медведя, ни утки, ни зайца — и все они впоследствии помогают ему. Русские молодцы доверчивы — разные животные и птицы обещают им помощь, и они сразу же верят им, отказываясь от еды и совершая все дальнейшие подвиги на голодный желудок (и откуда только силы берутся?). Вспомним пушкинскую «Сказку о царе Салтане». Царевич не решается убить лебедушку, оставляя голодным и себя, и свою мать-царицу, поскольку лебедушка довольно однозначно намекает ему на возможность помощи в будущем («Век тебя я не забуду…»).
Несколько особняком стоит в русских сказках такое качество русских молодцев как лень. Ни в одной фольклорной традиции мира нет такого количества образов нетрудолюбивых мужичков, которые бы в финале бывали вознаграждены именно за неактивность и за бездеятельность! В первую очередь приходит на память, конечно, Емеля, но и Иванушка-Дурачок из сказки о Сивке-Бурке — тоже ему под стать («Ничего он не делал, на печи сидел, в потолок плевал»). Но — вот уж действительно сказка так сказка! — лень в русской фольклорной традиции приписана именно тем героям, которых (помимо нее) отличают великодушие, бескорыстие, доброта и, в конечном счете, нестяжательство.
Почему — так?
Скорее всего, потому что лень выступает в их жизненных стратегиях как форма сопротивления любому диктату. И такой форме сопротивления — согласно сказке — буквально «положено» быть удачной! Если не торопиться, не «поспешать» (не случайно слово «успех» в русском языке созвучно глаголу «успевать»!) — то удача будет несомненной («Резвый сам набежит, а на тихого Бог нанесет…» — говорит русская поговорка). Русская сказка неожиданно являет читателю и воспитателю женский вариант сопротивления — неявный, недемонстративный, не афиширующий, а… тихий. Молодцы-ленивцы и «дурачки» отказываются выполнять распоряжения людей с более высоким социальным положением — и потому уже заслуживают уважения и внимания, так как в их отказе звучит заявление своего права иметь собственные жизненные ценности, которые могут и не совпадать с общепринятыми. (Емеля может сказать царю, что не пойдет к нему по его вызову, объясняя свой отказ наивно-простодушно: «Я ленюсь, да и ты мне не нравишься…»). Сказка учит не только конформности, но и утверждению своего «я» через невинную на первый взгляд оговорку о лени. Правда, русская сказка никогда не дает в волю и в охотку полениться девушкам и женщинам наравне с мужчинами, и, таким образом, заявить о себе и своих «правах». Добрая лень — если судить по сказкам — это всегда привилегия «добрых молодцев», которую «уравновешивают» весьма важные качества отнюдь не ленивых женских персонажей.
Какие же это женские качества?
Во-первых — красота. Тут и «руки белые, и уста сахарные», и вообще «красота писаная». Где на свете справедливость? Ленивцам полагаются редкостные красотки!
Во-вторых — женские таланты. При ленивом молодце Иване найденная им Царевна-лягушка умеет и ковер соткать, и хлеб испечь, и рубашку сшить (кто посмеет сказать после этого, что она — не замечательная хозяйка?).
В-третьих — волшебные умения (та же Царевна-лягушка способна так сплясать и спеть, что при каждом взмахе ее рукава что-то происходит — то озеро образовывается, то белые лебеди по нему выплывают).
Наконец, — и это существенно! — в-четвертых, ленивым молодцам «полагаются» в сказках очень смышленые, умненькие-разумненькие героини, которые сами могут задать сложную задачку, наказать лже-героя, выбрать жениха, снабдить его волшебным средством. Причем ум-разум такой героини может быть оценен столь высоко, что сам же рассказчик как бы обрывает себя в восхищении: «Василиса Прекрасная хитрей-мудреней своего отца уродилась. За то осерчал отец на нее и велел ей три года быть лягушкой». Девушке быть смышленей отца — это уж слишком! — решает составитель сказки. А мы, в свою очередь, можем добавить: ни в одной из западных сказок не сыскать просто даже такой ситуации (чтобы дочь оказалась умнее отца и он на нее за это обиделся).
Красивые, талантливые, умелые, смышленые — это еще не полный перечень «положительных характеристик», которыми обладают невесты тихих и кротких молодцев-ленивцев в русских сказках. В добавок к перечисленному они готовы избавить своих женишков-недотеп даже от психологических стрессов, связанных с решимостью связать свою жизнь брачными узами и сами обычно предлагают закрепить отношения. Так, например, когда младший из сыновей, Иван, вдоволь настрелявшись и найдя свою стрелу рядом с Лягушкой на болоте, просит несчастное земноводное: «Отдай мою стрелку!» — та ставит категорическое условие: «Возьми меня замуж!» (в этом пассаже так и напрашивается вывод о том, что стрела — явный знак, символ мужской состоятельности (фаллический символ). Для юноши не важен брак как таковой, ему бы «отстреляться» — и не связывать себя навсегда, а вот девушке (попавшей в оборот!) как раз важно выйти замуж. То есть жених вновь и вновь — даже в этих сказках — выступает как приз, как награда девушке.
Так или иначе, но, дав возможность проявить сметку и характер в деле «отлавливания» жениха, сказка устраивает Царевне-Лягушке (она же Василиса Премудрая), новые приключения, порожденные неразумием ее избранника (муж сжигает ее шкурку — подобно тому, как в «мужском сценарии» Иван-царевич зарится от жадности на золотую клетку Жар-птицы), и доказав в конечном счете моральное и всякое иное превосходство умненькой жены при кротком муже, приводит обоих к «хэппи-энду».
Почему в русских сказках — чаще, чем в европейских — встречаются умные, дальновидные, практичные героини? Сколько у нас сказок с такими названиями, как «Мудрая девица и семь разбойников», «Мудрая дева», «Мудрые ответы», «Елена Премудрая», «Мудрая жена»…cxi. Причем русская сказка, сплошь и рядом противореча основному (мировому) сказочному канону, выстраивает в подобых текстах весьма необычную для патриархатного общества систему гендерных отношений: персонажи мужского пола не бегут, не скрываются от таких женщин, не побеждают их — а признают их превосходство и даже тотчас решают: «Поедем, станем сватать ту девицу!»cxii. В одной из сказок такой помощницей выступает даже не девушка и, тем более, не жена, а … «детка-семилетка», у которой один ответ на все случаи жизни: «Не кручинься, батюшка!» (как и во всех других сказках, мудрость ее вознаграждается замужством с царем, который «взял ее к себе и, когда она выросла, женился на ней и сделал ее царицей»).
Вероятно, ответ на вопрос об «умных девах» русских сказок надо искать во всей десятивековой истории русских женщин, которая заметно отлична от европейской. Но факт остается фактом: в русском фольклоре женщины чаще умнее мужчин (ведь даже сестрица Аленушка мудрее и практичнее братца Иванушки). Не потому ли, что против грубой силы есть только одно средство — смекалка и хитрость? Думается, что сказки разбираемой нами подгруппы очень важны в воспитательном отношении в условиях современной ситуации, когда подвергаются сомнению старые представления о должном и ожидаемом в поведении мальчиков и девочек.
…Мы уже поняли, говоря о сказочных-героинях, что сказочников активный жизненный сценарий женщин, мягко говоря, не восхищал. Но это не значит, что примеров женской самостоятельности в русском фольклоре не отыскать. Прежде всего на ум приходят капризные «царевы дочки» — те, что выбирают женихов и никак не могут выбрать. Они-то уж точно заставляют прислушаться к своему мнению! Но им такое поведение «на роду написано» — как-никак из царевой «фамилии». Однако есть в русских сказках сильные женщины отнюдь не царева рода. Их представляет третья группа популярных русских сказок — таких, как «Марья-Моревна прекрасная королевна», «Царь-девица», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде»cxiii .
В этих сказках, выведены образы «сильных» героинь (причем они не главные действующие лица!) и «слабых» героев. Сильные женщины в таких сказках — рядом со слабыми мужчинами — не боятся ни их (своих женихов), ни отцов, не страшатся признаваться в своих чувствах первыми и добиваться любви того, кого любят. Они несут еще больший воспитательный заряд, так как позволяют ребенку соотносить себя с персонажем, выходящим за рамки традиционного патриархатного стереотипа.
Вот, скажем, сказка «Поди туда, не знаю куда — принеси то, не знаю что». Герой ее, Федот, как говорит Баба-яга, «прост, да жена у него больно хитра». Выясняется, он внимательно слушает советы мудрой жены — и тем самым побеждает любых обидчиков, избегает хитроумных посягательств любых врагов!cxiv В другом тексте, озаглавленном «Мудрая девица и семь разбойников», хитроумная девушка превращается после брака в безжалостную мстительницу за отца, защитницу мужа, то и дело сносящую головы разбойникам топорами да заваривающую их «кипятками»cxv.
Героини самых известных русских волшебных сказок — Марья Моревна, Синеглазка, Царь-Девица — это женщины-богатырши. Помимо обязательной для героини красоты, они обладают недюжинной физической силой (что в обычной — не только русской, но и мировой сказочной традиции — непременно мужской атрибут). О том, как они обрели эту восхитительную физическую крепость, в сказках ничего не говорится, однако с трудом верится в то, что эти девушки-богатырши были в детстве безропотными и кроткими послушницами, вроде Хаврошечки и Настеньки.
Повзрослев, Марья Моревна, Синеглазка, Царь-Девица объявляют о готовности быть наравне с мужчинами в их внедомашней и внесемейной деятельности. Домом для таких женщин становится Мир, который они обустраивают и которым они управляют. И такое их нестандартное поведение почему-то не осуждается, а рисуется сказкой чем-то притягательным, без чего простачкам-иванушкам прямо-таки не выжить.
Вот, к примеру, Марья Моревна — сообщает сказка — крепко приворожила Иван-царевича именно силой, способностью «побить войско». В сказке о Синеглазке Баба-Яга упрашивает Ивана не искать богатырши, в саду у которой растут молодильные яблоки и течет живая вода, но любопытство героя — сильнее опасности («Захотелось ему увидеть сильную, могучую богатырку…») В сказке о Синеглазке герой оказывается побежденным богатыршей, но когда он просит ее о пощаде (так как она собирается убить его) — то в конце концов становится ее законным супругом. Таким образом, героине не возбраняется… самой предлагать себя для любовных отношений. Скажем, в сказке «Поди туда…» невеста говорит Федоту: «Умел ты меня достать — умей и жить со мною! Ты мне будешь нареченный муж, а я тебе — богоданная жена». В уже известной нам сказке о Марье Моревне она же сама и говорит Ивану-царевичу: «Коли дело не к спеху — будь моим гостем…» Сказка комментирует: «Иван-царевич тому и рад… После двух брачных ночей полюбился он Марье Моревне и женился на ней…» Как не споткнуться тут взглядом о строчку: он ей полюбился — а потому и женился. В «обычной»-то сказке надо-бы по-другому: он ее полюбил и потому женился… А здесь — прямо матриархат!
После описанных удивительных событий в домах у богатырок происходит полная смена гендерных ролей: новобрачный становится домохозяином при жене, которую более интересуют события вне дома.
Как часто русская сказка являет нам примеры смены гендерных ролей? Можно сказать, что сплошь и рядом. Не только женщины-богатырки бьются с ратями и стреляют, не хуже мужчин, но и мужчины умеют выполнить обычные женские обязанности. Солдат из «Каши из топора» умеет сварить наваристую кашу, Старик из сказки «Колобок» скребет по сусекам, замешивает тесто и изготовляет главного героя, Царь умеет укачать в люльке сына и спеть ему колыбельную, да еще какую нежную!cxvi. Однако вернемся к нашим богатыршам.
«Вздумалось королевне на войну собраться… Покидает она на Ивана-царевича все хозяйство и приказывает: «Везде ходи, за всем присматривай…» То есть жена идет на войну, а муж становится хранителем семейного очага.
Очень часто по ходу развития сюжета сказка предлагает своей героине некоторые «опасные ситуации» или же соперничество за право на счастье с другими сказочными персонажами. Предлагает — и дает ключ к победе в виде изначально заданной физической силы (то есть именно мужской, не женской характеристики): «Царь, отдай царевича, — просит Синеглазка отца своего избранника. — Не отдашь — все царство потопчу, пожгу, тебя в полон возьму» («Сказка о молодильных яблоках и живой воде»). Отметим — у этой самой Синеглазки целая рота таких же богатырок, как она (как не вспомнить амазонок!): «Смотрит царевич — все войско из одних девиц наброно, та хороша, а та — еще лучше…».
Удивительные женщины изображены русской сказкой рядом со слабыми мужчинами! Марья Моревна — дочь моря (совсем как Афродита), Синеглазка — племянница богини мудрости, а Лягушка (жена Ивана-царевича) — та и вовсе сама Василиса Премудрая. Да, все эти женщины — волшебные, не реальные, идеальные. Но это-то и интересно: идеал женщины не только прекрасной, но и смелой, сильной, независимой, мудрой. Нам с вами до такого женского идеала далеко…
Но — есть здесь все-таки одно «но». Во всех сказках с активно действующими (хотя и не центральными) женскими персонажами речь идет чаще всего о девушках — смышленых, умненьких, смелых, решительных, озорных — да вообще самых что ни на есть расчудесных. После брака направленность симпатий сказочника чудесным образом меняется: ловкая и остроумная девушка вдруг превращается в недотепистую жену при муже, в которую всякий, кому не лень, выстрелит насмешкой или издевкой (сказки «Жадная старуха», «Косоручка», «Жена-спорщица», «Жена-доказчица»). Такая перемена ничем не мотивирована, кроме… желания сохранять и воспроизводить тот миропорядок, в котором мужчины — властвуют, а женщины — подчиняются.
* * *
Родители и воспитатели, конечно же, не всегда в силах направить становление детского самосознания в то русло, в какое им представляется необходимым. На социализацию ребенка влияют многие факторы. Да и культура — можно сказать — «сама выбирает», что ей предпочесть на сегодняшний день из широчайшего веера имеющихся в фольклоре сюжетов. Но самый ее выбор (в том числе сказок!) показателен: по спросу на те или иные сюжеты и героев можно судить о состоянии народной души.
Казалось бы, пассивные сценарии успеха, предписанные женским героиням сказок, устарели безнадежно. Что делать с такими — поистине сказочными! «смиренными качествами», с этой кротостью и послушанием современной женщине, которой надо быть готовой к множеству разных трудностей на пути к самореализации?.. Не стоит ли обращать большее внимание девочек на мудрость и смекалку, мастерство и смелость активных сказочных героинь? И не поможем ли мы нашим растущим мальчишкам стать более успешными в жизни, если они — благодаря сказкам — научатся варить и «кашу из топора» и колыбельную петь так, что все вокруг заслушаются?
Не стоит забывать, что «пассивные сценарии» женщин и «агрессивные» — мужчин, кто бы ни говорил, что они — «часть прошлого» или «не более, чем анахронизм» — увы, пока не отброшены. Причем расставаться с ними не торопится само общество. И воспитатели, к сожалению, очень часто «помогают» детям совершать в будущем психологические ошибки, ориентируя их только лишь на традиционное «приписывание» к своему полу, на соответствие с его стереотипами. Неагрессивным мальчикам-тихоням бывает поэтому трудно найти себя в пространстве подчас жесткого детского мира, где ценятся смелость, физические качества, умение постоять за себя. Педагогам можно поразмышлять о том, как сказочные сюжеты ненавязчиво предлагают смену гендерных ролей…
Наши девочки с удовольствием слушают сказки, которые воспитывают в них ожидание «царевичей». Но ведь только единицам из этих «малолеток» будет уготована (и, добавим, окажется по душе!) роль Золушек — при «принцах» (мужьях-иностранцах из высокоразвитых стран, «новых русских», чиновниках высокого ранга). А большинству — если мы не обратим внимания на воспитываемые сказкой жизненные ориентиры — суждена роль Падчериц общества, занятых скучной, низкооплачиваемой работой не по душе и всю жизнь ожидающих некоего чуда, мечтающих о том, что случайная удача улыбнется и им… И доколе мы сами не научимся читать сказки «сквозь гендерные очки», объясняя ребятам, «что такое хорошо и что такое плохо», дотоле наши сестрицы Аленушки будут надсадно нянчиться с алкоголиками-Иванушками («Не пей, Иванушка, козленочком станешь!») и самоотверженно отдавать себя в жертву Чудищам, надеясь их «спасти».
А.Ю. Першай
Сексуальная инициатива:
репрезентация и оценка
(на материале белорусской фразеологии)
Исследования в области сексуальной культуры нельзя назвать ни новыми, ни, в равной степени, фундаментально разработанными. Отдельные вопросы сексуальности изучались в рамках различных дисциплин, при знакомстве с которыми часто недостает интердисциплинарных ссылок и возможности ознакомиться с работами представителей других школ в той же области.
В изучении репрезентации сексуальной активности мужчин и женщин существует несколько проблемных моментов. Во-первых, до сих пор на территории бывшего Советского Союза преподавание и (или) обсуждение вопросов сексуальности носит строго академический и «медико-научный» характер, причем половые отношения преподносятся либо как акт воспроизводства «ячейки общества», либо как сложный физиологический процесс. Исследования русской (читай: советской, восточнославянской) сексуальности велись в основном на Западе, (см., например, работы Алекса Флегона, Лоры Энгельштейн, Евы Левиной)cxvii. Среди отечественных специалистов признанным экспертом в вопросах сексуальности является Игорь Конcxviii. Отдельно следует отметить сборник оригинальных текстов и статей по эротической и сексуальной культуре доиндустриальной России, составленный, и отредактированный Натальей Пушкаревой «А се грехи злые, смертные…», в котором оказались впервые переведенными на современный русский язык и увидели свет древнерусские тексты из покаянных книгcxix.
Во-вторых, сама тема сексуальности табуирована практически во всех культурах, но по-разному. Запрет может распространяться на наименование репродуктивных органов и процессы воспроизводства, что влечет за собой возникновение двух способов вербализации сексуальности — низкую (которая обычно выражается ненормативными языковыми средствами и поэтому остается за кадром) и высокую (которая всячески воспевается). К первой относится все связанное с биологическими процессами, происходящими в организме до, после или во время полового акта. Ко второй — все «прекрасное», сопутствующее этим процессам: любовь, нежность, трепет в ожидании встречи и т.п. Подобное разделение сфер встречается во всех европейских культурах, в том числе общеславянскойcxx. Данную традицию прекрасно иллюстрируют лирика трубадуров и плутовской роман XIV–XVI вв. Здесь же уместно упомянуть викторианскую сексуальную революцию, которая изменила характер заключения брачных союзов, ограничила сексуальные отношения рамками семьи, сделала любовь ожидаемой составляющей каждой семьиcxxi. «Мужчина и женщина должны были вступать в брак ради чистой любви и взаимных чувств, исключающих любые грязные помыслы. Упоминание в этой связи чего-нибудь еще, и прежде всего секса, стало социальным табу»cxxii. В таком контексте анализ ненормативной лексики дает прекрасную возможность исследовать сексуальную культуру, раскрывать вопросы сексуальности с качественно новой стороныcxxiii.
В-третьих, язык контролирует присутствие «сексуальной» темы в социальном дискурсе, то есть предлагает своему носителю матрицу обозначения сексуальности, набор языковых средств для выражения концептов этой сферы, в том числе и концептов, наименования которых табуированыcxxiv. Посредством языка — детерминанты социальной жизни общества — осуществляется репрезентация и воспроизводство норм сексуального поведения. Фразеология является наиболее благоприятной почвой для выявления и изучения отношений между полами, бытующих в обществе (и не только в сфере сексуального поведения индивидов), потому что семантика фразеологических единиц наиболее полно и четко отражает систему мировоззрений, характерных для определенной культуры. Следует сделать оговорку, что мы примем доиндустриальное общество Беларуси за период, наиболее соответствующий социальным реалиям, отраженным в плане содержания и плане выражения фразеологических единиц, то есть речь идет о фрагменте модели мира, связанном с сексуальным поведением мужчин и женщин и репрезентированном во фразеологии белорусского языка.
Целью этого исследования является выявление и анализ особенностей сексуальной культуры белорусов на материале белорусской фразеологии, что позволит выявить особенности гендерной стратификации белорусского общества.
Сексуальное поведение представлено в белорусском языке фразеологизмами с семантикой проявления инициативы со стороны мужчины или женщины, что можно квалифицировать как сексуальную активность. Сексуальная активность, по данным белорусской фразеологии, возможна в двух зонах: в браке и вне (или до) брака. Такое деление относительно, т.к. единицы, описывающие сексуальные отношения вне брака, вполне могут характеризовать и поведение супругов.
Рассмотрим фразеологические единицы, значение которых четко определяет мужчину и женщину как супругов. Глагольный фразеологизм наставіць рогі имеет два значения, каждое из которых характеризует представителей лишь одного пола. Первое значение характеризует женщину: «ужываецца пры дзейніку са значэннем асобы (жанчыны). Здраджваць мужу, становячыся палюбоўніцай іншага мужчыны» [СЛ-2: 80; ТСБМ-3: 313]; второе значение — мужчину: «ужываецца пры дзейніку са значэннем асобы (мужчыны). Ашукваць мужа, стаўшы палюбоўнікам яго жонкі» [СЛ-2: 80; ТСБМ-3: 313]cxxv. Фразеологизм, связанный с рассмотренным выше отношениями казуальности, — насіць рогі — при помощи языковых средств определяет мужчину как рогоносца: «быць раганосцам — мужам, якому здраджвае жонка» [СЛ-2;78].
Отношения в браке строго нормированы, они определяют стандарты поведения для мужчин и женщин. Фразеологизм наставіць рогі служит ярким примером различия сексуальных норм для мужчины и женщины, вступивших в брак. Измена со стороны женщины расценивается как предательство, в то время как внебрачная связь мужчины определяется как обман другого мужа, что эмоционально оценивается более мягко и нейтрально. «Супружеская верность была главной семейной добродетелью, особенно для женщин. Муж признавался прелюбодеем только в том случае, если имел на стороне не только наложницу, но и детей от нее, тогда как жене ставилась в вину любая внебрачная связь»cxxvi. При этом, «согласно православной концепции, понятия истинной (читай: духовной) любви и «блуда» (любви плотской) — явления сильно дистанцированные друг от друга, категорически раздельные»cxxvii. Таким образом, жене полагалось быть образчиком добродетели и целомудрия.
Следует отметить, что оценка поведения (в обоих значениях фразеологизма) проводится только относительно мужчины. Во втором значении, когда речь идет о муже-изменнике, «пострадавшим» признается только муж партнерши субъекта фразеологизма, а жена субъекта действия настаўляць рогi не упоминается вообще, а тем более как «пострадавшая сторона». Семантика проанализированных фразеологических единиц свидетельствует о том, что проявление сексуальной инициативы и вовлечение чужих жен и мужей в половую связь нацелено на выяснение отношений между мужчинами, то есть их места в социальной иерархии и распределения власти. Женщина исключается из этого дискурса и является средством для выяснения отношений между мужчинами.
Фразеологизмы, описывающие отношения супругов, можно рассматривать как часть системы гендерных ролей и сексуальных запретов, заданных мужчинам и женщинам обществом. Социум институализирует семью как аппарат для контроля над сексуальностью и выдвигает на первый план регулирующую функцию брака как детерминанту легализации сексуальных отношений вообще, выбора полового партнера, определения их количества, сексуальной ориентации и т.п. Общество определяет отношения в семье как отношения собственности: сексуальной (право собственности на человеческое тело), поколенческой (право собственности на детей) и хозяйственной (право на имущество).cxxviii «Сущность собственности — это право обладания, право удерживать других от обладания вашей собственностью и готовность общества обеспечивать это права. Именно в этом смысле собственность является сущностью брака»cxxix.
Социум детерминирует семью как знаковую систему. План выражения этой знаковой системы — фиксация брака (сама брачная церемония сохраняет сильную связь с архаическими ритуалами инициации и переходаcxxx), наличие детей, выполнение требуемых социальных норм. Фиксация семьи как социальной единицы делает необходимым ее появление в том или ином социуме, к которому принадлежат члены семьи, будь то производственное, зрелищное или культовое учреждение.cxxxi В славянском доиндустриальном обществе в качестве социальной определяющей закрепилась моногамная семья, что сразу предполагает только одного партнера и отсутствие связей вне брака. Брак рассматривается как право доступа и владения телом друг друга, причем женщина является собственностью мужчины (сравните представления о «невинности невесты»). Именно восприятие женщины как собственности мужчины находит яркое отражение в белорусской фразеологии, о чем речь пойдет ниже.
Все фразеологизмы имеют ярко выраженную отрицательную коннатацию, если речь идет о сексуальной активности женщины. Поскольку секс (мы говорим о доиндустиальном обществе и неосознаваемом, традиционном фрагменте модели мира) имеет исключительно репродуктивную функцию, о сексуальном удовлетворении речь вообще не идет. «Более того, поиск сексуального удовлетворения в лучшем случае клеймился как эгоистичный, в худшем — как сатанинское наущение»cxxxii. Белорусская фразеология очень четко отражает все вышеперечисленные явления: вешацца на шыю — «навязвацца, настойліва дамагацца прыхільнасці, сімпатыі, узаемнасці. Пра жанчыну ў адносінах да мужчыны» [СЛ-1: 169; ТСБМ-1: 486]cxxxiii; пайсці па руках — (у другім значэнні) «пачаць інтымна збліжацца то з адным, то з другім мужчынам (пра жанчыну)» [ТСБМ-3: 606]cxxxiv; круціць хвастом — «легкадумна паводзіць сябе, гуляць з многімі. Пра жанчыну» [СЛ-1: 541]. Все, что связано с проявлением инициативы с женской стороны, как свидетельствуют дефиниции приведенных выше фразеологических единиц, воспринимается исключительно отрицательно, и служит «отрицательной» моделью сексуального поведения женщины. Следует отметить способ репрезентации мужчины посредством действий женщины, на него направленных: он предстает в виде только двух частей тела — рук и шеи. Существует еще один фразеологизм, упоминающий плечи мужчины: касы сажань у плячах, семантика которого не несет сексуальной окраскиcxxxv. Отсутствие значимости остальных частей мужского тела для социума можно интерпретировать четким «функциональным» определением мужчины. Поскольку основной функцией членов социума предполагалась тяжелая физическая работа, а секс допускался исключительно для воспроизводства, то основная нагрузка ложилась на шею, плечи и руки мужчины. Отсутствие упоминания репродуктивных органов связано с табуированностью их наименования в большинстве культур, включая славянскую. Связано это с сакральным характером всех стадий воспроизводительного цикла, восходящим к самым древним этапам развития социума и сохранившимся в глубинах культурной памяти до наших днейcxxxvi.
Фразеологизм круціць хвастом заслуживает особого внимания: в нем прослеживается осуждение секса как зла (от нечистого), что можно объяснить, с одной стороны, сохранившимися в белорусской культуре языческими элементами, а с другой стороны, противопоставлением язычества (где сексуальная активность воспринималась как нечто естественное) христианству (с его культом целомудрия). Связь с архаическим периодом культуры прослеживается через лексему хвост: концепт «хвост» отсылает нас к глубинам культурной памяти, к периоду хтонического разделения на «верх» и «низ»cxxxvii. Трактовка этого фразеологизма может быть разной: если отталкиваться от гегемонии Библии в доиндустриальной Беларуси, то данная фразеологическая единица напрямую связана с первородным грехом, мотивом Евы-искусительницы, которая часто изображалась с хвостом вместо ногcxxxviii. Если обратиться к более раннему периоду развития белорусского общества, то хвост можно рассматривать как метафору женских детородных органов, имевших колоссальное значение в языческих культах продолжения жизниcxxxix.
В белорусской культуре количество половых партнеров регламентировано; поскольку семья моногамная, то для женщины допускается только один партнер, причем легализированный браком. Если же партнеров больше, то это воспринимается негативно по нескольким причинам: во-первых, отказ от общепринятых норм никогда и нигде не приветствовался, во-вторых, дети от разных партнеров сильно усложняют процесс передачи собственности, который регулируется браком (институт «законного наследника»). Это значит, отрицательное отношение к несоблюдению брачных отношений определяется экономическими причинами. Поскольку женщина — средство для продолжения рода с последующей передачей собственности, то вмешательство другого мужчины неприемлемо, что впоследствии находит свое отражение в стереотипах контроля над женской сексуальностью в браке. Выход женской сексуальности из-под контроля чреват изменением общественного строя, и поэтому проявление сексуальной инициативы со стороны женщины воспринимается исключительно негативно, в то время как для мужчины разнообразие половых партнеров не так страшно: мышыны жарэбчык — «стары, якi любiць заляцацца да маладых жанчын» [СЛ-1: 376]; кот марцовы — «распутнік, блуднік. Пра мужчыну»[СЛ-1: 522]. Эти фразеологические единицы указывают на приемлемость соответствующих социальных дефиниций; они скорее ироничны, хоть и обозначены как неадабральныя.
Интересно отметить, что отсутствие сексуальной активности у женщины воспринимается также негативно: сіняя панчоха — «непрывабная жанчына, якую больш за ўсё цікавяць дзелавыя і навуковыя заняткі» [СЛ-2: 151]. Эта фразеологическая единица не имеет четко выраженной сексуальной коннатации, но ее интерпретация в таком ключе возможна, т.к. подобная трактовка показывает разделение сексуальных ролей и гендерной стратификации общества. Концентрация на «деловых и научных» интересах может означать: 1) половое воздержание (на что указывает отсутствие привлекательности, которая необходима для «привлечения» мужчины), а значит, отказ от забот о мужчине, о семье, о потомстве и, в конечном счете, об обществе и его статус кво; 2) женскую независимость и самостоятельность (что не может оцениваться положительно, т.к. исключает возможность контролировать женскую сексуальность). Данная единица, очевидно, появилась и закрепилась в языковой системе позже остальных и является скорее знаком того, чего следует избегать, потому что такая женщина выпадает из установленной системы распределения власти и свободы в обществе.
Таким образом «приемлемая» сексуальная активность женщины располагается где-то между воздержанием и промискуитетом, но в рамках законного брака. Мужчина определяется как распутнік, что квалифицирует его сексуальную активность как нечто априорное, хотя внебрачные связи квалифицируются как «блуд». Здесь прослеживается четкая связь со средневековыми представлениями о мужской сексуальности как о неуемной энергии, требующей выхода (в противном случае чреватой пагубными последствиями для мужского организма).cxl Еще одна проблема таких воззрений — значимость половых контактов для воспроизводства: наличие детей как подтверждение репродуктивности конкретного мужчины было также обязательно, как и его сексуальная активность, пусть вне брака.
Фразеологизм насіць рогі дополняет картину новым нюансом: во многих социумах сексуальная культура регламентировалась понятиями чести и стыда. Связи на стороне не были проблемой, пока о них никто не знал или они не порочили собственную семью. Значение этой фразеологической единицы определяет мужчину как рогоносца, если другой мужчина его обманул, вступив в связь с его женой. Мужчина, оставаясь в активной роли, то есть соблазняя жен и дочерей других мужчин, представлял другого мужчину как несостоятельного, неспособного удержать свою женщину под контролемcxli. Выяснение отношений ведется на уровне двух мужчин, исключая женщину из данного дискурса. Ее неверность неприемлема, порицаема и недопустима в любом случае, тогда как мужчины разбираются со своим положением в социальной иерархии и используют женщину как средство изменения собственной социальной позиции и демаскулинизации «обманутого» мужа.
Похожая идея прослеживается в плане содержания фразеологизма хадзіць у наначкі — «хадзіць да каханай дзяўчыны (жанчыны) і заставацца там на нач» [ТСБМ-3: 313]: имеется в виду нарушение пространства другого мужчины, посягательства на его собственность — женщину (сексуальная собственность) и дом (хозяйственная собственность), где «нарушитель» остается на ночь. Выяснение отношений (как и в случае с насіць рогі) происходит между двумя мужчинами: владельцем собственности — в данном случае жены или дочери — и «нарушителем» этого пространства. Результат таких «хождений» мог быть разным: от последующей легализации сексуальной связи посредством брака (если речь шла о дочери), до демаксулинизации «хозяина» через обнародование его неспоспособности контролировать/защитить свою собственность.
Интересно отметить, что язык четко определяет женщину как собственность мужчины, определяя последнего как хозяина, что отражается в первом значении фраземы хадзіць па руках, где речь идет о неодушевленном предметеcxlii. В доиндустриальном обществе положение женщины определялось через ее отношение к мужчине: сначала к отцу, а затем к мужу. Официальным владельцем собственности являлся мужчина, статус женщины определялся по статусу мужчины, которому она «принадлежала». Общество разделяло индивидов посредством брака и семейных отношений, поэтому так важен факт соблюдения «социальных» границ для успешного контроля над поведением членов социума.
Фразеологическая репрезентация сексуальной активности мужчины предлагает полюса оппозиции — кот марцовы, мышыны жарэбчык с одной стороны и «рогоносец» с другой. Значимы и синтаксические функции рассмотренных фразеологизмов, которые распределяются весьма специфическим образом. Фразеологизмы, соотносимые с субъектом-мужчиной (кот марцовы, мышыны жарэбчык, насіць рогі), выполняют функцию приписываемого субъекту признака. Данная языковая оппозиция репрезентирует матрицу «приемлемого» и требуемого сексуального поведения мужчины: мужчина должен держать свою женщину под контролем (не быть рогоносцем) и быть сексуально активным (не только в лоне семьи). Таким образом, названные фразеологизмы есть символы моделей поведения, которым мужчина должен соответствовать если не на самом деле, то на уровне исполнения определенной роли. Мужская полноценность в обществе детерминирована его сексуальной активностью и властью над женщиной, это дает ему право быть членом конкретного социума. Все фразеологические единицы, описывающие сексуальное поведение женщины (за исключением сіняй панчохі), глагольные, то есть приписывают ей определенные действия. Таким образом, если мужчина «носит ярлыки» (или пытается им соответствовать), то женщина действует самостоятельно. Данное явление подтверждает идею Дж. Батлер о перформативном характере гендерной идентичностиcxliii.
Таким образом, фразеологизмы, описывающие проявление сексуальной инициативы мужчин и женщин выполняют различные функции. Язык предлагает анти-матрицу поведения, если речь идет о женщине, что подтверждается языковыми средствами (глаголами) плана выражения фразеологических единиц. Четко обозначенные нежелательные (или запрещенные) действия определяют границы проявления женской сексуальной инициативы: локализируют ее в браке и тем самым контролируют женскую сексуальность. В этом случае функцию фразеологических единиц можно определить как регулирующую.
Если же фразеологические единицы характеризуют сексуальное поведение мужчин, то их функция — определить степень соответствия конкретного индивида мужского пола стандартам маскулинности определенного общества. Для этого в социуме и языке существует набор средств — рамок, образцов для подражания/соответствия, — примерив который можно определить степень и качество маскулинности индивида, что важно для разделения власти и построения иерархии среди членов некоего социума. Для выяснения отношений между мужчинами используется еще одна функция фразеологизмов группы с общей семантикой проявления сексуальной инициативы — вербальная демаскулинизация, которая служит средством выявления несоответствия этим стандартам.
Исследование сексуального поведения белорусов на материале белорусской фразеологии позволяет оценить с новых позиций процессы, происходящие в современном обществе и соотнести их с культурными стереотипами, объясняя причины социальных явлений и разделения гендерных ролей.