Пособие выполнено по заказу Министерства труда и социального развития в рамках президентской программы
| Вид материала | Документы |
СодержаниеРождение и смерть в сказках Сказки о Бабе Яге. «Гуси-Лебеди» Превращения. Царевна-Лягушка или Золушка. Волшебные возможности. Емеля |
- А. А. Афанасьева на коллегии Министерства труда и социального развития Омской области, 161.28kb.
- Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных, 436.85kb.
- Министерство труда и социального развития Российской Федерации Центральное бюро нормативов, 1856.39kb.
- Некоммерческое партнерство «ассоциация выпускников президентской программы в удмуртской, 28.74kb.
- Межведомственное взаимодействие государственных, муниципальных, общественных и религиозных, 4433.01kb.
- Административные барьеры пути их преодоления, 447.46kb.
- Ю. М. Остапенко экономика труда учебное пособие, 8682.25kb.
- Формирование и развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления, 810.9kb.
- Конкурс проектов Ассоциации выпускников Президентской программы Проект «Современный, 156.23kb.
- Постановление Минтруда РФ от 21 марта 1997 г. N 14 "Об утверждении Правил по охране, 3579.91kb.
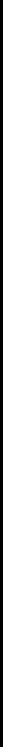 посмеялись и начали вспоминать детские страшилки. По существу этот эксперимент показывает ту границу, которая существует и достаточно четко чувствуется каждым взрослым при переходе из мира бытового в мир сказки, как только эта граница была перейдена, от бытовых проекций мы перешли к «глубинным». Но, если оставить в стороне бытовые проекции сказки «Колобок», какие же глубинные универсальные тенденции мы можем отметить в сюжете? Чем же он важен для ребенка. И почему такое большое различие в поведении детей связано с отношением к столь простому сюжету?
посмеялись и начали вспоминать детские страшилки. По существу этот эксперимент показывает ту границу, которая существует и достаточно четко чувствуется каждым взрослым при переходе из мира бытового в мир сказки, как только эта граница была перейдена, от бытовых проекций мы перешли к «глубинным». Но, если оставить в стороне бытовые проекции сказки «Колобок», какие же глубинные универсальные тенденции мы можем отметить в сюжете? Чем же он важен для ребенка. И почему такое большое различие в поведении детей связано с отношением к столь простому сюжету?Сначала можно обратиться к параллелям из детского поведения. «Ах, какой вкусный, так бы и съел...», — часто такие слова можно услышать в игре родителей с ребенком. И малыш говорит маме с ужасом и восторгом: «Мама, съешь меня». Такую игру дети начинают в 2—2,5 года и продолжают до 4—5 лет. Малыш протягивает маме руку или палец, или стремится быть съеденным всем телом. Другая известная родителям и воспитателям игра, в которую играют дети постарше — это «Волк и Красная Шапочка». Ребенок просит, чтобы взрослый «набросился» на него, догнал, накрыл покрывалом, говоря при этом: «Я тебя съем». Иначе эту игру можно было бы назвать «людоед» (вспомним сказку «Мальчик с пальчик»). Оказавшись под одеялом, ребенок борется и самостоятельно выбирается наружу.
Эти игры символически воспроизводят несколько важнейших для маленького человека событий. Наиболее понятный из них — это процесс символических родов.
Оказавшись под одеялом, мальчик или девочка (пол ребенка не имеет существенного значения в этой игре) как будто символически снова возвращаются к маме в утробу, а затем «рождаются», «отрабатывая» травматический опыт рождения. И в символической форме устанавливая (восстанавливая) контакт с материнской фигурой которого, возможно им недоставало. Это переживание служит одним из базисных для формирования чувства уверенности и надежности всего мира, чувства уверенности у ребенка в себе самом, своем теле, своей способности быть в контакте с окружающим миром. Особенно важна эта игра для детей, перенесших в раннем детстве психические травмы или физически ослаб-v ленных.. Тема «съедания» таким образом оказывается связана с темой принятия, контакта с мамой, контакта с собственным телом... Съесть, быть поглощенным — для метафор глубинного плана — это прямой эквивалент полного и бесконфликтного принятия и соединения...
Во взрослом опыте можно найти параллель в позитивных выска-зываниях типа «поглощен своим делом».
Но вернемся к исходному сюжету. Можно проанализировать глУ бинные корни и с другой стороны. Для этого воспользуемся аналогией из мифологических представлений древних.
Известно, что на Ближнем Востоке в древности часы дня обозначь лись животными. Час, когда встает солнце, обозначался, например, в Древнем Египте иероглифом, изображающим животное, похожее #а
104
зайца, из тех, что живут в пустыне, которое встает на задние лапы. И этот иероглиф переводится как «встреча» или «восход»...
Таким образом, наш заяц из сказки оказывает достаточно непростой фигурой...
И привычный сюжет разворачивается непривычной стороной. Оказывается, это вариант «солнечного мифа».
Каждое утро Старик и Старуха пекут новенький КОЛОБОК-СОЛНЦЕ, и он выкатывается из окошка на свою дорогу, а вечером НОЧЬ поглощает его, уставшего за день... Но утром новый Колобок выкатывается молодой и свежий, прямо из печки...
Люди наблюдательные знают, что утреннее и вечернее солнце сильно различается, а с точки зрения первобытного сознания (или современного образного мышления), поэтического — «Свежее утро» — то есть новое...
Конечно, дети не могут знать о существовании этого мифа, но на подсознательном уровне эта тема проявляет себя... и точно так же дети не могут знать на сознательном уровне о символическом значении поедания... Но на некотором бессознательном, или архетипическом уровне это знание имеется. И представлено оно, конечно, не в виде содержательного знания, а скорее в виде некоторых интуитивных предпочтений и тенденций, проявляющихся в образном и метафорическом плане.
Так в сказке объединяются на универсальном уровне физиологический, телесный план и план духовный, «миростроительный», план древнего мифа.
С точки зрения глубинных архетипических мифологических корней нашего сознания поддерживается древняя и вечная тема «солнечного мифа». И ребенок, слушая сказку, в своем глубинном опыте переживает целый мир.
С этой точки зрения становится понятно, почему рискованно переделывать такого рода сюжеты. Меняя систему отношений между персонажами, любое изменение затрагивает слишком большое количество связей, и стройность соответствия разных «планов» может быть нарушена.
«Лиса и Журавль»
Эту сказку интересно разобрать для сравнения с волшебной сказкой. Даже при поверхностном взгляде понятно, что взаимоотношения героев — это почти взаимоотношения людей, мотивы и цели героев понятны и узнаваемы.
Сказка представляет тот образец, когда глубинный уровень почти не воспринимается. И практически относится к миру БАСЕН.
Действительно, нам достаточно просто найти в своем социальном опыте случаи, когда наши знакомые вели себя точно так же, и в описании этого опыта не будет никаких противоречий.
Если сравнить, например, эту сказку с «Колобком», то нигде нельзя
105
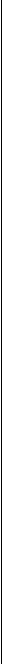
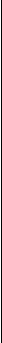




 найти парадоксов.
найти парадоксов.Поэтому ассоциации, вызванные сюжетом, в основном остаются в пределах бытового опыта... Единственная странность, намекающая на глубинные, архетипические корни персонажей, эта та посуда, которую употребляют герои. Она не слишком похожа на «лесной быт» и намекает на мифологическое происхождение персонажей...
Тем не менее эта сказка очень удобная для «социальных» игр и заданий...
Рождение и смерть в сказках
Считается, что первый телесный опыт человека — опыт рождения — запоминается на всю жизнь, Воспоминания о нем влияют на поведение человека в течение всей его жизни. С.Гроф называет это системой конденсированного опыта.
Его эксперименты показали, что в памяти взрослого человека сохраняется информация о событиях, относящихся к так называемому пренатальному опыту, то есть информация о периоде до рождения, то есть о пребывании в утробе матери, и, кроме того, относящаяся непосредственно к процессу родов.
Ребенок испытывает серьезнейший кризис и фактически умирает для старой жизни в утробе матери, переходя в новый мир. Играя в символические игры-«роды» ребенок заучивается преодолевать страх, проживать страх, напряжение и победу над своим страхом. В некотором смысле это же происходит со взрослыми, когда мы переходим от одного жизненного этапа к другому.
В волшебных сказках (и мифах) тема умирания и воскрешения героя очень распространена. Герой должен погибнуть, чтобы преобразиться и соответствовать некоторым новым требованиям. Например, финальная сцена сказки «Конек-Горбунок», когда главный герой прыгает в кипящий котел и становится красавцем.
Так как умирание или убийство в сказке обязательно предшествует возрождению и положительному финалу, роль этого эпизода достаточно прозрачна. С этой точки зрения братья, разрубившие на части младшего брата, делают для него полезное дело. Хотя с современной точки зрения — это невозможное злодейство. Но надо помнить, что дело происходит в символическом мире, по особым законам.
Когда ребенок слушает сказку с такими эпизодами, он косвенно отрабатывает тему устойчивости к «страху изменения собственного тела», что важно для выработки уверенного поведения.
«Красная Шапочка»
Это группа сюжетов, посвященных поглощению-поеданию. Ранее уже указывалось на символическую функцию поедания как принятия
106
или соединения, если речь идет о символах глубинного внутреннего пространства. Волк выступает тогда как своеобразная материнская фигура, пугающая и привлекающая в одно и то же время.
Весь сюжет сказки слегка напоминает известные детские «страшные истории», например про «черную простыню». В этих историях ужасные иррациональные события начинаются после нарушения материнского запрета, так же, как в «Красной Шапочке» (мама не велела ни с кем разговаривать по дороге, а девочка нарушила приказ и разговаривала с Волком в лесу).
Сказки о Бабе Яге. «Гуси-Лебеди»
Во всех случаях, когда в сказке появляется Баба-Яга, встреча с ней — кульминация в переживаниях героя. Герой приходит к ней два раза за свою жизнь, и эти встречи сильно отличаются дуг от друга. Первый раз — его похищает Баба-Яга, хочет съесть, пугает... Второй раз — герой уже не ребенок, как было раньше. Он приходит к Бабе-Яге «по делу», за помощью, и помощь всегда получает. Пропп указывает на постоянную функцию Бабы-Яги — дарительницы. Это один из древнейших образов, связанных с Матерью-Землей. Встреча в сказке с этой фигурой означает овладение силой для героя, или взросление, или прохождение инициации. Можно заметить, что Баба-Яга всегда пугает, но никого в сказке не съела реально...
Путешествие героя
В своей знаменитой книге «Морфология волшебной сказки» Пропп предлагает отвлечься от разнообразия сюжетов сказок и найти общее. Один из универсальных сюжетов мифа или сказки — это путешествие героя в тридевятое царство и возвращение его обратно.
Путешествие это непростое, и его путь делится на несколько этапов. Эта схема сюжета может быть использована как алгоритм для сочинения новой сказки, поэтому Д.Родари в книге «Грамматика фантазии» подробно разбирает, как можно строить творческие задания по этой схеме. Сочинение новой сказки на основе алгоритма «путь героя» подходит для детей школьного возраста.
Превращения. Царевна-Лягушка или Золушка. Волшебные возможности. Емеля
Особенность волшебной сказки в том, что она открывает «волшеб- возможности». Герой получает подарок или умение, или помощь
107
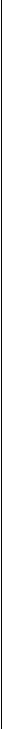 и дальнейшая его жизнь в пределах сказки становится чудесной. Сказка — это поход за силой. И ребенок, слушая сказку, также отправляется в поход за силой. Но сказать словами он этого не может.
и дальнейшая его жизнь в пределах сказки становится чудесной. Сказка — это поход за силой. И ребенок, слушая сказку, также отправляется в поход за силой. Но сказать словами он этого не может.Иногда бытовой уровень откровенно вступает в конфликт с уровнем глубинного программирования сказки, и тогда доступ к силе может быть перекрыт. Примером такой «полузабытой» сказки может служить знаменитый «Емеля». История о Емеле, который поймал в проруби щуку и получил от нее в подарок возможность чудесным образом выполнять любое дело (то есть обрел то, к чему стремятся многие люди — физические возможности и умение сказать «я хочу») превратилась благодаря «удачным» инсценировкам в символ лодыря и разгильдяя, который не хочет трудиться.
Мать и мачеха. Дочка и падчерица
Этот маленький раздел стоит посвятить «двойным» персонажам в сказках. «Парные» герои появляются в сказках достаточно часто, это не только персонажи женского рода. Но для работы с детьми наиболее часто приходится иметь дело с парностью в детско-родительских отношениях. И эта парность полно отражена в паре «мать-мачеха» или в паре «родная дочка — падчерица». Всем известно, насколько подробно описаны в сказках мачехи, которые нещадно заставляют своих падчериц трудиться. И, кажется, совсем нет описаний в сказках нежной и любящей матери, которая бы выступала в подобной функции, то есть поощряла бы родную и нежно любимую дочку к полезному труду. Наоборот, роль нежной материнской фигуры в сказках мы можем найти в сюжетах, которые описывают младенчество и героизм матери, защищающей и спасающей своих маленьких детей. Мачехи же в этом случае бывают инициаторами выкидывания, удаления ребенка (иногда даже вместе с родной матерью, смотри «Сказку о царе Салтане» — родную мать с волшебным ребенком просто помещают в бочку и бросают в воду...)
В литературоведческих комментариях к сказкам часто отмечается очень большая роль мачехи, и это трактуется иногда как признак разложения родового строя и негативное отношение к приемным детям в семье. Но, с точки зрения здравого смысла, слишком уж непропорционально много «мачех»!
Еще Бетельгейм обратил внимание на то, что можно связать двойственность восприятия ребенком материнской фигуры и двойственность образа мать-мачеха в сказке.
Известно из психоанализа детского развития, что в раннем детстве ребенку трудно сформировать целостный образ амбивалентного поведения матери, которая любит своего ребенка, но может прила-екать его, а может и наказать за нарушение правил или просто запре-
108
тить какое-то поведение. И происходит расщепление образа на два-один — это «настоящая» мама, которая всегда доступна, всегда нежная... любящая, принимающая и позволяющая все... А запрещает не мама, а другая, «мачеха», которая (временно!) занимает место мамы, именно «мачеха» наказывает!
Это разделение сохраняется достаточно долго, например, девочка шести лет говорит своей маме: «Я злюсь на тебя за то, что ты не разрешила мне пойти в магазин и купить куклу. Ты — не моя родная мама. Если бы я была твоей родной дочкой, ты бы мне все позволяла, а раз ты мне запретила, значит, я не родная дочка». Примечательно, что такое заявление сделал ребенок из благополучной семьи, где отношения с мамой очень доверительные. При высоком уровне напряжения в семье ребенок не посмеет таким образом выразить прямо свое недовольство и скорее будет применять косвенные манипулятивные приемы.
Можно ожидать, что по мере роста ребенка количество запретов возрастает, количество требований со стороны взрослых увеличивается. Запреты и ограничения в первые годы жизни играют существеннейшую роль в отношении взрослого и ребенка.
Таким образом удельный вес «мачехи» с неизбежностью увеличивается...
Но сказка имеет и второй, может быть более глубокий смысл. «Сначала у каждой девочки есть нежно любящая мама... Но потом она должна стать требовательной мачехой для своей дочери... В глубине души зная, что это отделение — подготовка к испытанию. Если ты не станешь мачехой для своей дочери, если не будешь воспитывать ее, она погибнет!» И это важнейшее сообщение именно для девочки, которая должна стать будущей матерью. При таком глубинном рассмотрении сюжета все детали становятся на правильные места друг относительно друга. Иначе получается неразрешимый парадокс: странное послание ребенку: «Если ты будешь любимой и принимаемой, ты погибнешь, выживает только тот, кого не любят...»
Поэтому при проигрывании сказки важно не фиксироваться на полярных качествах двух девочек. Это как сообщение из правил дорожного движения на плакатах «Берегись поезда».
На картинке «неправильный» пешеход гибнет под колесами, а «правильный» — бодро и весело идет своей дорогой вдоль железнодорожного пути...
Использование сказкотерапии для коррекции отношений и обучения ребенка новому эмоциональному опыту
Работа со сказочными сюжетами дает богатые возможности для °Рганизации групповых занятий с детьми или взаимодействия с ре-
109
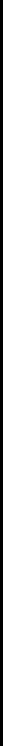
 бенком в индивидуальном порядке. Сказка дает возможность использовать игровые и диалоговые методы коррекции ребенка, имеющее нарушения или сложности в сфере эмоциональной жизни и в отношениях со сверстниками и со взрослыми. При индивидуальной работе подбирается технология сочинения «сказочной» метафоры для конкретной психологической проблемы ребенка или для выполнения конкретной педагогико-воспитательной задачи.
бенком в индивидуальном порядке. Сказка дает возможность использовать игровые и диалоговые методы коррекции ребенка, имеющее нарушения или сложности в сфере эмоциональной жизни и в отношениях со сверстниками и со взрослыми. При индивидуальной работе подбирается технология сочинения «сказочной» метафоры для конкретной психологической проблемы ребенка или для выполнения конкретной педагогико-воспитательной задачи.Сказка для ребенка — «соединительный мост» между сознательным миром и миром бессознательного эмоционального и телесного опыта.То, что проиграно или прожито, или понятно в сказке, ребенок может непосредственно сделать частью своего опыта так же, как если бы это было прожито в жизни... и даже более успешно, так как опыт сказки можно — ведь он метафорический, в «картинках» — применить в разных ситуациях, его легче «обобщить» и потом приспособить для большой группы целей.
Если сравнить возможности обращения к чисто сознательному опыту, то есть к опыту общения ребенка со сверстниками и со взрослыми, то он гораздо более противоречив и часто запутан, чем перестраивать опыт проживания эмоционально задевающих ситуаций и внутреннего опыта через сказку.
В сказке можно вернуться назад, снова и снова перестраивать отношения героя, заново проходить трудные места... И образы (метафоры) помогают строить свою картину внутреннего мира ребенку на согласованном языке — то есть получается, что язык образов, язык бессознательного, язык «правого полушария» согласовывается с пониманием ситуации и с ее словесным описанием, то есть языком «сознания» языком «левого полушария».
Ребенок получает опыт, уникальный и бесценно важный для него согласованного описания, где одни части непротиворечиво поддерживаются другими, опыт целостного переживания мира, который составляет базис социализации.
Ребенок использует готовые метафоры и учится через них организовывать свой опыт, прежде всего опыт эмоционального поведения в трудной или кризисной ситуации. Он готовит ребенка к прохождению возрастных кризисов.
Эти теоретические соображения имеют прямое отношение к построению упражнений и игр с детьми — развивающего и психокоррек-ционного характера на основе готовых текстов народных или литературных сказок.
Для этой группы заданий используются готовые сюжеты, и в зависимости от того, какой тип опыта требуется развить, берутся со'вре* менные, подобные сказкам литературные сюжеты или народные воЛ' шебные сказки.
Волшебные сказки являются наиболее благоприятным материалом для такого типа заданий, так как заложенный в образах и
110
тах народной сказки архетипический материал задевает глубинные основы эмоциональной жизни и тем самым действует более мощно и «правильно», подготавливая почву для развития социальных эмоций.
Литературные сюжеты менее удобны, так как в них имеется большое влияние личностных предпочтений автора. Этот тип сюжетов используется, если надо, научить детей выражать какие-либо чувства в конкретной ситуации. Практически такого рода занятия с литературными сюжетами приближаются по техникам к занятиям детской театральной студии.
Задание 1. Разыгрывание народной волшебной сказки в групповой работе с детьми (по материалам Татьяны Булашевич, Санкт-Петербург)
Данная методика основана на сочетании элементов психодрамы и гештальт-подхода. Предлагаемая методика рассчитана на проведение последовательной серии занятий с детьми от 5 до 10 лет, хотя возможно использование этого метода и для более старших детей. В зависимости от возраста и подготовленности группы меняется уровень требований к сложности и степени проработанности при выполнении заданий. В группе должны находиться дети одной возрастной группы.
Цель занятий — улучшение эмоциональной адаптированное™ детей.
Такого рода занятия подходят для детей с нарушенной регуляцией гиперактивных, со сложностями в общении сложностями в выражении своих чувств. В развивающем плане эти занятия имеют целью увеличение спонтанности, развитие способности к эмоциональной пе-реключаемости, развитие речи, внимания, опыта общения со сверстниками, развитие самостоятельности.
Для проведения занятий в детской группе выбирается одна сказка для одного занятия, возможно повторение одной сказки на нескольких занятиях.
Существенно, чтобы для разыгрывания выбирались «целостные» сказки, неподвергшиеся специальной упрощающей адаптации. Важно, чтобы это были не литературные, а народные сказки, чтобы в иг-Рах обязательно присутствовали отрицательные герои и чтобы главный герой самостоятельно проходил через все испытания. Нежелательно делать сказку более гуманной или вводить «объяснительные» Дополнительные элементы в нее.
Например, если ставится сказка «Волк и Красная Шапочка», нежелательно объяснять поведение волка — волк злой, плохой, он съел Девочку.
Перечисленные выше моменты наиболее часто встречаются как °Н1ибки, с точки зрения психокоррекционной задачи, при использовании готовых сказок педагогами. Педагоги сочувствуют главному ге-Р°ю сказок, им кажется, чтобы не пугать детей, стоит придумать бо-Лее благоприятный ход развития сюжета, и с лучшими намерениями
ш

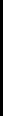
 сюжет запутывается. Очень важно соблюсти правильное соотношение активности и негативных переживаний в сюжете, организация проходит в два этапа, в каждом 6 ступеней.
сюжет запутывается. Очень важно соблюсти правильное соотношение активности и негативных переживаний в сюжете, организация проходит в два этапа, в каждом 6 ступеней.Первый этап. «Разыгрывание сказки». Одна часть детей — «актеры», другая —; «зрители», ведущий — психолог-режиссер и одновременно организатор процесса.
На подготовительном этапе, накануне занятия, психологи делят группу детей на две подгруппы. Для каждой подгруппы выбирается сказка, учитывающая уровень развития детей, ситуацию в группе и индивидуальные проблемы детей, входящих в группу. Для следующего занятия состав групп может быть изменен.
На первых занятиях стоит выбирать относительно «нейтральные» сказки, в которых простой сюжет, мало реплик и много движения, пантомимы. Это снижает тревожность детей и позволяет им более свободно выражать себя, облегчает детям их «актерскую роль».
- ступень. Психологи делят детей на две подгруппы в соответст
вии с ранее намеченным планом и разводят детей по разным помеще
ниям. Если работает один человек, возможен вариант. В течении за
нятия работа проводится только с одной подгруппой, следующая под
группа «занята» на следующем занятии.
- ступень. Психолог перечисляет действующих персонажей сказ
ки, если надо немного рассказывает о них. После этого дети сами вы
бирают себе роль, без нажима со стороны взрослого или группы. Иног
да оказывается несколько «претендентов на одну роль». В этом случае
можно бросить жребий, и «проигравший» выбирает другого персона
жа. Зато на следующем занятии он имеет преимущественное право
выбора персонажа. Если какую-то роль (важную для развития сюже
та) никто не выбрал, психолог сам играет ее.
Существует несколько типов сказок, в которых функция главного персонажа «двойная», например, сюжеты типа «дочь и падчерица» (подробнее об этих типах сюжетов смотри ранее). Наиболее популярная сказка этого типа — «Морозко». В таких сюжетах на роли родной дочери действует кукла без лица. Иногда бывает целесообразно ввести даже две куклы на обе роли: и родной дочери, и падчерицы. Выбор роли зависит от актуального состояния и уровня активности ребенка. То, какую роль ребенок выберет во время игры, косвенно дает информацию о его роли в группе в данный момент и о степени эмоциональной включенности в тему, спроецированную в сказке. Для ребенка, который не хочет играть ни одну из предложенных ролей, можно подобрать совместно с ним «нейтральную» роль: лес, лесной зверь, дере' во... или избушка на курьих ножках.
3 ступень. После того, как роли выбраны и распределены, психО'
лог рассказывает сказку.
4 ступень. Психолог говорит детям: «Сейчас мы разыграем этУ
сказку. Вам не обязательно повторять в точности все слова, которЫе
112
говорил ваш герой в книжке. Возможно он даже молчал, но сейчас все герои смогут разговаривать совершенно свободно. Как поняли, как запомнили, так и играйте». Психолог отвечает на вопросы детей и иногда, по их просьбе что-то пересказывает сам, показывая, как можно говорить от имени героя...
5 ступень. Разыгрывание сказки. Сначала разыгрывает одна под
группа, а вторая смотрит. Затем роли меняются.
6 ступень. После разыгрывания сказки у ребенка возникает много
чувств и переживаний, и этот опыт важно выразить. Проигрывание
оказывает обычно сильное эмоциональное воздействие. Свободное ри
сование дает возможность ребенку побыть наедине со своими чувства
ми. Выражение чувств через рисунок выполняет и другую важную
функцию — чувства, которые были задеты во время проигрывания
сказки, находят свое место в рисунке, и ребенок более свободно возвра
щается к общению с другими детьми. Рисование — совместное действие
и тех, кто играет, и тех, кто смотрит. Поэтому после рисования детям
нет необходимости «доигрывать» в своих отношениях то, что не нашло
полного развития при ролевом разыгрывании сказки. Свободные рисун
ки, выполненные в этот момент — ценный диагностический материал.
С каждым занятием во время проигрывания сказки дети чувствуют себя
на сцене все более свободно, больше произносят реплик, которых не
было в тексте сказки. Иногда дети спонтанно начинают вводить в раз
ыгрывание сказки дополнительные сцены. Роль психолога в этот период
становится все более «режиссерской», так как необходимо косвенно
поддерживать при всем разнообразии вариантов проигрывания некото
рую общую тенденцию и схему сказки, поддерживая «отрицательных»
и «положительных» персонажей и побуждая детей пользоваться тем
балансом сил, который заложен в сказке. По мере того, как сказка в
проигрывании детей становится все длиннее и подробнее, если начина
ют появляться дополнительные детали, поддержка тенденции сказки
может быть осуществлена за счет провокационных вопросов со стороны
персонажей, которых озвучивает психолог. После того, как дети в груп
пе освоили проигрывание сказки, можно переходить к следующему,
второму, этапу занятий. Этот этап предполагает серию занятий, разви
вающих технику психодраматического проигрывания сказки. Но на
место психолога в качестве «режиссера» становится кто-то из детей.
Дальнейшие ступени соответствуют первому этапу.
Второй этап. / ступень. Группа делится на две подгруппы — «зрители» и «постановочная группа», по жребию или по желанию выбирается режиссер.
- ступень. «Режиссер» выбирает сказку, какую сам захочет. Час
то это бывает его любимая сказка. Таким образом его роль напомина-
роль «протагониста» в психодраме.
- ступень. «Режиссер» предлагает другим детям роли, но они
Имеют право отказаться.
- ступень. Повторение сказки.
113
-
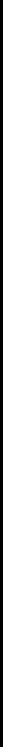 ступень. Проигрывание сказки. ||
ступень. Проигрывание сказки. ||
- ступень. Свободное рисование. l-j
7 ступень. Обсуждение рисунков в малых группах. \»
Дополнительные замечания: Особенность выполнения этого зада
ния с детской группой заключается в том, что психологу или педагогу
необходимо соблюсти баланс между собственной активностью и пас
сивностью во время проигрывания сказки.
Психолог может быть вовлеченным и активным на первом этапе, когда его эмоциональность и актерские способности могут дать образец и увлечь детей, и изменить свой способ взаимодействия с детьми, начиная с того момента, когда дети начинают выбирать роли и разыгрывать сюжет. Те персонажи, которых «выбирает» психолог, должны способствовать продвижению сюжета и в то же время быть «малозаметными».
8 ином случае дети начинают подыгрывать ожиданиям взрослого
и копировать «взрослое» (по их мнению) понимание чувств и способов
общения. Результат таких занятий в детской группе — развитие на
выков проживания и выражения чувств, и в том числе — чувств соци
ально неодобряемых. Речь идет прежде всего о выражении агрессии.
Во многих ситуациях дети не решаются открыто выражать свои чувства, связанные с неудовлетворенностью значимых для них лиц. Например, неуверенный, послушный ребенок может бояться признаться даже себе самому, что он обижен на маму или на воспитателя. Возможность выразить себя в «не-бытовом», сказочном сюжете дает ребенку путь без опасения наказания попробовать новые, необычные формы поведения, развить большую активность, выразить агрессию.
Способность развить символическую форму выражения чувств, без непосредственной проекции этого опыта в житейскую, бытовую сферу дает ребенку возможность освоить дополнительные ресурсы. Вследствие этого косвенного воздействия ребенок может более свободно чувствовать себя в сложных в эмоциональном отношении ситуациях. Опыт выражения скрытой агрессии в символических формах обычно приводит к заметному снижению агрессивных тенденций в общении ребенка с другими детьми или со взрослыми.
Особенность детей с проблемами развития — большой объем вытесненных чувств. Это затрудняет межличностные контакты, которые основаны на этих вытесненых чувствах. Символический опыт выражения отношений и чувств через волшебную сказку «тренирует» проживание опасности, напряжения и страха. Тем самым в межличностных отношениях снижается ожидание опасности и замешательства-Особенность народной сказки — сбалансированность активности всех персонажей и центрированность каждого сюжета именно на опреде-ленном типе конфликта и важных для ребенка формах активности-Поэтому для такого проигрывания используются наиболее целостные и сбалансированные сюжеты. При проигрывании психолог стремится
