Рене декарт сочинения в двух томах том 2
| Вид материала | Документы |
- Рене Декарт" Виконували: учень 8-го „Б", 102.1kb.
- Декарт Р. Сочинения, 697.88kb.
- Давид юм сочинения в двух томах: том, 11459.67kb.
- Источник: Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Сочинения, 565.43kb.
- Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Сочинения в восемнадцати, 751.72kb.
- Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Сочинения в восемнадцати, 620.01kb.
- Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Сочинения в восемнадцати, 669.46kb.
- Анна Ахматова. Сочинения в двух томах, 5.38kb.
- Борис Пастернак. Сочинения в двух томах, 5.69kb.
- Готфрид вильгельм лейбниц сочинения в четырех томах том, 12182.14kb.
Он отвечает, в-восьмых: Зодчий грешит неразумием. А именно, он не замечает, что неустойчивость почвы — это обоюдоострый меч: уклоняясь от одного острия, он натыкается на другое. Песок для него — недостаточно прочная почва; поэтому он его удаляет и противопоставляет ему другое — ров, очищенный от песка; таким обра-
==409
зом, он ранит себя вторым острием, ибо неразумно полагается на этот ров как на нечто устойчивое.
Здесь снова следует только вспомнить слова: Не допускай и не отвергай. Приведенные речи об обоюдоостром мече более подобают премудрости каменотеса, чем нашего автора.
Он отвечает, в-девятых: Зодчий погрешает сознательно; он по своему собственному усмотрению добровольно закрывает глаза на все предостережения и произвольным отречением от всего, необходимого для постройки зданий, позволяет своему правилу себя обмануть; таким образом он строит не только то, чего выстраивать не собирался, но и то, чего более всего опасается.
Насколько это правдиво в отношении архитектора, показывает сооружение храма, как и мои доказательства обнаруживают, насколько это верно в отношении меня.
Он отвечает, в-десятых: Метод грешит бессвязностью: торжественно запрещая какие-то вещи, зодчий возвращается к старому и, вопреки законам рытья траншеи, принимает отброшенное. Ты достаточно хорошо это помнишь.
Подражая этим высказываниям, наш автор забывает слова: Не допускай и не отвергай и т. д. Ибо в противном случае как осмеливается он измышлять, будто торжественно запрещено то, что, как он раньше утверждал, вообще не могло отрицаться?
Он отвечает, в-одиннадцатых: Зодчий грешит упущеньями; предписывая в качестве опоры: «Необходимо всячески остерегаться допускать в качестве истины то, что мы не имеем возможности подкрепить соответствующим доказательством», он не раз нарушает этот закон, безнаказанно и бездоказательно принимая за особенно достоверные и истинные такие максимы: «Песчаная почва недостаточно крепка для того, чтобы выдержать здание» и т. п.
Здесь он, подобно нашему автору, несет вздор, приписывая рытью траншеи (так же как наш автор приписывает отрицанию сомнительного) то, что относится лишь к сооружению — как зданий, так и философской системы. Ибо в высшей степени правильным является требование не допускать бездоказательно ничего в качестве истины, когда речь идет об ее установлении и утверждении; однако, когда дело касается лишь рытья рва или же отрицания, достаточно одного только предположения.
Он отвечает, в-двенадцатых: Искусство это не содержит либо ничего верного, либо ничего нового, но в нем очень много лишнего. 1. Ведь если архитектор скажет, что под
К оглавлению
==410
этим своим отбрасыванием песка он разумеет лишь рытье траншеи, к которому прибегают и все прочие зодчие, выбрасывающие песок лишь в том случае, когда он недостаточно тверд для того, чтобы выдержать массу здания, он скажет нечто верное, но совсем не новое: такой ров вовсе не нов, а, наоборот, стар как мир, и его используют все архитекторы без исключения.
2. Если этим выкапываньем песка он хочет так уничтожить песок, чтобы он весь был выброшен и от него ничего не осталось и чтобы мы считали его просто ничем, а пользовались бы его противоположностью (т. е. пустотой места, которое он ранее заполнял) как чем-то массивным и прочным, то он говорит нечто новое, ко вовсе не верное, и пресловутый ров будет хотя и чем-то новым, однако незаконным.
3. Если он скажет, что на основе сильных и веских доводов делает такой достоверный и очевидный вывод: «Я — искусный архитектор и занимаюсь архитектурой, и, однако, как таковой я не архитектор, не каменщик, не носильщик, но вещь, от всего этого отчужденная, так что меня можно постичь до постижения этих вещей, подобно тому как постигается животное, или вещь чувствующая, до постижения вещи, которая ржет, рычит и т. д.», он выскажет нечто верное, но не новое, ибо такие слова звучат на всех перекрестках и этому красноречиво поучают все, кто считает себя опытным в архитектуре; и если зодчество включает в себя также конструкцию стен, то искушенными в этом искусстве будут считаться все, кто смешивает известь с песком, кто обтесывает камни, подносит материалы,— одним словом, все строительные рабочие до единого.
4. Если он скажет: «Я доказал с помощью сильных, продуманных доводов, что я действительно существую и являюсь опытным архитектором и, пока я существую, поистине нет ни архитектора, ни каменщика, ни носильщика», он выскажет тем самым нечто новое, но совершенно неверное, все равно как если бы он сказал, что существует животное, но нет ни льва, ни волка и т. д.
5. Если он скажет, что возводит здания, т. е. пользуется искусством архитектуры для сооружения различных строений, причем пользуется так, что посредством акта рефлексии вдумывается в свои действия и их созерцает, или, иначе говоря, знает и рассматривает себя в процессе строительства (что поистине означает осознавать себя и обладать сознанием какого-то акта) — а это является свойством архитектуры, т. е. искусства, стоящего выше, чем опыт носилъщи-
==411
ков,— и, таким образом, он является архитектором, в этом случае он скажет то, чего пока еще не сказал, но что должен был бы сказать и чего я от него ожидал; часто — да, очень часто — замечая эти его бесплодные родовые муки, я порывался вставить: безусловно, он говорит нечто верное, но не новое, ибо мы когда-то слышали это от наших наставников, те — от своих, и так, полагаю я, вплоть до Адама.
Далее, если он это и скажет, сколько останется еще нерешенных вопросов! Сколько излишнего многословия! Сколько пустой болтовни! Сколько замысловатых ухищрений ради бахвальства и надувательства! К чему все эти разговоры о зыбкости песка и обвалах земли, о лемурах — дутых страшилищах? И где предел этому рытью рва, настолько глубокого, что от него не остается почти ничего? К чему столь длительные, столь затянувшиеся блуждания по чужим берегам и уделам, вдали от чувственных восприятий, посреди призраков и теней? Что все это дает для воздвижения храма — словно его нельзя построить, не перевернув вверх дном мир? Для чего вся эта порча материалов, когда старые породы отбрасываются, применяются новые, а затем отбрасываются и эти и вновь применяются старые? Быть может, потому, что, пока мы находимся в храме или перед лицом повелителей, мы должны вести себя иначе, чем в кабаке и харчевне, и для нового культа учреждаются новые таинства? Но почему бы, отбросив прочь все уловки, не выставить на всеобщее обозрение истину в таких ясных, прозрачных и кратких словах: «Я строю, у меня есть сознание этого строительства, а значит — я архитектор»?
6. Наконец, если он скажет, что строить дома и предопределять в уме расположение покоев, комнат, галерей, дверей, окон, колонн и т. д., а затем возглавить в этом строительстве плотников, каменобойцев, каменотесов, кровельщиков, носильщиков и прочий рабочий люд и руководить их трудом свойственно именно архитектору, поскольку никакие другие мастера этого не умеют, то он выразит нечто новое, но не верное; притом это будет впустую и не вызовет у нас признательности — разве только он приберегает что-либо глубоко от нас скрытое (ведь это — единственное его прибежище), что в свое время он явит, как из волшебного фонаря, нашему изумленному взору. Но доколе мы можем этого ожидать, чтобы не впасть в полное отчаяние?
Ответ последний: Я полагаю, ты здесь дрожишь за свое искусство, которое ты любишь и лелеешь (я тебе это про-
==412
щаю), которое нежно целуешь как свое ненаглядное детище. Ты опасаешься, как бы после обвинения его в стольких грехах (сам видишь — оно повсюду дало трещины и течь) я не предал его древнему остракизму. Не бойся, я тебе друг. Я превзойду твои ожидания либо поистине их обману: я буду молчать и выжидать. Я тебя знаю, знаю остроту и проницательность твоего ума. Как только у тебя появится время для размышления, и особенно когда ты в тайном уединении вновь обратишься к своим преданным тебе правилам, ты отрясешь с них прах, смоешь грязные пятна и явишь нашему взору чистое и отточенное зодческое искусство. Сейчас же удовольствуйся этим и продолжай дарить мне внимание, пока я продолжаю отвечать на твои вопросы; исходя из них, я, стремясь к полноте и краткости, лишь слегка коснулся здесь арок, оконных проемов, колонн, галерей, и т. д.
Но вот план новой комедии.
МОЖНО ЛИ ВОСКРЕСИТЬ ИСКУССТВО АРХИТЕКТУРЫ?
Ты спрашиваешь, в-третьих... Когда он дошел до этих слов, некоторые его друзья, поняв, что сотрясающая его чрезмерная ненависть и злоба грозит перейти в тяжелый недуг, не допустили, чтобы он таким образом распинался па улицах, и отвели его к врачу.
Что до меня, то я бы не посмел подумать ничего такого о нашем авторе; я лишь продолжу здесь наблюдения над его точным подражанием каменотесу. Он совершенно так же, как тот, изображает из себя самого безупречного судью, весьма осмотрительно и скрупулезно избегающего необдуманных слов. Осудив меня одиннадцать раз за одно лишь то, что я отбросил прочь все сомнительное, дабы установить достоверное — так, как если бы я рыл ров для закладки фундамента здания,— он с двенадцатого захода начинает исследовать суть вопроса и говорит, что
1. Если бы я понимал дело таким образом, как это ему представляется и вытекает из слов Не допускай и не отвергай и т. д., кои он сам мне вложил в уста, я утверждал бы нечто верное, но не новое.
2. Если бы, однако, я понимал суть дела иным образом — таким, на основе которого он приписал мне одиннадцать прегрешений, хотя, прекрасно понимая несвойственность мне подобных мыслей, выше, в § 3 своего «Вопроса первого», сам вывел меня говорящим с изумлением и смехом: Как может это прийти в голову здравому человеку? —
==413
APPENDIX, Cwtivens
OBIECTIONES
QVINTAS & SEPTIMAS In RENATI DES-CARTES
MEDITATIONES
De Prima Philofophîa, CliMtjiiflimMlillM Ktjenßsnilvi 6· iuib» Ef'ißiilis.
Vna ad Растет D ι ν ε τ Societaris Icfu Pr.EpoCtum Provincialem per Franciam, Atttmi ctkbtmmsm Virum D. GISBERTVM VOET1VM
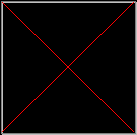
AMiTEtODAhtl, Apud Ludovicum Elzevirium, с I э1эс χ l ι χ.
ом случае я, по его мнению, говорил бы нечто новое, но верное. Кто когда-либо был столь — не скажу, бесстыд1 и лживы;.!, презирающим всякую истину и правдопоие, но столь неразумным и забывчивым, чтобы в проду:ном и тщательно отработанном рассуждении сотни порицать кого бы то ни было за одно и то же суждение, орое он в начале того же самого рассуждения признал
==414
настолько чуждым тому, кого порицает, что тот отвергает самое возможность такой мысли у любого здравого человека?
Что до последующих вопросов (§ 3, 4, 5) как нашего автора, так и каменотеса, то они совсем не относятся к делу и никогда не поднимались ни мною, ни архитектором. Вероятнее всего, они сначала были придуманы каменотесом: он не осмелился коснуться ни одного из истинных дел архитектора, дабы не обнаружить уж слишком свое невежество, поэтому он сумел упрекнуть архитектора только в рытье траншеи, а наш автор и здесь оказался его подражателем.
3. Когда же он говорит, будто мыслящую вещь можно постичь, не постигая ума, души и тела, он философствует не лучше, чем каменщик, который утверждает, что архитектор не более сведущ в архитектуре, чем каменотес или носильщик, а потому и может быть постигнут без сопоставления с кем-то из них.
4. Утверждать, будто существует мыслящая вещь, но не существует ума, поистине так же нелепо, как говорить, что существует некто сведущий в архитектуре, но не существует архитектора (по крайней мере если брать слово «ум» в том смысле, в каком, согласно общепринятому употреблению, я его применяю). Притом существование мыслящей вещи без тела не более противоречиво, чем существование опытного архитектора без каменщика или носильщика.
5. Подобным же образом, когда он утверждает, будто для субстанции недостаточно быть мыслящей, чтобы в силу этого она считалась сверхматериальной и абсолютно духовной, а между тем он только эту последнюю и желает именовать умом и вдобавок требует, чтобы посредством акта рефлексии она мыслила, что она мыслит, или, иначе говоря, осознавала свое мышление, он несет такой же вздор, как и каменщик, утверждающий, что опытный архитектор должен посредством акта рефлексии осознавать в себе эту опытность до того, как он сумеет стать архитектором. И хотя действительно не может быть архитектора, который бы часто не сознавал или, по крайней мере, не мог осознать, что он обладает строительным опытом, тем не менее ясно, что такого сознания не требуется для того, чтобы стать зодчим. Подобное созерцание или рефлексия точно так же не нужны для того, чтобы поднять мыслящую субстанцию над материей. Ведь первая — какая угодно — мысль, посредством которой мы что-то
==415
примечаем, не более отличается от второй, посредством которой мы замечаем, что замечаем, нежели эта вторая — от третьей, благодаря которой мы замечаем, что замечаем, что замечаем. При этом нельзя привести ни малейшего основания (в том случае, если первую мысль относят за счет телесной вещи), согласно которому туда же нельзя было бы отнести и второй. А посему надо отметить, что наш автор в данном случае заблуждается гораздо опаснее, чем каменотес: уничтожая истинное и вполне постижимое различие, существующее между телесными и бестелесными вещами (поскольку последние мыслят, а первые — нет), и ставя на его место другое различие, которое ни в коем случае нельзя рассматривать как существенное (оно состоит в том, что одни из этих вещей созерцают себя в качестве мыслящих, другие же — нет), он делает все от него зависящее, для того чтобы запутать понимание реального отличия человеческого ума от тела.
6. Его защита животных, коим он хочет приписать не меньшую способность мышления, чем людям, менее извинительна, нежели притязания каменотеса, который стремится приписать себе и своим товарищам по ремеслу не меньшую опытность в искусстве архитектуры, чем та, коей обладает зодчий.
Наконец, во всем ясно просвечивает одинаковое стремление одного и другого думать не об истине и правдоподобии, но лишь о том, как бы опорочить противника и представить его круглым невеждой и дураком в глазах тех, кто его не знает и не заботится о том, чтобы досконально выяснить истину. Историк, рассказавший о каменотесе, весьма кстати отметил, дабы подчеркнуть обуревающую того безумную злобу, что он осмеял пресловутый ров, вырытый архитектором, как некое излишнее приготовление, но совершенно запамятовал — как вещи, не стоящие внимания,— обнаруженный в этом рве камень и воздвигнутую на этом камне часовню. А между тем он не переставая благодарил зодчего, как человек, испытывающий по отношению к нему дружеские чувства, особое расположение и т. д. Равным образом историк выводит его в конце выпаливающим такие превосходные фразы: Далее, если он это скажет, сколько останется еще нерешенных вопросов! Сколько излишнего многословия! Сколько замысловатых ухищрений ради бахвальства и надувательства! и т. д. И несколько ниже: Я полагаю, ты здесь дрожишь за свое искусство, которое ты любишь и лелеешь (я тебе это прощаю) и т. д., а также:
==416
Не бойся, я тебе друг и т. п. Все это так выпукло обрисовывает нам недуг каменотеса, что ни один поэт не мог бы придумать ничего более складного. Поразительно, что наш автор воспроизводит все эти перлы с такой аффектацией, что сам не осознает свои поступки и отнюдь не прибегает при этом к тому акту рефлексии, который, по его собственным недавним словам, отличает людей от животных. Ведь конечно же он не стал бы говорить, что мои сочинения перегружены словесными ухищрениями, если бы учел, насколько его словесный аппарат гораздо более громоздок, хотя направлен всего лишь на одно-единственное мое сомнение — не скажу, на его опровержение, поскольку он не пользуется аргументами, но скорее (да позволено мне будет употребить грубоватое словцо: мне не подвертывается никакое другое для выражения истины) на его облаивание. На изложение этого сомнения я употребил значительно меньше слов, чем он на свою брань. Он не стал бы также поминать пустословие, если бы приметил, сколь многословно, пустопорожне и полно бессмысленной болтовни все его рассуждение, в конце которого он заверяет, будто стремился к краткости. Но поскольку он там же утверждает, что он мне друг, я, дабы обойтись с ним самым дружеским образом, подобно тому как друзья отвели каменотеса к врачу, поручу нашего автора заботам
52
его начальника
14 Ρ Декарт, т 2
==417
00.htm - glava15
ГЛУБОКОЧТИМОМУ ОТЦУ ДИНЕ, ПРОВИНЦИАЛЬНОМУ НАСТОЯТЕЛЮ ФРАНЦИИ, РЕНЕ ДЕКАРТ ШЛЕТ СВОЙ ПРИВЕТ
Недавно я письменно известил досточтимого отца Мерсенна ', что мне весьма желательно, чтобы рассуждение, которое, как я слышал, написал против меня преподобный отец Бурден, было либо опубликовано им самим, либо, по крайней мере, прислано мне, дабы я подготовил его к изданию вместе с другими доставленными мне возражениями; я просил, чтобы либо он сам, либо Твоя милость (что мне казалось вполне уместным) постарались уговорить автора. Мерсенн ответил мне, что мое письмо он передал Твоей милости и оно не только было тебе приятно, но к тому же ты явил перед ним многочисленные знаки своей мудрости, любезности и благожелательного ко мне с твоей стороны отношения. Я убедился во всем этом и на деле, ибо сразу после этого упомянутое рассуждение было мне прислано2, что не только заставляет меня выразить тебе глубочайшую благодарность, но и побуждает меня открыто объявить свое мнение об этом труде, а также просить у тебя совета по поводу организации моих занятий.
Право, когда это рассуждение впервые оказалось в моих руках, я радовался ему как величайшему сокровищу: ведь я более всего желал бы либо чтобы мне дали возможность проверить истинность моих мнений — в том случае, если великие мужи, исследовав их, не найдут в них ничего ложного,— либо, по крайней мере, чтобы мне указали на мои ошибки, дабы я мог их исправить. И подобно тому как в хорошо слаженном организме существует такая связь и согласованность всех частей, что каждая из них использует не только свои собственные силы, но и, главным образом, общую силу их всех, содействующую работе каждой в отдельности, так и я, зная, какая тесная духовная связь существует между всеми членами вашего ордена, считал, что теперь располагаю не просто рассуждением одного только преподобного отца Бурдена, но справедливым и точным суждением о моих взглядах всей вашей корпорации.
Однако, когда я его прочел, я остолбенел от изумления
==418
и совершенно изменил свое мнение о нем. Ведь конечно же, если бы оно исходило от автора, образ мыслей которого согласовался бы с принятым во всем вашем обществе, в нем проявилось бы еще больше (или, по крайней мере, не меньше) благожелательности, мягкости и скромности, чем у частных лиц, писавших на ту же тему; но напротив, если сравнить это рассуждение с возражениями, представленными мне другими лицами, все без исключения могут подумать, что указанные возражения сделаны мне духовными лицами, это же рассуждение, написанное с необычной резкостью, нельзя приписать ни частному лицу, ни тем более тому, кого данные им особые обеты еще более, чем других людей, зовут к добродетели. В первом случае проявилась бы любовь к Богу и жажда содействовать его славе; но здесь, наоборот, с ложной авторитетностью и с помощью всевозможных вымыслов старательно, вопреки разуму и истине, опровергаются принципы, на основе которых я утвердил бытие Бога и отличие человеческой души от тела. Должны были бы также проявиться ученость, рассудительность и талант; но если не считать ученостью знание латыни, когда-то бывшей в ходу у римской черни, я не нашел никакой другой учености, равно как и никакой рассудительности, кроме нечестной и лживой, а также и ни грана остроумия — разве лишь такое, какое больше подобает каменотесу, чем священнику вашего ордена. Я уже не говорю здесь о скромности и прочих добродетелях, столь присущих вашему ордену: в этом рассуждении их нет и следа; они не вдохнули в него ни капельки своего аромата. Наконец, оно должно бы, по крайней мере, явить уважение к истине, честность и чистосердечие; но напротив, как это ясно из моих Примечаний, трудно придумать брань, более далекую от всякой видимости истины, чем все те колкости, кои достаются здесь на мою долю. И подобно тому как сильное несоответствие функций одной части тела общим его законам показывает, что эта часть страдает какой-то своей, особой болезнью, так и из рассуждения преподобного отца Бурдена становится ясно, что он не обладает тем здоровьем, кое отличает всю вашу корпорацию в целом. Мы не меньше ценим голову или всего человека из-за того, что, быть может, дурные соки против его воли и без его вины проникают в его ногу или палец; напротив, мы уважаем его твердость и мужество, когда он не отвергает болезненного лечения: никто никогда не презирал Гая Мария 3 за варикозные расширения в голенях, наобо-
14*
==419
рот, он заслужил большую хвалу за то, что мужественно вытерпел ампутацию одной ноги, чем за семь своих консулатов и бесчисленные победы над врагами. Точно так же, поскольку мне известно, с каким поистине отцовским благочестием ты заботишься о своих подопечных, чем это рассуждение кажется мне негоднее, тем больше я чту твою честность и мудрость, с коей ты решился его мне послать: за это я еще больше уважаю и чту весь орден. Но поскольку преподобный отец Бурден сам предоставил свое рассуждение для вручения его мне, дабы не показалось, что я напрасно полагаю, будто он сделал это вопреки своей воле, я расскажу о том, что заставляет меня так думать, а также обо всем том, что произошло между мною и им до сих пор.
Еще раньше, в 1640 году, он написал против меня другие трактаты, по оптике, и я слыхал, что он читал эти трактаты своим ученикам и даже давал их им для переписки — возможно, не всем (мне это неизвестно), но, по крайней мере, некоторым (надо думать, самым любимым и верным: ибо, когда я добивался от одного из них, в чьих руках видели эту рукопись, чтобы он мне дал экземпляр, он оказался неумолим). Затем он опубликовал тезисы этих трактатов, коими в течение трех дней размахивал в вашей Парижской коллегии с превеликой помпой и при необычно многолюдной аудитории. В числе других предметов он особое место уделил разглагольствованиям по поводу моих мнений и одержал надо мной множество побед (что было нетрудным делом ввиду моего отсутствия) . Я даже видел с трудом вымученную преподобным отцом «Критику», или предварительное упражнение, оглашенное в начале этих диспутов: там речь идет исключительно об опровержении моих мнений, а между тем там не порицается ни одного когда-либо написанного мной слова — даже такого, о каком я бы лишь помыслил,— которое не было бы употреблено столь явно нелепым образом, что оно, как и все прочее, что он приписывает мне в своем рассуждении, не могло бы прийти в голову ни одному здравомыслящему человеку; так я и объяснил это в Примечаниях, написанных мной к этому сочинению и посланных мною частным образом автору, о принадлежности коего к вашему обществу я в ту пору еще не знал.
В своих «Тезисах» он не только утверждал, что какие-то мои суждения ложны — это дозволено каждому, особенно если он может доказательно подкрепить свою
К оглавлению
==420
критику,— но и изменил (якобы с целью общепринятой точности) значение ряда слов: например, угол, который до сих пор у оптиков именовался преломленным, он нарек углом преломления — с той же тонкой «изобретательностью», с какой он в своем рассуждении утверждает, что под телом он понимает то, что мыслит, а под душой — то, что обладает протяженностью; с помощью такого рода искусства он выдал за свои — сильно изменив мой способ выражения — некоторые мои находки и обвинил меня в том, что я будто бы имею об этих вещах совсем иное, абсолютно превратное представление.
Как только мне дали об этом знать, я тотчас же написал письмо преподобному отцу4, ректору его коллегии, в котором просил, чтобы, поскольку мои суждения были удостоены в коллегии публичного опровержения, он не почел также за труд принять меня, которому он послал эти опровержения, в число своих учеников. К этому я присовокупил многое, с помощью чего, как мне казалось, я должен был этого добиться, и, между прочим, следующие слова: «Я, безусловно, предпочитаю учиться у членов вашей коллегии, чем у каких-то иных учителей, поскольку я преклоняюсь перед вами и в высшей степени уважаю вас как моих бывших наставников и единственных руководителей всей моей юности; и так как в моем «Рассуждении о методе» (с. 75) я ясно просил всех не почесть за труд указать мне на ошибки, кои они могли бы найти в моих сочинениях, и показал, что я готов к исправлению этих ошибок, я никак не думал, что найдется человек, тем более духовного звания, который предпочтет осудить мои ошибки перед лицом других людей в мое отсутствие, вместо того чтобы указать на эти ошибки мне самому: ведь мне не подобает сомневаться в благожелательности такого лица по отношению к своему ближнему» 5.
На это мое письмо сначала ответил не сам отец ректор, но преподобный отец Бурден, написавший мне, что в течение восьми дней вышлет мне свои «трактаты», т. е. доводы, с помощью которых он опровергал мои мнения. Несколько позже некоторые другие отцы ордена обещали мне от его имени сделать то же самое в течение шести месяцев; быть может, это объяснялось тем, что они не одобряли его «трактатов» (ведь они недвусмысленно признались, что не были осведомлены о том, что он против меня затеял) и им требовался указанный срок для исправления текста. Наконец, преподобный отец Бурден
==421
прислал мне письмо, не только собственноручно им писанное, но и скрепленное печатью всей корпорации, так что стало ясно, что оно написано по приказу высшего начальства. Там значилось, что 1) он получил предписание досточтимого отца ректора (поскольку письмо, написанное мной ректору, относилось главным образом к нему) самому на него ответить и раскрыть в нем смысл своей затеи; 2) он не затевал и не намерен затевать никакого личного спора с моими суждениями; 3) то, что он ничего не представил в ответ на мою просьбу в «Рассуждении о методе», с. 75, следует приписать его неосведомленности, ибо он не читал это мое сочинение; 4) что касается моих Примечаний к его Предисловию, то ему нечего добавить, ибо он уже написал бы мне и сделал бы свои указания, если бы его не переубедили друзья. Иначе говоря, ему вообще нечего было добавить, ибо он раньше ничего не указывал, кроме разве того, что он намерен послать мне направленные против меня соображения; таким образом, этими словами он только заявил, что и не собирался никогда посылать
