Антология мировой философии в четырех томах том з
| Вид материала | Документы |
- Философское Наследие антология мировой философии в четырех томах том, 11944.29kb.
- Антология мировой философии: Античность, 10550.63kb.
- Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах:, 241.84kb.
- Собрание сочинений в четырех томах ~Том Стихотворения. Рассказы, 42.25kb.
- Собрание сочинений в четырех томах. Том М., Правда, 1981 г. Ocr бычков, 4951.49kb.
- Книга первая (А), 8161.89kb.
- Джордж Гордон Байрон. Корсар, 677.55kb.
- Антология мировой детской литературы., 509.42kb.
- Собрание сочинений в пяти томах том четвертый, 3549.32kb.
- Готфрид вильгельм лейбниц сочинения в четырех томах том , 8259.23kb.
[...] Необходимостью человеческого развития, истории развития или естественной истории, необходимостью творческой истории людей является их взаимное разрушение, происходящее из противоречий их общения внутри их обособления в единичность.
421
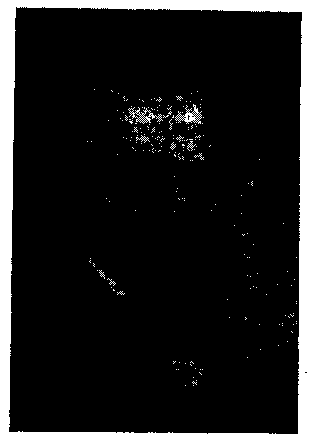
История возникновения человеческой сущности или человечества является прежде всего саморазрушением этой сущности (стр.332).
Деньги — это продукт взаимно отчужденных людей, отрешенный вовне человек. Деньги — это не «благородный металл» — у нас теперь больше бумажных денег, государственных и банковских бумаг, чем денег металлических, — деньги есть то, что имеет значение для человеческой производительной силы, для действительной жизненной деятельности человеческой сущности. Поэтому капитал, согласно политико-экономическому определению, есть накопленный, собранный труд, и, поскольку производство проистекает из обмена продуктов, деньги есть меновая стоимость. Что не обменивается, что не может быть продано, то не имеет и стоимости. Поскольку люди не могут быть более проданы, то они не стоят более ни одного пфеннига, — разве что лишь они сами себя продают или «овеществляют». [...] Сущность современного торгашеского мира, деньги, — это реализованная сущность христианства. Меркантильное, так называемое свободное государство есть обещанное царство божье; торгашеский мир — обещанное царство небесное, как и наоборот, бог — это только идеализированный капитал, небо — это только теоретический торгашеский мир. — Христианство открыло принцип продажности (стр. 335—337).
Торгашеский мир — это практический мир видимости и лжи. — Под видимостью абсолютной независимости — абсолютная нужда; под видимостью живейшего общения — смертная замкнутость каждого человека от всех своих ближних; под видимостью гарантированной для всех индивидов неприкосновенной собственности у них отобрано в действительности все их достояние; под видимостью всеобщей свободы — всеобщее рабство. — Не удивительно, что в этом реализованном мире лжи обман является нормой, а честность — ее нарушением; подлость достигла всех почестей, а человек чести предоставлен нищете и позору; что лицемерие и дешевый лоск празднуют свой триумф, а правда считается чем-то непристойным; за половинчатостью — большинство, а [бескомпромиссная] решительность остается в явном меньшинстве; наконец, свободная проницательность является самым деструктивным, а тупой рабский дух, напротив, самым консервативным элементом! (стр. 334).
Деньги —это средство обращения, застывшее в мертвую букву и умерщвляющее жизнь, подобно тому как буква есть средство сношения, застывшее в мёртвые деньги и умерщвляющее дух (стр. 336).
История возникновения общества закончена; скоро пробьет последний час социального животного царства. Истекло время машины денег, и напрасно пытаются наши государственные ловкачи прогресса и регресса поддержать еще ее ход (стр. 348).
ПОЛЬСКИЕ ГЕГЕЛЬЯНЦЫ ЦЕШКОВСКИЙ
Польский граф Август Цешковский (1814—1894) получил образование в Краковском и Берлинском университетах и изучил философию Гегеля. Затем во Франции познакомился с идеями
422
классиков утопического социализма. Многие последующие eoSbt провел в районе Познани. Интересовался экономическими проблемами, участвовал в деятельности буржуазно-либерального крыла польского национально-освободительного движения и занимался пропагандой научных знаний, став одним из соосно-вателей Познанского общества друзей наук.
Значительную роль в формировании концепций польского левогегельянства сыграла его книга «Пролегомены к историософии» («Prolegomena zur Historiosophie», 1838), не идущая ни в какое сравнение с более поздними работами, написанными с консервативных, религиозно-теологических и мессианистских позиций.
В этом произведении Цешковский вслед за Фихте проводил различие между «фактами прошлого» (Thatsachen) и «действиями будущего» (Thaihandlungen) как практикой. Он требовал претворения философии в жизнь путем сознательной и активной деятельности (эта его мысль оказала влияние на М. Гесса),
системы, ее созерцатель-
положил начало критике гегелевской системы, ее созерцательности, фатализма и равнодушия к судьбам личности. По утверждению Цешковского, в «эпохе будущего» состоится синтез классической немецкой философии и французского социализма. «Пролегомены...» Цешковского стимулировали младогегельянское движение в Германии и вызвали заметный резонанс в Польше и России. Они пробудили Э. Дембовского к более решительной критике в адрес Гегеля (Э. Дембовский выступил затем и против ограниченности воззрений самого Цешковского), глубоко заинтересовали Н. Станкевича и А. Герцена.
Отрывки из «Пролегомен к историософии» подобрал и перевел с немецкого И. С. Нарский по их первоначальному изданию: A. Cleszkowski. Prolegomena zur Historiosophie. Berlin, 1838.
ПРОЛЕГОМЕНЫ К ИСТОРИОСОФИИ
[...] Показав абстрактную возможность и действительность познаваемости будущего (ибо ее специально-субстанциальное и определенное доказательство может прийти только после действительного выведения исторического материала), мы переходим,
423
наконец, к ее необходимости, и только из нее мы ясно получим высший принцип организма истории. В отношении этого высшего принципа организма принцип познаваемости будущего — лишь особый случай, и только из него мы сможем развить содержательные категории всемирной истории, а затем ее истинный телеологический процесс.
Предназначение человечества в том, чтобы реализовать свое понятие, и именно осуществлением этого процесса реализации является история. Но плоды этого развития могут быть получены только в конце, а все ранние стадии представляют собой, следовательно, лишь подгот товку и предпосылки, из совокупности которых слагается великий силлогизм мирового духа. Этот процесс составляет, таким образом, определенную тотальность, и если бы речь шла только о формальном моменте прогрессии, то мы могли бы, обладая сознанием столь многих столетий ее движения, установить с математической достоверностью остальные члены этой прогрессии. Но поскольку всемирно-исторический процесс не ограничивается таким абстрактным, формальным и притом количественным прогрессом, но непрестанно развивает качественно-субстанциальные определения, то именно поэтому нас здесь совершенно не могут удовлетворить такие математические индукции, хотя они и должны постоянно образовывать основу [этого] процесса. Отсюда задачей исто-риософии является субстанциально исследовать прошлое, глубоко проанализировать все содержательные элементы жизни человечества, которые уже развились, и выявить одностороннюю и исключительную природу всех их, их борьбу и переменный в ней успех, определить специальные участки всеобщей связи, чтобы тем самым прийти к познанию того, на каком именно из этих участков мы теперь находимся, какие мы уже прошли и какие нам еще предстоит пройти, дабы достигнуть высший пункт в развитии мирового духа. Таким образом, там, где мы обнаруживаем только определенный односторонний элемент в прошлом, мы должны определенный ему противоположный момент перенести в будущее; а там, где мы находим в прошлом уже развитые борьбу и противоположности, что как раз является правилом, нам надлежит предоставить и χ с и Η-424
тез лишь будущему. Таким образом, мы будем конструировать из хаоса этих уже развитых антитез спекулятивные синтезы, причем эти частные синтезы должны сходиться еще более и во всеобщем синтезе (Synthesis syntheseon1) прийти к единству. Это единство будет подлинным, высшим и самым зрелым плодом исторического древа. Таким путем недостаток прошлого образует преимущество будущего; отрицательный (privative) образ прошедших времен сам станет утвердительным образом будущих времен, и только так мы достигнем необходимого познания того, что прошлое и будущее, полностью взаимообусловли-вая друг друга, образуют завершенный организм мировой истории.
Таким образом, принцип познаваемости будущего, а именно его внутреннего понятия, ведет нас к тотальности всемирно-исторического процесса, к его организму и, следовательно, к его истинному членению в соответствии с спекулятивно-разумными законами, по которым только и может произойти аподиктическое разделение истории, разделение, которое может быть лишь трихотомическим, а именно ее первый период есть тезис, второй — антитезис, а третий — [период] с и н-т е з а и совершенной конкретности. [...]
Четвертый же период Гегеля для нас является вторым, и это современный мир. Наш же, наконец, третий главный период есть будущий, собственное определение которого может быть познано из односторонних противопоставлений обоих предшествовавших (стр. 21-25).
Гегель довел дух только до [понятий] в-себе и для-с е б я. Но [понятия] в-себеидля-себя получают свою полную истину только в [понятии] и з - с е б я (Aus-sich), что отнюдь нельзя смешивать с вне-себя (Ausser-sich), которое было бы со своей стороны очень непосредственной и абстрактной категорией в сравнении с указанной, столь высокой и конкретной. Из-себя означает именно выведение из себя самого, однако без того, чтобы себя отчуждать, так что это никоим образом не есть выход за пределы себя и тем более не есть фиксация себя вне себя (das Herausbleiben ausser sich). [...] Дух есть тогда только дух, когда он есть самость (Selbst), и самость специ-
425
фична для духа,' как инакость (Andere) специфична для природы. Итак, главные формы духа это:
а) самобытие;
б) самомышление;
в) самодействие (das Selbsthun) (стр. 115—116).
У Гегеля практическое пока еще поглощено теоретическим, оно еще им не отличается от последнего, оно пока рассматривается, так сказать, как побочное истечение теоретического. Но его истинное и подлинное назначение в том, чтобы быть о т-дельной, специфической и даже высшей ступенью духа. Но вопрос о высшем и низшем разрешен уже ранее путем различения до- и послетеоретиче-с к о и (т. е. бессознательной и сознательной) практики, откуда вытекало, что обоснованы оба взаимопротивоположных взгляда; остановка лишь за тем, чтобы определить, о какой практике идет речь — то ли о непосредственной, которая имеет вне себя теорию пока еще во в н е е е находящемся будущем, то ли об абсолютно опосредствованной, которая уже проникнута теорией и, следовательно, таковую понятийно содержит в себе. Согласно Гегелю, воля является только особенным способом мышления, но это ложное понимание [...].
С точки зрения истины отношение мирового духа не есть ретроспективное отношение, ибо он все еще находится на данной ступени, но оно есть (помимо сознания своих деяний) главным образом отношение превращения (des Übersetzens) истины из мышления в действие (das Thun). Известное и пресловутое положение Гегеля, что все разумное действительно и все действительное разумно, требует еще той поправки, что как разумное, так и действительное суть только продукты развития, т. е. что на определенных стадиях духа разумное совпадает с действительным, чтобы затем диалектически вновь отойти друг от друга, и отсюда возникают эпохи раздора во всемирной истории. Действительность неустанно приноравливается к разуму, и этот процесс развития обоих только для того разделяется на две стороны, чтобы снова совпасть на более высокой ступени.
И следовательно, если разумное теперь достигло разрешения своих внутренних противоречий, то именно эта победа должна быть одержана в самой д е и с т в Η-426
тельности: ибо если в процессе развития духа существует только одна философия, предназначение которой в том, чтобы наконец возвратиться к себе самой и органически познать себя, то тот же самый процесс свойствен и действительности; и существует только одно нормальное развитие социальной жизни, которое только при достижении мышлением зрелости может вступить на свое истинное поприще. Так реальная объективная диалектика жизни приближается к своей высшей опосредствующей позиции, и противоречия времени только потому столь резко выступают наружу, что они зреют в своем стремлении к переходу [в противоположное] и к их разрешению. Я привлекаю внимание спекулятивных мыслителей к системе Фурье не потому, что не вижу ее существенных недостатков, которые превращают эту систему в утопию, но потому, что хочу показать, .что [ею] был сделан значительный шаг по пути развития органической истины в области действительности. Правда, этот организм находится еще на ступени механизма, но это уже организм; и этого не видят те, кто обращает внимание еще не на живой зародыш, но на мертвую оболочку. Как непосредственное примирение платоновского принципа с руссоистским эта утопия имеет, конечно, огромное значение для будущего; однако я говорю не более как о непосредственном примирении, ибо если бы она была уже высшим примирением этих двух противоположных друг другу принципов, которые служат прототипами для обеихэпох всемирной истории, и если бы она, кроме того, органически развила свой органический зародыш, то перестала бы быть утопией. Поэтому можно сказать, что Фурье — это величайший, но также и последний утопист. Главный порок утопии вообще в том, что она не развивается сама [вместе] с действительностью, но хочет войти в действительность; а это она сделать не в состоянии, ибо поскольку она есть утопия, то между ней и действительностью лежит непреодолимая пропасть: в противном случае, если бы развитие принципа не было утопическим, то разумное должно было бы, как сказано, совпасть с действительным. Но ведь сознание теперь должно упреждать деятельность, и потому отнюдь не следует слишком опасаться конструирования социальных отношений, ибо недостаток утопий состоит как раз не
427
в том, что они чересчур разумны в отношении действительности, но, наоборот, в том, что они недостаточно [разумны]. Утопия, вместо того чтобы стремиться как можно более приблизиться к действительности, именно отдаляется от нее. [...]
И как ранее красота жизни, ее художественное развитие иреинтеграция природы, так и здесь истина жизни и истинное разрешение социальных противоречий в действительности есть то второе требование, которое мы предъявляем будущему (стр. 145—149).
Итак, человек вырывается из своей абстрактности и становится cat' exochen2 социальным индивидуумом. Г οπό е Я покидает свою всеобщность и определяет себя к тому, чтобы быть конкретной личностью, обладающей богатством отношений.
Государство также покинет свою абстрактную обособленность и само станет членом человечества и конкретной семьи народов (стр. 153).
КАМЕНЬСКИЙ
Генрик Каменьский (Kamienskt, 1813—1865) как мыслитель развивался в атмосфере левогегелъянских исканий. Родился в Варшаве, принял участие в национально-освободительном восстании 1830—1831 гг., был ранен и находился под полицейским надзором. Приняв снова участие в политической жизни, он выступает с критикой шляхетской половинчатой политики руководителей восстания и развивается в направлении к революционному демократизму. За арестом его царской полицией следует пятилетняя ссылка (1845—1850) в Вятку, после чего Каменьский эмигрировал в Западную Европу.
Наиболее выдающиеся произведения были им написаны в 40-х годах: «Философское понимание политической экономии, или, правильнее, материальной экономии общества» («Filozoficzne pojmowanie politycznej, a raczej ekonomii materijalnej spoleczen-stwa»,1842), «О жизненных истинах польской нации» («Oprawdach Sywotnych narodu polskiego») и «Демократический катехизис...» («Ratechizm demokratyczny...», 1845). Каменьский испытал на себе влияние не только философии Гегеля, но и утопического социализма сенсимонистов, а также классической буржуазной политической экономии Смита и Рикардо. Он разрабатывает концепцию человека как творческого существа, порождающего своей деятельностью все совокупные социальные институты и процессы. Его философия истории подчеркивала роль труда и производственной деятельности в освобождении человека и общем социаль-
428
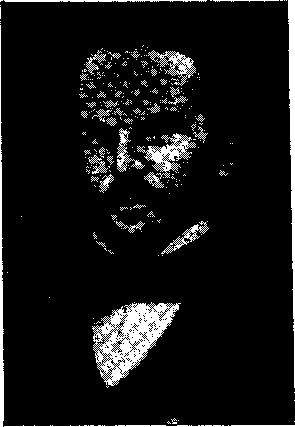
ном прогрессе, в ходе которого преодолевается частная собственность.
Отрывки из работ Каменъ-ского подобраны И. С. Нар-ским в переводе с польского А. И. Рубина по изданию: «Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей», т. II. М., 1956.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ
Чем дальше человеческий дух движется в своем поступательном развитии, тем больше свет бросает он на прошлое, и минувшие события становятся яснее в новом освещении. Каждый момент прогресса, будучи новой точкой зрения, дает новое, свойственное ему понимание событий. Старые толкования теряют свое значение, их место занимают новые, удовлетворяющие духовным потребностям своей эпохи, нуждам своего времени. Мертвая буква остается той же самой, целой и невредимой; но она сменяется жизненной сущностью (понятием, созерцанием) как выражением творческого движения мыслей; каждый момент человечества должен иметь свое собственное понятие о том же самом прошлом или новую его историю. Праздной и самонадеянной является мысль, что можно творить системы, которые были бы окончательными, дальше которых не мог бы устремиться человеческий дух и выше которых он не мог бы подняться, низвергая то, что устарело. Нет бессмертной истории в том смысле, что она могла бы удовлетворить всем потребностям имеющего наступить нового хода событий, ибо все время, пока человек будет оставаться творческим и самостоятельным существом, каждый момент человечества будет сменяться высшим и более совершенным, который оттолкнет в прошлое данный момент; тем самым отомрут созданные им понятия, на которых будущее не сможет задержаться. [...]
Итак, постижение данного прошлого означает, собственно говоря, определение его связи с миром человечества, который возникает как итог самых высших моментов прогресса. Такое историческое постижение, как мы сказали, никогда не является окончательным, поскольку человеческий мир развивается все далее и достигает высших моментов [развития]. Как только они бывают достигнуты, тогда то же самое прошлое должно быть осмыслено в связи со своей целокупностью. Таким образом, историческое понимание того же самого прошлого должно оформ-
429
яяться и прогрессировать вместе с поступательным ходом человечества. Нет последней исторической точки зрения, поскольку имеется безмерный простор для прогресса (стр. 799—801).
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРАКТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ, ИЛИ О ФИЛОСОФИИ ДЕЙСТВИЯ
Творю, следовательно, существую
§ 1
В нынешнем философском мире замечается великое и всеобщее стремление к спасительной реформе, стремление, проявляющееся в широком распространении того, что можно выразить одним названием — практическая философия. Человечество надеется на наступление новой эпохи науки, приход которой ускоряют смелые и многосторонние стремления, желающие освободить науку от мертвых форм, сделать ее полнокровной и воплотить в общественную жизнь. Эта новая эпоха еще не имеет четких и определенных черт, ибо она все еще находится в состоянии становления, но она, несомненно, получит завершение благодаря могучим требованиям развивающегося духа народных масс. Этот имеющий наступить, но еще не наступивший момент философии поставит ее на соответствующую ступень и обеспечит ей господство над всеми явлениями человеческой жизни. Сделать философию практической — это то же самое, что поднять ее на ступень, на которой она будет обладать силой действия. Она станет руководительницей всех человеческих поступков и разрешит общественные вопросы. Поднять философию на эту ступень — это то же самое, что достигнуть высшей власти для духа и расширить сферу его господства. Эта цель неотделима от всякого стремления к практической философии, а величие ее служит естественным стимулом для всех, кто старается достичь ее и прилагает усилия к осуществлению ее. Вполне возможно усмотреть и понять отношение между практической философией и общественной жизнью, а следовательно, и благие результаты, которые должны получиться от усовершенствования деятельности человека и взаимных отношений между людьми. Это не арена для сухих и скудных рассуждений, а, наоборот, нива, где должны быть посеяны и взращены прогрессивные стремления человечества (стр. 802-803).
ДЕМБОВСКИЙ
Выдающийся польский философ левогегелъянского направления, атеист и революционный демократ Эдвард Дембовский (Dembowski, 1822—1846) родился в Варшаве в родовитой шляхетской семье, но юношей порвал с ней связи и с головой окунулся в национально-освободительное антифеодальное движение. Как редактор и автор многочисленных статей в варшавском журнале «Пшеглёнд науковы» («Научное обозрение»), а затем в познан-
430

ском журнале «Рок» («Год»), как революционер-подпольщик и вожак Краковского национально-демократического восстания 1846 г., в котором его настигла австрийская пуля, Дембовский оставил чрезвычайно яркий след в истории Польши XIX в. За свою короткую жизнь он успел создать набросок оригинальной диалектической «философии творчества», ориентированной на всестороннее и полное развитие активности и инициативы народных крестьянских масс, а также высказать основные теоретические положения польского революционного романтизма в эстетике, с большой силой подчеркнув принципы народности и социальной функции искусства.
Основные проблемы философской публицистики Э.Дем-бовского это философия и история, история и разум, прогресс и народность. Его статья «Несколько мыслей об эклектизме» («Kilka mysli o eklektyzmie», 1843)—жемчужина во всей гегельянской, а не только польской литературе. В ней с большой остротой подчеркивается диалектически-противоречивый характер истории, развенчиваются попытки беспринципных компромиссов в политической и теоретической жизни, подвергается критике центральный слабый пункт диалектики Гегеля — его тенденция к примирению противоположностей. В статьях 1843—1845 гг. Дембовский отстаивает утопически-социалистические идеи. Его вывод: «...свобода там, где нет [частной] собственности».
Отрывки из произведений Э. Дембовского в переводах И. С. Нарского и А. И. Рубина подобраны И. С. Нарским по изданию: «Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей», т. III. М., 1958.
