Антология мировой философии в четырех томах том з
| Вид материала | Документы |
СодержаниеНемецкие младогегельянцы Жизнь иисуса Критика евангельской истории синоптиков |
- Философское Наследие антология мировой философии в четырех томах том, 11944.29kb.
- Антология мировой философии: Античность, 10550.63kb.
- Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах:, 241.84kb.
- Собрание сочинений в четырех томах ~Том Стихотворения. Рассказы, 42.25kb.
- Собрание сочинений в четырех томах. Том М., Правда, 1981 г. Ocr бычков, 4951.49kb.
- Книга первая (А), 8161.89kb.
- Джордж Гордон Байрон. Корсар, 677.55kb.
- Антология мировой детской литературы., 509.42kb.
- Собрание сочинений в пяти томах том четвертый, 3549.32kb.
- Готфрид вильгельм лейбниц сочинения в четырех томах том , 8259.23kb.
ШТРАУС
Давид Фридрих Штраус (Strauss, 1808—1874) — философ и теолог, на первом этапе своей теоретической эволюции принадлежавший к немецким младогегельянцам. Его двухтомное сочинение «Жизнь Иисуса» («Das Leben Jesu», 1835—1836), получившее значительную известность, интерпретировало гегелевскую философию в духе пантеизма, близкого к его атеистической версии. В этом сочинении он доказывал, что Евангелие лишь собрание мифов, Христос — олицетворение идеи человечества, а бог есть образ вселенской бесконечности. Д. Штраус был уволен из Тюбин-генского университета, где он до этого был доцентом. Дальнейшая его деятельность носила все более умеренный характер, а измененные переиздания его главного произведения постепенно стали утрачивать свою антирелигиозную остроту.
Ниже даны отрывки из работы Штрауса «Жизнь Иисуса» в переводе А. В. Михайлова по изданию: «Philosophisches Erbe. Bd. 5. Die Junghegelianer». Berlin, 1963). Фрагменты подобраны И. С. Нарским.
ЖИЗНЬ ИИСУСА
Автору работы [...] казалось, что пора заменить новым подходом к истории Иисуса устаревший супранатуралъ-ный и естественный способ рассмотрения [...]. Новая позиция, которая встанет на место названной, будет позицией мифа [...]. Если экзегеза' старой церкви исходила из двоякой предпосылки, что, во-первых, в евангелиях содержится история, а во-вторых, история сверхъестественная, и если затем рационализм отбросил вторую из этих предпосылок, чтобы тем крепче держаться за первую,
403

именно что в этих книгах содержится одна только история, хотя и естественная, то наука не может остановиться на полпути, но нужно отбросить и вторую предпосылку и прежде всего исследовать, стоим ли мы вообще в евангелиях — ив какой мере стоим — на исторической почве. Это естественный ход исследования, и этим появление работы типа настоящей делается не просто оправданным, но и необходимым. [...}
Что повествование не может быть историческим, а нечто рассказанное не могло совершаться так, как рассказано, можно будет распознать прежде всего по тому, что:
1. Рассказанное несовместимо с известными и в остальном повсеместно значимыми законами происходящего. К таким законам прежде всего относится то, что в соответствии с правильными философскими понятиями, равно как и всем засвидетельствованным опытом, абсолютная каузальность никогда не вмешивается своими отдельными актами в цепь обусловленных причин, а, напротив, открывается только в произведении всей целокупности конечных причинностей и их взаимодействия. Значит, если какой-нибудь рассказ повествует нам, очевидно утверждая такое или давая нам это понять, о том, что явление или событие вызвано непосредственно самим богом (явление бога, голоса с неба) или человеческими индивидами вследствие их наделенности сверхъестественнным (чудеса, предсказания), то мы — именно в такой мере — не обязаны признавать за этим исторического рассказа. И коль скоро вообще вмешательство существ из более высокого мира духа в мир человеческий отчасти встречается только в неподтвержденных сообщениях, отчасти же несовместимо с правильными понятиями, то точно так же невозможно рассматривать исторически и все, что
404
передают о явлениях ангелов и дьяволов и их воздействии. Другой закон, который мы можем наблюдать во всем совершающемся, — это закон последовательности, согласно которому даже в самые бурные эпохи и при самых быстрых изменениях все, однако же, происходит в известном порядке и постепенности, в непрерывном росте и убывании. Если, следовательно, нам говорят о великом индивиде, что уже при своем рождении и в первые годы жизни он вызывал то изумление, что и в зрелые годы, если о сторонниках его рассказывают, что они с первого взгляда узнали в нем того, кем он был, если после его смерти их взлет от глубочайшей подавленности к величайшей восторженности понимается как дело одного-един-ственного часа, то нам следует более чем усомниться, что перед нами история. Наконец, надлежит учитывать здесь все психологические законы, которые делают невероятным, чтобы человек чувствовал противно всем человеческим или хотя бы своим собственным правилам и обычаям, как когда, например, члены иудейского синедриона будто бы поверили словам стражей, приставленных к гробу Иисусову, что он воскрес, и вместо того, чтобы обвинить их в том, что, уснув, те дали украсть его тело, они будто бы подкупали их распространять именно такой слух. Сюда же относится и то, что, согласно всем законам человеческой памяти, не могли точно удерживаться в памяти и воспроизводиться речи вроде тех, что произносит Иисус в четвертом евангелии. Впрочем, многое совершается внезапнее, чем того можно было ждать, особенно в гениальных личностях и через их посредство, и как часто люди поступают непоследовательно и бесхарактерно! Поэтому два последних пункта нужно применять с осторожностью и только в Соединении с другими критериями мифического.
2. Однако повествование, если оно претендует на значение повествования исторического, не должно находиться в противоречии не только с законами происходящего, но и с самим собой и с другими сообщениями. Самое решительное противоречие — контрадикторное, когда один рассказ сообщает то, что другой отрицает: так, когда один рассказ явно относит выступление Иисуса лишь ко времени, когда Креститель был схвачен в Галилее, другой же лишь упоминает, после того как деятельность Иисуса уже
405
довольно долгое время протекала и в Галилее и в Иудее, что Иоанй еще не брошен в темницу. Если второй рассказ вместо того, что дает первый, сообщает нечто совершенно иное, то противоречие касается или более формальных моментов, как, например, времени (изгнание торговцев из храма), места (прежнее местопребывание родителей Иисуса), числа (гадаренцы2; ангелы у гроба), имен (Матфей и Леви), или же противоречие касается самой материи происходящего. В этом отношении то характеры и обстоятельства в одном рассказе предстают совсем иными, чем в другом: как когда, например, по одному из рассказчиков, Креститель узнал в Иисусе мессию, которому предстоят страдания, а по другому — будто бы был недоволен его поведением страдальца; то об одном событии рассказывается двумя или несколькими способами, тогда как только один может соответствовать действительности: как когда, по одному рассказу, Иисус своих первых учеников отозвал от их сетей на Галилейском озере, а по другому — нашел в Иудее и по дороге в Галилею. Сюда же нужно отнести и тот случай, когда рядом поставлены как имевшие место дважды два такие события или слова, которые столь похожи одно на другое, что невозможно полагать, что слова эти были произнесены не один раз, а больше и событие происходило не однажды, а чаще. Спрашивается: насколько можно отнести к противоречиям рассказов то, что один ничего не говорит о том, о чем сообщает другой? Сам по себе и помимо всего прочего такой argumentum ex silentio3 лишен значения; но вполне имеет значение, если можно доказать, что другой рассказчик, зная о событии, должен был бы коснуться его и должен был бы знать о нем, если бы событие действительно произошло.
II, Рассказ можно положительно распознать как сказание и поэзию отчасти по содержанию, отчасти по форме. 1. Если форма поэтическая и выступающие лица обмениваются гимническими речами, более длинными и вдохновенными, нежели следует ожидать от их образования и ситуации, то по крайней мере такие речи не следует рассматривать как исторические. Отсутствие такого формального признака еще отнюдь не доказывает исторического характера рассказа, поскольку миф предпочитает наипростейшую, казалось бы вполне историческую, форму. Тогда все зависит от содержания.
406
2. Если содержание рассказа поразительно согласуется с известными представлениями, распространенными в том кругу, где рассказ возник, а сами эти представления кажутся образованными скорее на основе предвзятых мнений, нежели на основе опыта, то тогда мифический источник рассказа — в зависимости от обстоятельств — будет более или менее вероятным. Уже поскольку нам известно: иудеи часто объявляли великих мужей детьми матерей, долгое время пребывавших в бесплодии, — уже одно это должно настраивать нас недоверчиво по отношению к исторической истинности сведений о том, что так обстояло дело с Иоанном Крестителем; уже поскольку мы знаем: в писаниях своих пророков и поэтов иудеи повсюду видели пророчества, а в жизни прежних людей, угодных богу, прообразы Мессии, — уже поэтому возникает подозрение, что все в жизни Иисуса, явственно окрашенное такими изречениями и событиями, по-видимому, скорее миф, чем история. [...]
Представьте себе молодую общину, тем вдохновеннее почитающую своего творца, чем неожиданнее и трагичнее был вырван он из своего жизненного пути; общину, беременную массой новых идей, долженствующих перестроить целый мир; общину восточных людей, по большей части неученых, способных усваивать и выражать эти идеи не в абстрактной форме рассудка и понятия, а только конкретным способом фантазии — как образы и истории, — и тогда станет понятно: в таких обстоятельствах должно было возникнуть то, что возникло, ряд священных рассказов, в которых созерцанию была представлена — как отдельные моменты его жизни — вся масса новых, пробужденных Иисусом, равно как и старых, перенесенных на него идей. Простая историческая основа жизни Иисуса, — что он вырос в Назарете, был крещен Иоанном, собирал вокруг себя учеников, странствовал, уча, по иудейской земле, всюду противостоял фарисейству и призывал в царство Мессии, но что в конце концов был побежден злобой и завистью партии фарисеев и умер на кресте, — эта простая основа была окружена самыми многообразными и яркими сплетениями благочестивых рефлексий и фантазий, причем все идеи, которые у ранней христианской общины были о своем учителе, отнятом у них, были превращены в факты и вплетены в его жизнеописание. Богатейший материал такого мифического разукрашивания жиз-
407
ни давал Ветхий завет, которым жила эта первая по преимуществу набранная из иудеев христианская община. Иисус как самый великий пророк не мог не соединить и не превзойти в своей жизни и в своих деяниях все то, что делали и переживали прежние пророки, о которых рассказывает Ветхий завет; как обновитель еврейской религии он ни в чем не мог уступать первому законодателю; и, наконец, на нем как мессии должно было исполниться все мессианское, о чем пророчествовал Ветхий завет, — ему не оставалось ничего, как соответствовать схеме мессии, заранее начертанной иудеями, насколько допускали это изменения такой схемы, произведенные его исторически известными судьбами и речами. В наше время уже не должно быть необходимости в том, чтобы говорить, что не было ни намеренного обмана, ни хитроумного вымысла в этом переносе своих чаяний на историю действительно совершившегося, вообще во всем этом мифическом расписывании жизни Иисуса. Сказания народа или религиозной партии по своим основным подлинным составным частям никогда не бывают делом отдельного человека — они творение всеобщего индивида такого общества, поэтому они и не возникают сознательно и намеренно. Такое незаметное совместное продуцирование возможно благодаря тому, что устное предание становится способом сообщения; ибо если запись останавливает рост сказания или же делает доказуемым участие каждого следующего переписчика в дополнениях, то при устной передаче дело обстоит так, что во вторых устах рассказ выглядит чуть-чуть иначе, чем в первых, в третьих только чуть-чуть добавлено по сравнению со вторыми, и в четвертых нет никаких существенных изменений по сравнению с третьими, и, однако, в третьих и четвертых предмет стал совершенно иным, чем был в первых, хотя ни один рассказчик не предпринимал изменений сознательно, но эти изменения приходятся на всех них вместе и ввиду своей постепенности ускользают от сознания, а что традиции растут, как снежный ком, заметил о евангельской истории уже Лессинг (стр. 26— 31).
БАУЭР
Вруна Ваузр (Bauer, 1809—1882) — исследователь теологии и публицист, один из самых видных представителей немецкого младогегельянства. Преподавал .сначала в Берлинском, а затем
408
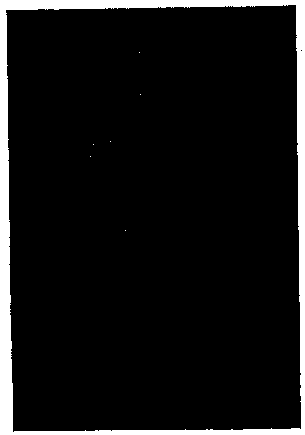
в ВоннскоМ университете, но был лишен права преподавания за критику религии и занялся вместе с брагам Эдгаром публицистической деятельностью, добывая средства к существованию также сельским хозяйством. Наиболее значительные его сочинения: «Критика евангельской истории от Иоанна» (1840 г.), «Критика евангельской истории синоптиков» (1841—1842 гг ), «Учение Гегеля о религии и искусстве» (1842), «Еврейский вопрос» (1843 г.) и «Открытое христианство. Воспоминание о восемнадцатом столетии и сообщение о кризисе девятнадцатого» (1843 г.).
Истолковывая философию Гегеля в радикально-атеистическом духе, что нашло кульминацию в памфлете «Трубный глас страшного суда над Гегелем, атеистом и антихристом. Ультиматум» (1841 г.), В. Бауэр отождествил развитие гегелевского абсолюта с развитием человечества, понятым как прогресс самосознания, каждый последующий этап которого отрицает предыдущий этап как отчужденный и подлежащий ликвидации. Приближаясь к трактовке диалектики как методу
революции, Б. Бауэр, однако, свел саму революционность к чисто интеллектуальной критике и не принял участия в практической политической борьбе, возложив все надежды на деятельность «критически· мыслящих личностей». Критика им религии и феодального деспотизма на переломе 30—40-х годов составила лучшее достижение Б. Бауэра как философа и публициста.
Отрывки из сочинений Б. Бауэра «Критика евангельской истории синоптиков», подобранные И. С. Ыарским, даны в переводе А. В. Михайлова по изданию: «Philosophisches Erbe. Bd. 5. Die Junghegelianer». Berlin, 1963.
КРИТИКА ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ИСТОРИИ СИНОПТИКОВ
Со своей гипотезой Штраус остается верен точке зрения, проведенной им теперь и в критике религиозного учения с основательнейшей последовательностью и с решительностью ученого характера, — точке зрения, для которой субстанция есть абсолютное [...], субстанция, приняв-
409
тая как сила общины определенную форму существования. Такой взгляд загадочен, ибо каждый раз, когда он хочет объяснить и представить наглядно процесс, которому обязана своим происхождением евангельская история, он может породить лишь видимость процесса и не может не выявить неопределенности и недостаточности субстанциального отношения. Этот взгляд загадочен, будучи тавтологическим. Суждение: исток и начало евангельской истории в традиции — дважды полагает одно и то же — «традицию» и «евангельскую историю», соотносит, несомненно, то и другое, но не говорит нам, какому внутреннему процессу субстанции обязано своим происхождением развитие и истолкование последней [...]. Этот взгляд, кроме того, еще и ортодоксален, да и не мог быть иным в тот момент, когда Критика в своей продуманной всеобщности впервые восстала против церковной точки зрения, в последний раз придя с этой последней в непосредственное соприкосновение, каким бы враждебным ей оно ни было. В такие моменты, когда два противника решительно должны померяться силами, язык отрицания, его принцип и его проведение оказываются еще разработанными в зависимости от его противника, отрицание внутренне еще не свободно от этого последнего, в том, что оно есть, оно еще полное отображение противника, и два этих мира, будь один полным обращением другого и противоположностью ему, сами по себе один и тот же мир. Все равно, как отвечать на вопрос, единственно важный, если мы хотим узнать, как возникла евангельская история и ее изображение в евангелиях, — записана ли данная история по вдохновению святого духа, или же евангельская история сложилась в традиции. То и другое тождественно в принципе, одинаково трансцендентно, то и другое одинаково нарушает свободу и бесконечность самосознания.
[...] Задача Критики — последняя, какая может быть
перед ней поставлена, — будет теперь, очевидно, такой —
исследовать вместе с формой и содержание, не есть ли оно
тоже писательского происхождения как свободное творе-
• ние самосознания. [...]
На вопрос, которым так много занималось наше время, именно вопрос, был ли Иисус историческим Христом, мы ответили, показав, что все, чем был исторический Христос, что говорится о нем, что мы знаем о нем, — принад-
410
лежит миру представления, а именно христианского представления и, следовательно, не имеет никакого отношения к человеку, принадлежащему действительному миру. Ответ на вопрос такой, что он на веки вечные перечеркивает сам вопрос.
Столь же несчастна конечная судьба этого вопроса и с другой стороны, где он занят определением безгрешности спасителя. Подобно тому как исторический Христос разрешается в противоположность того, на что претендует представление о нем, а именно в человека из плоти и крови, человека, который со всей своей энергией души и духа принадлежит истории, становится фантомом, попирающим законы истории, — подобную судьбу испытала и существовавшая в представлении безгрешность этого фантома.
[...] Результат нашей [...] Критики, что христианская религия есть абстрактная религия, — это разоблачение мистерии христианства. Главными силами религий древности была природа, были дух семьи и дух народа. Всемирное господство Рима и философия — это были движения всеобщей силы, которая стремилась подняться над рамками прежней природной и народной жизни и одержать верх над ними — над человечеством и самосознанием. Для всеобщего сознания это торжество свободы и человечности, не говоря о том, что внешнее мировое господство Рима не могло произвести его на свет, не могло еще быть достигнуто в форме чистого самосознания и чистой теории, поскольку религия оставалась всеобщей силой и внутри ее· должна была совершиться сначала всеобщая революция. В сфере отчужденного от себя самого духа — если освобождение должно было быть основательным и произойти ради человечества, — должны были быть сняты прежние ограничения всеобщей жизни, т. е. отчуждению нужно было стать всеобщим, охватывающим все человечество. В религиях древности существенные интересы скрывают и застилают глубину и ужас отчуждения; созерцание природы очаровывает, семейные узы — сладостны и прелестны, народный интерес придает религиозному духу пламенную преданность тем силам, которые он почитает: цепи, которые нес человеческий дух на службе этих религий, были увиты цветами, великолепно, торжественно украшенный, как жертвенное животное, человек приносил себя в жертву своим религиозным силам,
411
сами цепи не давали ему заметить всю жестокость его служения.
Когда цветы завяли со временем, цепи были разрушены силой Рима, тогда вампир духовной абстракции завершил весь труд. Вплоть до последней капли крови этот вампир высосал человечество, его соки и силы,, кровь и жизнь: природу и искусство, семью, народ и государство — все впитал он в себя, и на обломках погибшего мира осталось только изможденное Я, но для себя самого единственная сила. Однако после безмерных потерь Я не могло сразу же воссоздать из своих глубин природу и искусство, народ и государство. То великое и безмерное, что теперь происходило, единственное деяние, занимавшее его, состояло в том, что вобрало в себя все, что жило в старом мире. Я было теперь Всем и, однако, было пустым; Я стало всеобщей силой, но на обломках мира оно не могло не устрашиться самого же себя и не отчаяться при виде таких потерь; пустому, всепожирающему Я становилось страшно при виде самого себя, оно не осмеливалось постигнуть себя как Все и как всеобщую силу, т. е. оно оставалось еще религиозным духом и завершало свое отчуждение, противопоставив самому себе свою всеобщую силу как силу чужую, в неимоверном страхе трудясь — перед лицом этой силы — ради своего сохранения и блаженства. Гарантию своего сохранения оно видело в мессии, который для него представлял лишь все то, чем было оно само в основе своей, а именно его самого как всеобщую силу, но только такую, какой было оно само, именно как силу, в которой испытали свою гибель и всякое созерцание природы, и все нравственные определения духа семьи и народа и государственной жизни, равно как художественное созерцание.
Исторический исходный момент такой революции был дан в жизни иудейского народа, поскольку в его религиозном сознании не только были уже задушены природа и искусство, а тем самым борьба с религией природы и искусства, как таковая, была уже позади, но и народный дух в самых разнообразных формах уже должен был вступить в диалектические отношения с идеей более высокой всеобщности [...]. Недостатком этой диалектики было то, что в конце народный дух вновь становился средоточием всего универсума: христианство устранило этот недостаток, сделав всеобщим чистое Я. Евангелия провели такое
412
преобразование своим способом — именно способом исторического изображения: повсюду будучи зависимы от Ветхого завета, будучи почти его копией, они все же дали осуществиться тому, чтобы сила народного духа была поглощена всесилием простого, чистого, но отчужденного от действительного человечества Я.
Если мы станем рассматривать евангелия так, что отвлечемся от их взаимных противоречий, как простая незамысловатая вера абстрагирует целостный образ из их смутного содержания, нас не сможет не удивить то, что они занимали человечество в течение 18 веков, и притом так, что тайна их не была открыта. Ибо нет евангелия, нет самого незначительного его фрагмента, где бы не было недостатка в воззрениях, оскорбляющих, ранящих и возмущающих человеческие чувства.
Но наше удивление еще более возрастет, когда мы заметим, что евангелия со своими данными и предпосылками находятся в противоречии со всем тем, что мы знаем о времени, когда будто бы существовал их предмет; но удивление достигнет величайшей степени, когда мы обратим внимание на чудовищные противоречия, в которых запутываются они со своими утверждениями, когда мы обратим внимание на такое изображение истории, как у Матфея, и на такое представление всего, как в четвертом евангелии. И такими вещами должно было мучить себя человечество на протяжении полутора тысячелетий? Да, такими, ибо великий, безмерный шаг мог быть сделан лишь после подобных мук и усилий, чтобы не быть напрасным я быть оцененным во всем подлинном своем значении и величии (стр. 57—62).
