Джеффри Гудвина «Что мы сегодня знаем о механизмах возникновения революции?»
| Вид материала | Лекция |
- Панфилёнок-имя героическое!, 134.53kb.
- Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», 2915.23kb.
- Представлений о строении реального кристалла и необходимости учета роли различных структурных, 10.44kb.
- Cпид это болезнь ума! Что мы сегодня знаем о спиде, 146.48kb.
- Исследование степени доверия банкам, 260.39kb.
- Quantum scimus, gutta est, ignoramus mare. То, что мы знаем, лишь капля, чего не знаем, 49.37kb.
- План Введение. 3 Основная часть. 4 Что такое «компьютерная революция»? 4 Этапы революции., 90.65kb.
- Задачи революции 7 Начало революции 8 Весенне-летний подъём революции, 326.28kb.
- Эрик хобсбаум. Век революции. Европа 1789-1848, 5544.43kb.
- "Девственницы-самоубийцы" первый роман современного американского писателя Джеффри, 2866.63kb.
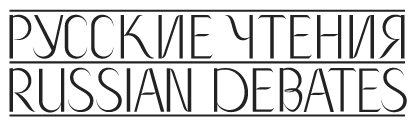 |  |
Лекция Джеффри Гудвина «Что мы сегодня знаем о механизмах возникновения революции?»
1.06.2006
Михаил Рогожников, заместитель директора Института общественного проектирования: Второй раз в этом году в рамках программы «Русские чтения» состоится лекция, посвященная революциям. Видно, что эта тема вызывает интерес. С очень содержательной и актуальной лекцией о “цветных” революциях у нас уже выступила Валери Банс. Но вот профессор исторической социологии Нью-Йоркского университета Джеффри Гудвин вообще не относит эти процессы к революциям. И в своей лекции он, в первую очередь, будет говорить о великих революциях, которые, по его мнению, не остались в прошлом. К великим социальным революциям он относит и то, что происходило в Индонезии, в Сальвадоре, в Иране, в Китае после 1945 года. Особенность научного подхода, о котором расскажет профессор Гудвин, насколько я понял из нашей беседы, состоит в том, что в его рамках революции трактуются не как народные, а как элитные процессы, отправной точкой которых становится не волна возмущения народных масс, как в марксистской трактовке, а некий раскол в элитах. Имеющий, как правило, геополитический контекст. Итак, я передаю слово нашему лектору. Профессор Гудвин, прошу Вас.
Джеффри Гудвин: Большое спасибо за представление. Большое спасибо Институту за приглашение выступить сегодня с этой лекцией. Это мое первое посещение России, и мне было очень интересно и приятно здесь находиться. Сегодня я хотел бы рассказать о подходе к исследованию феномена революции, набирающему сегодня определенное влияние в Соединенных Штатах. Этот подход не ограничивается сферой исследования революций, а применяется к самому разному числу политических вопросов. Сегодня же я постараюсь показать, каким образом этот подход может пролить свет на возникновение великих социальных революций. Должен сказать, что читать лекцию о революции русским, с их историей, довольно сложно. Но я постараюсь.
Прежде всего, необходимо сказать, что это государственнический подход. То есть, вместо того, чтобы задавать вопрос о том, каким образом общество участвует в развертывании политических конфликтов, в первую очередь, анализируется политическая жизнь и то, как государство формирует общественные настроения и определяет социальные изменения. Наиболее распространен образ революции как восстания народных масс. Лев Троцкий когда-то писал, что одной из неоспоримых черт революции является непосредственное вмешательство масс в исторический процесс. Это, в общем-то, верно. Этот фактор, действительно, присутствует в любой великой социальной или политической революции. Здесь мне хотелось бы уточнить терминологию. Под понятие политической революции попадают все исторические процессы, в которых политический порядок радикально меняется. Это восстание снизу, как правило, не конституционное, сопровождающееся насилием. Социальные революции, о которых мы будем говорить сегодня, включают в себя не только политическую составляющую — изменение режима, движимое народными массами снизу, но предусматривают и значительные экономические, социальные, культурные изменения. Общей чертой этих двух типов революции, действительно, является фактор народного восстания.
Но революция — это очень сложное явление, включающее в себя сложные социальные, психологические и политические факторы. Почему же мы в нашем исследовании концентрируемся, в основном, на такой единице анализа, как государство? Прежде всего, потому, что успех революции приводит к развалу и беспомощности государства. Революций не было бы, если бы государство просто само по себе разваливалось или становилось беспомощным. Эта государственническая теория, она хорошо известна и многими принята. Вообще-то это уже стало трюизмом, и вы могли слышать огромное число высказываний на эту тему, в том числе известный тезис Ленина о том, что революции происходят, когда верхи не могут, а низы не хотят жить по-старому. То есть, идея о том, что революция предусматривает как восстание снизу, так и развал на самом верху государственной пирамиды не нова.
Но нам необходимо задать вопрос: почему, в принципе, государства подвержены разрушению? Вторая, возможно даже более интересная причина заключается в том, что сильные революционные движения, вне зависимости от их идеологической ориентации, социальной структуры, успеха или неуспеха в захвате государственной власти, связаны с организованной оппозицией. Есть некие государственные структуры, некоторые формы государственной организации, которые помогают генерировать революционные движения, подталкивают людей к революционным действиям, создают стимулы для революционных форм социальных конфликтов. И делают это ненамеренно, естественно.
Так или иначе, как с точки зрения формирования революционных движений, так и с точки зрения их результата, государственные структуры и государственная практика очень важны. Почему? Здесь снова можно процитировать Троцкого — «люди любят делать революции, не больше, чем воевать, революции происходят только тогда, когда другого выхода уже нет». Формирование революционных движений во многом обуславливается авторитарной государственной практикой, государственным насилием, отсутствием четкой организации, слабостью военных, а также геополитическим давлением. Со своей стороны революционные движения начинают играть важную роль, когда доказывают свою способность организовывать политическую оппозицию, различную по классовому и этническому составу, начинают пользоваться международной поддержкой. И создание таких вот широких коалиций также во многом обусловлено действиями государства, как правило, авторитарного, репрессирующего не только рабочих и крестьян, но также и средний класс, и даже элиты. Таким образом, именно плохо организованная слабая автократия является самым вероятным плацдармом революции. И для успеха оппозиции даже не необходима сильная организация. Мы знаем примеры, когда революционные движения достигали успеха и без этого, поскольку государство начинало разваливаться сверху, и революционерам представлялись уникальные возможности для захвата власти.
Эта уязвимость авторитарного государства частично связана с тем, что в нем не дают развиваться процессам либерализации и демократизации, которые сами по себе инкорпорируют крупные группы населения в институциональную политику, отвлекая их от революционных настроений. Революции редки в тех странах, где у государства есть связь не только с элитами, где есть рациональная бюрократическая организация, эффективно осуществляется управление. То есть, проблема революций вряд ли станет актуальной в большинстве демократических стран. Более того, мы точно знаем, что ни в одной демократической стране великой социальной революции еще не происходило. Марксистское учение о буржуазно-демократических революциях, казалось бы, открыло путь к социалистическим, коммунистическим революциям. Но на самом деле, чем сильнее либеральная демократия, тем меньше в ней вероятность революции.
Теперь позвольте мне подробнее рассказать о заявленном подходе, в центр которого поставлен анализ государства. Наибольший интерес вызывает несколько его измерений. Прежде всего, встает вопрос о том, кому принадлежит государственная власть, какой социальный класс контролирует государственный аппарат. Какие социальные группы имеют своих представителей во власти. Открыто государство обществу или изолировано от него. Является государство демократическим или авторитарным, инклюзивным или эксклюзивным. Включает ли оно в себя элементы гражданского общества. Это первое измерение. Кроме него можно выделить еще три аспекта, существенных для понимания феномена революции. Понять, является государство авторитарным или демократическим, — это одно дело, но важно также, какими возможностями оно обладает при осуществлении своих функций. Является ли государство относительно сильным или относительно слабым? Дополнительное измерение, которое нужно обсудить, касается организации государства. Как организована армия, полиция? Рационально и бюрократически или же в соответствии с патримониальными стандартами? Назначаются служащие в соответствии со своими достоинствами или по политическим критериям, степени лояльности режиму? И, наконец, последнее — огромное значение имеет геополитическое положение государства. Является ли это государство конкурентоспособным или же оно уязвимо и слабо? Ослабляет или усиливает государство геополитическая конкуренция, в особенности, войны?
Конечно, многое зависит и от политической жизни в стране, но я думаю, что именно эти четыре измерения государства наиболее важны для понимания сути революционного процесса: возможности и функции государства; сила или слабость государства; внутренняя организация государства; геополитические возможности государства. Эти измерения, с одной стороны, связаны между собой, с другой, — очень независимы друг от друга. В рамках рассматриваемого подхода утверждается, что революционные движения с большей вероятностью возникают в государствах, обладающих узкими возможностями политических акций, со слабой административной инфраструктурой. Политическая эксклюзивность и репрессии также приводят к выдавливанию политических групп в революционные движения. А слабость государства не позволяет им противостоять. Если между государством и обществом не налажены взаимоотношения, эволюционное развитие путем проведения реформ становится невозможным. В результате единственным способом продвижения политических требований остается свержение репрессивного режима. Все, что менее радикально, просто не работает. Демократические государства также могут сталкиваться с сильной оппозицией, но, как правило, последняя все же умереннее, как в своих требованиях, так и в способах достижения целей. Есть также государства, достаточно сильные для того, чтобы подавлять выступления нелояльных оппонентов, сохраняя при этом умеренную оппозицию.
Надо отметить, что уязвимы, в первую очередь, слабые недемократические государства, организованные на основе патримониальной модели. В патримониальных автократиях власть сконцентрирована в руках правящей верхушки, и проведение реформ, способных подорвать потенциал народного революционного движения, практически невозможно. Как невозможна и мобилизация новых политических сил. Такое государство неэффективно, оно не в состоянии бороться с революционными движениями рациональным способом. Что можно сказать о режимах, свергнутых в великих революциях ХХ века? О диктатуре Порфирио Диоса в Мексике, революции 1917 года в России, диктатуре Чан Кайши в Китае, колониальных режимах во Вьетнаме и Алжире, диктатуре Батисты на Кубе, колониальных режимах в африканских колониях Португалии, монархии в Иране, диктатуре Сомосы в Никарагуа? Ни одна из этих стран не была капиталистически развитой, ни одна из этих революций не произошла в демократической стране, ни одно из этих государств не относилось к великим державам, говоря геополитическим языком. Напротив, были свергнуты репрессивные, но при этом слабые, и с точки зрения внутренней политики, и на геополитическом уровне, режимы. Слабые автократии с сильными патримониальными тенденциями.
Мне хотелось бы подробнее остановиться на этом вопросе — почему революции происходят тогда, когда они происходят? Возможно, самой влиятельной по этой теме является книга американского социолога и политолога Скочпола, в которой он не только рассматривает революции во Франции, России и Китае, но также обращается к вопросу об источниках политических кризисов, которые сделали возможными восстания в этих странах. Его вывод заключается в том, что революционеры лишь удачно воспользовались ситуацией раскола между правящим классом и независимыми государственными бюрократами, усугубляемой геополитической конкуренцией.
Таким образом, наш подход позволяет дать ответ на классический вопрос: почему революции происходят именно там, где происходят — в определенном месте, в определенное время? Всегда есть люди (как правило, это самая бедная часть общества, настроенная революционно) но власть им удается захватить только тогда, когда они способны использовать слабости государства, особенно государства в состоянии войны. Еще Троцкий говорил, что для революции роль армии критична. При сильной и контролируемой армии успешный переворот практически невозможен. Потому что государство способно пресечь революционные движения, не дать им развернуться.
Итак, важно, что слабость режима сама по себе еще не объясняет и не предопределяет революции. Необходимо понять, почему и как революционные движения могут воспользоваться возможностями кризиса. Какое-то конкретное революционное движение может даже не иметь какого-либо ощутимого влияния на общество. Но оно может спровоцировать кризис государственности. При этом, правда, происходит реконсолидация государственной власти. Но этот процесс в ряде стран начинался через десятки лет анархии. Реконсолидация власти может происходить как за счет сохранившихся фракций бывшего режима, так и за счет прихода к власти какого-то более консервативного политического движения.
Анализ показывает, что существует, как минимум, пять видов государственной политики, пять характеристик государства, которые пусть не намеренно, но способствуют возникновению и развитию сильных революционных движений. Эти характеристики являются кумулятивными. Чем больше таких характеристик, тем больше вероятность революции. Государства, если перефразировать Маркса, сами своими действиями порождают собственных могильщиков.
Итак, первый фактор — проведение государством непопулярной экономической и социальной политики. Это может быть и призыв в армию, и налогообложение, это могут быть самые разные причины. Это то, чем определяется работа и благосостояние людей. Само по себе это, как правило, не приводит к возникновению революционных движений, потому что люди скорее будут жаловаться на начальника, на хозяина квартиры, на владельцев земли, на промышленников, чем непосредственно на государство. Если только не будет широкого понимания, что именно государство охраняет интересы эксплуататорских классов. Некоторая автономность государства, таким образом, может предотвращать революции. В обществе будут происходить классовые конфликты, имеющие хронический характер, будут происходить демонстрации, забастовки и диверсии против каких-то конкретных людей, но подобные акции вряд ли приведут к революции и свержению сильного государства. Революционные движения не получат развития, если люди будут уверены в том, что государство сильное, эффективное и консолидированное. Они будут жаловаться на доминирование, на эксплуатацию, но будут воспринимать это как локальное явление. А революция, каким бы сильным ни было это доминирование, в этом случае вряд ли возможна.
Второй фактор, способствующий развитию революционных движений, — это исключение социально мобильных групп из политического процесса, процесса принятия решений. Доступ к этим процессам позволяет людям высказывать свое мнение, решать проблемы и удовлетворять требования в рамках существующей системы, способствует канализации социального напряжения. Собственно, пример Западной Европы достаточно прозрачен. Группы, включенные в политический процесс, не будут рисковать своим влиянием и доступом к государственным ресурсам.
Третий фактор — это государственное насилие. Политическая эксклюзивность, авторитарность и репрессии в отношении инакомыслящих и диссидентов, безусловно, ускоряют развитие революционных движений. Государство не может идти по пути эволюционного ненасильственного развития, если оно не слышит требований гражданского общества. Революционные движения начинают расширяться, число их сторонников растет. Революционные группы могут получать поддержку не только за счет своей идеологии, а просто потому, что они могут предложить людям какую-то защиту от насилия со стороны государства. Об этом свидетельствуют примеры партизанских повстанческих армий. Вооруженная борьба начинается, как правило, только после того, как исчерпаны все возможности ненасильственных действий, если последние подавляются. Репрессии увеличивают вероятность формирования революционной идеологии, предусматривающей радикальную, возможно, утопическую, реорганизацию общества. Не просто государства, а всего социального порядка. Общество репрессированных и обиженных людей просто не видит другого способа восстановления справедливости. В стране, в которой сажают в тюрьму и даже убивают по малейшему подозрению в нелояльности режиму, вряд ли найдутся люди, полагающие, что все можно изменить с помощью реформ. Скорее, они посчитают, что само общество нуждается в радикальных изменениях.
Четвертый фактор — внутренняя слабость государства. Я называю это слабостью инфраструктуры власти, неспособностью обеспечить следование установленным сверху правилам. Вне зависимости от того, насколько авторитарным и несправедливым может быть государство, оно всегда удержит власть, если будет способно беспощадно расправляться со своими оппонентами. Такое государство может иметь очень много оппонентов, но они не смогут эффективно проводить свою деятельность, до тех пор пока репрессивная машина будет сильна. Пока сильна и предана армия. Революционные движения могут развиваться лишь в тех районах, где государство слабо, там, куда рука государства не дотягивается.
Пятый и последний фактор — это набор правил авторитарного управления. Коррупция, патримониальные настроения. Все это может ускорить распад государства просто за счет усугубления конфликта между государством и иностранными сторонниками. Когда имеет место слабый автократический режим, неконтролируемое использование власти и силы, разочарование офицеров, широких кругов общества, соблазны революционного движения велики. То есть, мы говорим о военной элите, доминирующих классах, диктаторах, которые, сами того не желая, играют на руку революционерам, потому что делают государство слишком слабыми не способным эффективно ответить на революционные вызовы.
Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что питательную среду для революций создают ослабленные коррумпированные авторитарные правления, осуществляющие репрессии и закрывающие путь ненасильственных политических изменений. Это известный рецепт революции. Когда я читаю лекции, меня часто спрашивают, где будет следующая революция. Честно говоря, я не знаю. Чтобы знать, необходимо понять конкретную специфику. Но если прошлое является для нас неким руководством, не нужно искать предпосылки революций в Западной Европе, в Северной Америке или Индии. Ищите репрессивные диктатуры, слабые, патримониальные и геополитически уязвимые автократии. Ищите автократию со слабой и ненадежной армией. Большое спасибо.
Михаил Рогожников: Хорошо сказано: ищите репрессивные диктатуры. Где же их искать? У нас, как обычно, есть содоклады. После — свободная дискуссия. Сейчас я прошу выступить Оксану Викторовну Гаман-Голутвину, профессора Российской академии государственной службы при Президенте РФ.
Оксана Гаман-Голутвина, доктор политических наук, профессор Российской Академии государственной службы при президенте: Уважаемые коллеги, уважаемый профессор Гудвин. Сессии «Русских чтений» вызывают неизменный интерес. Но число людей, пришедших на сегодняшнюю лекцию заставляет думать о том, что революции являются, видимо, не только достоянием прошлого. Уважаемые коллеги, я начну с хрестоматийно известного высказывания — мятеж не может быть удачен, в противном случае, он назывался бы иначе. Феномен революции привлекал внимание многих мыслителей Нового времени. О революции писали Карл Маркс и Фридрих Энгельс, Ленин, Троцкий, Грамши. Каковы классические представления о революции? Во-первых, обычно упоминают о том, что революция предполагает захват почты, телефона, телеграфа и вокзалов. Во-вторых, как правило, революции привязаны к конкретным датам. Вспомним опять-таки классическое: 24 октября рано, 26 — поздно, 25 — ключевой день. В качестве третьей, важнейшей особенности революции обычно отмечают то, что они творятся восставшими массами. И, наконец, последняя традиционно выделяемая характеристика — роль насилия. Революция рождается в муках вооруженного противостояния. Не случайно профессор Гудвин говорил о роли армии в революциях.
Однако внимательное рассмотрение истории революции заставляет внести коррективы в эти классические представления. Парадоксальным образом революции второй половины ХХ века, и даже такое хрестоматийное событие, как Октябрьская революция 1917 года, изменившая облик всего мира, при ближайшем рассмотрении оказываются очень странными. Так, несмотря на все классические атрибуты революции 1917 года — захват почты, телеграфа, телефона и вокзалов восставшим народом, ее результатом стало не радикальное изменение модели, по которой страна развивалась, как минимум, с XV-XVI веков, а, наоборот, возврат к этой классической модели. Не случайно Георгий Федотов писал о том, что переезд советского правительства в 1918 году из Петербурга в Москву стал актом символическим, актом возврата в Московское государство из императорской России. Министры стали называться народными комиссарами. Но от этого модель развития не изменилась. Если мы посмотрим на другое очень значимое событие в нашей стране, я имею в виду август 1991 года и последующий распад Советского Союза, который президент Путин назвал величайшей геополитической катастрофой ХХ века, то мы увидим, что это событие прошло практически незамеченным для теоретиков революции. Почта, телефон, телеграф и вокзалы как будто остались не захваченными. Не случайно ГКЧП 1991 года, прозванный «опереточным» государственным переворотом, был квалифицирован как попытка контрреволюции. Между прочим, обвинителям на процессе ГКЧП оказалось практически невозможно доказать инкриминировавшееся членам ГКЧП нарушение закона, ибо они действовали в строгом соответствии с буквой Конституции и законов СССР. Если же говорить об использовании силы, то танки, появившиеся на улицах Москвы в августе 1991 года, играли, скорее, сугубо психологическую, а не военную роль. Как раз наоборот, Советский Союз распался, притом, что все ракеты остались в шахтах.
Подобного рода размышление побуждает пересмотреть классические представления о революции. Что же это такое с позиции сегодняшнего дня? Я полагаю, что любая революция — это глубинные трансформации проводимого курса, который представляет собой реализацию целенаправленных мер, в соответствии с определенными социально-экономическими и политическими интересами и целями. С точки зрения облика революции могут быть очень разными. Они могут сопровождаться передачей власти от одного субъекта власти к другому, но вполне успешно обходиться и без нее. Это, во-первых. Во-вторых, революции различны по методам, они бывают насильственными и вполне мирными.
Если говорить о примерах, то классическим примером революции без передачи власти мне представляется революция сверху 1929 года Иосифа Сталина. Это, действительно, был глубокий переворот. Не случайно в его революционном характере сходились столь разные мыслители, как Георгий Федоров и Лев Троцкий. Хотя и оценивали его по-разному. Троцкий писал об этой революции, как о предательстве, как о Термидоре, он писал о том, что революция 1917 года была разрывом со святой Русью, цитата — «с ее иконами и тараканами». Тогда как сталинский переворот — это отказ от революционных идеалов. Действительно, Сталин мыслил себя, как продолжатель политики Ивана Грозного и Петра I. Не случайно он был столь пристрастен при приемке второй серии фильма Эйзенштейна «Иван Грозный». Не случайно он неоднократно возвращался к сюжетам русской истории. И анализ его политики зачастую заставляет вспоминать Петра I. Если же говорить о том, как глубинный переворот может быть осуществлен эволюционными методами, то примером будут служить великие реформы императора Александра II. Это был глубинный и, тем не менее, вполне мирный переход, отличающийся, правда, любопытными особенностями. Буржуазная по своему характеру, целям и задачам революция была осуществлена силами бюрократии.
Если же обратиться к концу ХХ века и феномену «бархатных» революций, то здесь и вовсе классические очертания теории революции отступают. «Бархатные» революции — это, условно говоря, виртуальные революции, осуществленные методами информационно-психологического воздействия на массы. Главная особенность этих и многих предшествующих революций заключается в том, что массы в них выступали отнюдь не центральным субъектом событий, а, скорее, его горючим материалом. И это главное. Классика жанра в этом отношении — украинские события, выборы 2004 года. Трудно отрицать, что главным мотивом массового политического участия стал протест против олигархического правления Леонида Кучмы, однако анализ показывает, что конверсия массового недовольства в реальные действия происходит только там и тогда, когда наличествует влиятельный, организованный, обеспеченный ресурсами игрок. Само по себе недовольство, как правило, не приводит к революционным событиям. И это отличает не только «бархатные» революции. Владимир Ильич Ленин в январе 1917 года в выступлении перед молодыми швейцарскими социалистами сказал — “вам, дорогие мои друзья, вам или вашим детям, может быть, доведется увидеть социалистическую революцию, а нам увидеть ее не доведется никогда”. Это он сказал в январе 1917 года. Иначе говоря, объективные предпосылки, вне всякого сомнения, значимы. Это необходимый элемент. Но отнюдь не достаточный.
Вообще, если посмотреть на события конца ХХ века, конечно, наибольший интерес вызывает феномен «бархатных» революций. Говорят, что первая революция такого рода случилась в Сербии после президентских выборов начала 2000 года, затем последовала революция в Грузии в 2003 году, затем украинский сценарий, киргизский, попытка узбекского. Но мне кажется, точка отсчета выбрана не вполне верно. Полагаю, что первым прецедентом «бархатных» революций стала румынская революция декабря 1989 года. Потом события января 1991 года в Вильнюсе с его телебашней, потом Москва в августе 1991 с Борисом Ельциным на танке, напоминающем Владимира Ленина на броневике в революционном Петрограде. И только потом Югославия и Грузия. Если задуматься о том, что объединяет столь разные события в столь разных странах, то думаю, все же можно найти общий знаменатель. Выраженный в трех позициях: кто совершает эти революции, зачем и как. И здесь я, безусловно, разделяю позицию профессора Гудвина, который ищет ядро революционных событий не столько в недовольстве масс, сколько в расколе элит. Особенностью этих революций является то, что действительным мотором событий выступает отколовшаяся часть элиты, недовольная размером того куска пирога, который ей достался. Известно, что Михаил Саакашвили был любимым учеником Эдуарда Шеварднадзе. Нино Бурджанадзе, Зураб Жвания, ныне покойный, получили путевку в политическую жизнь от Шеварднадзе. Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко в течение десяти лет входили в ядро режима Кучмы. Киргизские революционеры — Курманбек Бакиев, Феликс Кулов, Роза Атунбаева не с улицы пришли в революцию. То же самое в Казахстане. Пожалуй, лишь Узбекистан представляет собой пример не элитной, а религиозной оппозиции, с активной ролью радикальных исламистских движений. Революционеры конца ХХ века, очевидно, борются за экономические ресурсы. Все остальное прилагается. Если же мы посмотрим, каким образом осуществляются эти революции, то, в общем, здесь нет ничего нового. Информационно-психологическое воздействие активно использовалось еще в ходе «холодной» войны.
Другими словами, хотелось бы поддержать вывод профессора Гудвина о роли элит в революционных событиях. Систематическое обобщение фактов действительно показывает, что ни подрывные действия, ни народный гнев сами по себе революций не вызывают. Революционные события во многом — порождение раскола внутри элит. И массы, как правило, лишь используются в качестве горючего материала. Не могу не сослаться на отечественный политический опыт. Мы привыкли рассуждать о революции 1917 года как о величайшем переломе. Между тем, 1991 год стал значительно более глубинным переворотом. Но чем он был вызван? Мы помним, что перестройка начиналась и шла под лозунгом демократизации. Парадоксальным образом события, последовавшие за ней, стали революцией элит. И здесь я бы напомнила такой достаточно простой факт — когда Михаил Сергеевич Горбачев выезжал как глава великого государства в составе делегаций за рубеж, его суточные составляли 25 долларов. Не слишком много, прямо скажем. Я полагаю, что именно противоречие между правом распоряжения неограниченными ресурсами — людскими, финансовыми, материальными, и крайне ограниченным правом владения и стимулировали ту революцию элит, которая произошла на рубеже 80–90-х в нашей стране. Борис Ельцин в своей первой книге «Исповедь на заданную тему» с сожалением вспоминает, как получив дачу в качестве секретаря Московского горкома партии, был разочарован, обнаружив на мебели бирки управления делами. Ни дача, ни мебель не являлись его собственностью. А как раз о конверсии власти в собственность мечтала вся советская номенклатура, и во многом именно это подвигло ее на осуществление революционного переворота.
Теперь несколько слов о том, насколько возможен революционный сценарий в Российской Федерации. Осенью 2004 года наблюдатели революционных событий в Украине отмечали, что подобное может произойти и у нас. Благоприятные условия для повторения «цветочно-фруктового» революционного перфоманса, действительно, были. Они во многом были связаны с начавшимися весной 2004 года социальными реформами, которые могли затронуть сферы здравоохранения, образования, науки и культуры. В частности, реформа здравоохранения проводилась под неявным лозунгом: «лечиться даром — даром лечиться». Реформа Академии наук вообще предполагала ее устранение, — дескать, в США нет Академии наук, а наука там процветает. Сторонники подобной точки зрения как-то упускали из виду, что в России и в США по-разному сконструирована организация научных исследований. Что в США наука делается, прежде всего, в университетах. И бюджет среднего университета (порядка двух миллиардов долларов) как раз сопоставим с бюджетом всей Российской Академии наук. Что в США существует еще порядка 40 общенациональных исследовательских лабораторий, бюджет которых значительно больше бюджета РАН. В свою очередь, реформа образования предполагала, что только четыре года обучения в высших учебных заведениях будут бесплатными, желающие же получить заветный диплом должны будут дальше сами оплачивать свое образование. Иначе говоря, у нас был шанс возродить в этой сфере Россию, которую мы когда-то потеряли. Потому что в памяти, когда нам говорили о желательности четырехгодичного образования в вузах, возникала модель четырехклассного образования в церковно-приходских школах. Когда-то еще министр образования в правление Николая I князь Ширинский-Шахматов говаривал, что польза философии не доказана, а вред от нее возможен. И под этим предлогом закрыл все кафедры философии. Мне кажется, подобную философию в какой-то момент исповедовало наше Министерство образования.
Без науки, культуры и прочих, «явно излишних» для россиян благ, наше население, действительно, могло бы вспомнить сценарий, получивший развитие в Киеве. Революции, помимо всех тех рациональных целей, которые вкладывают в эти события их творцы и исследователи, выполняют одну важную функцию. Революции являются клапаном для выпуска пара. И в условиях, когда, скажем, в Российской Федерации отменены всеобщие региональные выборы, отсутствуют легальные клапаны такого рода, шанс могут получить не коммунисты, которые, согласно заявлениям их лидеров, свой лимит на революцию уже исчерпали, и не яблочники, которые несколько зеленоваты для оранжевых революций, а более радикальные силы. Типа движения Эдуарда Лимонова. И, как говорится, в этой ситуации на смену «Яблоку» могут прийти «лимоны», а за ними подтянутся и «апельсины», опыт у которых имеется. Их учить — только портить, как говорят некоторые наблюдатели. Правда, с точки зрения сегодняшнего дня, прогнозы 2004 года сегодня, мне кажется, надо менять. Сегодня вероятность «бархатного» революционного сценария в России не велика. Именно потому, что массовое недовольство может конвертироваться в некие действия только при наличии организованного игрока. Которого у нас, как будто, не наблюдается. Наверное, все в этой аудитории помнят изложенные историком слова Ленина: “революция, о которой так долго говорили большевики, наконец, произошла”. Полагаю, что, несмотря на то, что в этом зале уже говорилось и еще многое будет сказано о революциях, это не приведет к тому, что революция случится и на наших улицах. Спасибо.
Михаил Рогожников: Спасибо, Оксана Викторовна. Я прошу вернуться к кафедре профессора Гудвина и коротко прокомментировать этот содоклад. После мы перейдем к режиму свободной дискуссии. Спасибо.
Джеффри Гудвин: Я в большей части согласен с комментарием профессора. Поэтому мне хотелось бы оставить основное время на вопросы, так будет интереснее. Конечно, концепция революции — это сложная концепция. И вопрос о ее использовании в качестве аналитического инструмента остается открытым. Действительно, революция — это эквивалент фундаментальных изменений. Когда мы видим фундаментальные, глубинные изменения, мы хотим знать, почему они произошли. И мы можем назвать эти изменения революцией. Можно говорить о промышленной революции, об информационной революции, о «цветной» революции, революции сверху. Это вполне оправданно, когда мы даем определения, но возникает вопрос: что имеется в виду под «фундаментальными политическими изменениями»? Почему мы приравниваем их к революциям? Я определяю революции несколько по-другому. Мне интересны, в основном, революции народные. И революцией, с моей точки зрения, является как раз комбинация народного восстания снизу и фундаментальных изменений. Это два таких неразрывно связанных элемента. И если нет народного восстания, то, как мне кажется, мы не можем говорить о революции. Во всяком случае, я так понимаю эту концепцию. Конечно, всегда важно анализировать фундаментальные изменения. Но, когда они происходят сверху, не насильственным образом, и их локомотивом выступают элиты, у меня вызывает сомнение целесообразность разговоров о революции. Вот эти процессы в Украине, в Грузии, были ли они, действительно, революциями? Все это спорно. Мы, конечно, можем говорить о революциях в рамках нескольких подходов, можем ставить знак равенства между революциями и фундаментальными изменениями, можем обсуждать факторы и двигатели революции, но, подчеркну, что в своих исследованиях я в основном рассматриваю народные революции, восстания снизу. Возможно подход, в центре которого находится государство, сможет пролить свет на революции сверху. Возможно. Игроки в революциях элит сами являются частью государственного аппарата. Но это уже другой вопрос. Я говорил в своем докладе о великих социальных революциях. Спасибо.
Вопрос из зала: Господин Гудвин, спасибо за прекрасную лекцию. Россия пережила четыре революции, и для россиян слово «революция» — одно из самых родных и близких, на самом деле. Я лично принимал участие в революции 1991 года, в демократической революции, которая сегодня во многом растеряла свой потенциал. У меня вот какой вопрос: сегодня Россия и Соединенные Штаты конкурируют между собой за ресурсы. И руководство России считает, что США пытаются экспортировать революции в соседние с Россией государства, и, тем самым, ослабить влияние Российской Федерации и усилить свое влияние в Восточной Европе. Как Вы относитесь к идее экспорта революции? Как Вы считаете, находятся действия Соединенных Штатов Америки в рамках честной конкуренции, или нет? Спасибо.
Джеффри Гудвин: Как антиимпериалисту мне удивительно, что Соединенные Штаты преследуют свои «национальные» интересы в Центральной Европе, в Латинской Америке, по всему миру. Вопрос в том, что такое национальные интересы США, что стоит за этим понятием? Только нефть или что-то еще? Я думаю, что нет. Но это политический конфликт, а не вопрос типа «правильно-неправильно». Это долгосрочная тенденция в американской политике. И я не могу сказать, что американская политика когда-либо была справедливой. Но то же относится к политике всех великих держав, они очень эгоистичны.
Вадим Малкин, генеральный директор аналитического центра Russian Axis: Видите ли Вы какую-либо разницу между концепциями революции в индустриальном традиционном и постиндустриальном обществах. Поясню свой вопрос. Представляется, что сейчас насилие уже не играет ту роль, которую оно играло раньше. На первый план выходят манипуляции, технологии осуществления принятых решений. Вопрос общественного доверия. Кризис представительной демократии. Эти факторы приобретают совершенно иное, чем в промышленную эпоху, измерение. То есть, мне кажется, что этот комплекс вопросов должен изменить саму концепцию революции.
Джеффри Гудвин: Не уверен, что до конца понял вопрос, но я, в принципе, не согласен с основным тезисом. Я не считаю, что по мере индустриального развития падает роль военного фактора, фактора насилия. Моя страна, например, исповедует политику насилия на международной арене, да, в общем-то, и внутри страны. В Соединенных Штатах в тюрьме сидит гораздо больше людей в расчете на душу населения, чем в какой-либо другой развитой капиталистической стране. Моя страна ведет войну прямо сейчас в нескольких странах. И я не думаю, что эпоха насилия прошла. Мы наблюдаем пожар войны и геноцида и в Европе. Посмотрите на бывшую Югославию. Мы думали, что все это осталось в прошлом. Очевидно, нет. Конечно, есть тенденция к освободительным движениям, отказу от насильственных методов. Это происходит потому, что государства стали очень грозными соперниками. Но есть страны, в которых государство продолжает репрессивно реагировать на оппозицию, посмотрите на пример Китая. Важно отдавать себе отчет в том, что хотя ненасильственная стратегия является очень важной, мы все равно продолжаем жить в эпоху постиндустриального насилия.
Борис Викторович Кувалдин, руководитель круглого стола «Экспертиза», Фонд Горбачева: По-видимому, на этой стадии нашей дискуссии не столь важно, что я скажу, как то, чтобы я был краток. У меня лежит официальное приглашение, где меня просили сделать содоклад к выступлению профессора Гудвина. Я не буду этого делать, в частности, из духа гуманизма. Но я хочу поставить несколько вопросов. Мне кажется, что от одних догм мы переходим к другим, а революции, собственно, тем и интересны, что стимулируют не только активность масс, но и работу мысли. Если, конечно, мысль есть.
ХХ век, как известно, вошел в историю как век войн и революций. Мне кажется, что первый парадокс доклада профессора Гудвина заключается в следующем. В ХХ веке была огромная масса режимов, подходящих под определение слабых авторитарных режимов с патримониальными чертами, и в ХХ веке в них было удивительно мало революций. Если вспомнить примеры революций, которые приводил профессор Гудвин, то их не больше 10. Второй парадокс, о котором упомянули и профессор Гудвин, и профессор Гаман-Голутвина, это парадокс большевистской революции. Ведь что нам говорили? Что революция происходит, когда режим слабый, авторитарный, патримониальный, при этом внутри элит есть раскол. По-моему, в большевистской революции все было с точностью до наоборот. В ней были расколоты не старые элиты, а революционеры. Буквально в первые месяцы большевистской революции произошел раскол, выделилась небольшая группа крайних радикалов, от которых отошли, собственно, и меньшевики, и эсеры, потом и левые эсеры. И, тем не менее, революции была успешна. Правда, думаю, профессор Гудвин все равно, скорее, прав. Произошел раскол, действительно, произошел раскол, но раскол в элите военной. Мы почему-то считали, что, в первую очередь, на стороне Красной армии воевали народные командиры. Это не так. Красной армией руководили военные специалисты царской армии. Из 18 командующих Красной Армии не было ни одного, вышедшего из низов. Из почти 300 дивизий, которые сражались на стороне красных, буквально считанные единицы возглавляли люди типа Чапаева. Вот где произошел раскол, вот кто перешел на сторону революции. При этом хочу обратить ваше внимание, что Красная армия по численности была на порядок больше «белого» движения. Белая армия была кадровая, а Красная — на пике перед демобилизацией насчитывала пять миллионов. Больше, чем любая армия в современном мире. Больше, чем современная китайская армия, я уж не говорю об американской. Вот такое неожиданное подтверждение словам профессора Гудвина.
Тема, которую сегодня подняли, на мой взгляд, не совсем о революциях, я думаю, что это преждевременное название. Давайте вернемся к событиям 1991 года. Для меня, конечно, оценка нашего президента, что это была геополитическая катастрофа, не стала неожиданностью по той простой причине, что эту фразу — «произошла национальная катастрофа» я сам употребил в статье в газете «Московские новости» в сентябре 1991 года, оценивая августовские события, попытку выступления путчистов и демократического контрпереворота. Я думаю, что сейчас существует очень много мифов по поводу тех событий. Реально все-таки в перестройке и в событиях 1985–1991гг. боролись две тенденции: демократическая, которую, как это ни парадоксально, олицетворял Горбачев, и тенденция номенклатурная, которую олицетворял Борис Николаевич Ельцин. Парадокс событий 1991 года заключается в том, что они шли по знаменитой формуле: надо все изменить, чтобы все оставить по-старому. Советская номенклатура должна была сменить все: форму собственности, политический режим, внешнеполитическую ориентацию страны, — именно для того, чтобы сохранить свои позиции.
Хотелось бы также остановиться на феномене «цветных» революций. Я не считаю себя специалистом по революциям, поэтому выскажу лишь личное мнение, основанное на наблюдениях за одной революцией. Думаю, «цветные» революции это, действительно, не совсем революции. Да, слабый коррумпированный авторитарный режим. Да, народное возмущение. Тем не менее, представляется, что мы имеем здесь дело с особой политической технологией, с технологией смены режима. Потому что во всех 8-ми революциях присутствует один фактор. Режимы становятся прозападными. Вот если убрать этот фактор заинтересованности Запада, я абсолютно уверен, даже при сохранении всех других предпосылок, ничего подобного не произошло бы.
Последнее замечание. Я стопроцентно уверен, что профессор Гудвин, когда готовился к своей блестящей лекции, ни в коей мере не имел в виду то, что происходит сейчас в России и наши перспективы. Тем не менее, учитывая тот факт, что он выступал именно в «Президент-отеле», думаю, было бы совсем нелишне распечатать его лекцию и разослать для ознакомления всем сотрудникам глубоко мною уважаемой администрации президента. Благодарю за внимание.
Михаил Рогожников: По поводу последней реплики, прежде чем продолжить, продемонстрирую книгу «Русские чтения. Выпуск 1». В ней опубликованы лекции, прозвучавшие в первом полугодии прошлого года, декабрь 2004 — июнь 2005. Осенью выйдут, соответственно, второй и третий выпуски. Эта лекция войдет, полагаю, в третий выпуск. Хорошо. Давайте вернемся к вопросам.
Максим Григорьев, генеральный директор консалтинговой группы «Управление PR», советник руководителя Росзарубежцентра при МИД РФ: Я хотел бы предложить профессору Гудвину дополнить его пять факторов, на мой взгляд, совершенно очевидным фактором влияния извне. Он, на мой взгляд, конечно, не стоит всех пяти, но, безусловно, важен. Причем, это необязательно должно быть влияние со стороны государства, это может быть и влияние каких-то отдельных групп. Например, мы можем говорить о влиянии Сороса на события в СНГ, влиянии Бен Ладена на события в Саудовской Аравии.
Джеффри Гудвин: Согласен. Хотелось бы сделать здесь одно замечание. Сегодня прозвучало, что есть много примеров обществ, по всем параметрам подверженным опасности революции, то есть, геополитически уязвимые авторитарные режимы с патримониальными наклонностями, в которых революций так и не произошло. Безусловно, я не считаю, что перечисленные мной факторы абсолютно достаточны для революции. Просто вероятность и перспективы революции в таких обществах гораздо выше. Но это не механическая формула, — если такие признаки имеют место, обязательно будет революция. Это не так. Революции более вероятны в тех странах, где существуют комбинации перечисленных мной факторов, но я не говорил, что они достаточны. Это лишь один из подходов к феномену революции. Нужно, конечно, гораздо более внимательно изучать эти вопросы, смотреть на проблему формирования революционных коалиций, стратегию мобилизации, требования, которые выдвигают революционные движения. Просто иногда рассматриваемый подход помогает пролить свет на некоторые из вопросов. Но, конечно, еще много интересных вопросов осталось без ответа.
Вопрос из зала: Каково Ваше отношение к распространению левых настроений в Латинской Америке не революционным, а выборным путем? Можно ли это считать революцией? И второе: Ваше отношение к мысли российского содокладчика о том, что революция 1989 года в Румынии носила «бархатный» характер? Спасибо.
Джеффри Гудвин: Вы имеете в виду Чавеса? Бразилию, Аргентину и Перу? Боливию? Пока это не революции. Они могут развиваться в этом направлении, но пока, насколько я понимаю, все сводится скорее к риторике, чем к каким-либо действиям. И даже в Венесуэле мы не видим радикальных перераспределений собственности или средств. Да, прикладываются большие усилия для улучшения жизни людей. Но это не радикальная социальная революция. Хотя, события, конечно, могут развиваться в этом направлении, вполне могут. Очень трудно прогнозировать подобные вещи. И я думаю, что на эти страны оказывается давление, но их лидеры прекрасно его чувствуют — давление со стороны Соединенных Штатов, международных финансовых институтов, и избегают радикального сценария.
Оксана Гаман-Голутвина: Я хочу уточнить, что я имела в виду, говоря о Румынии 1989 года. Известно, что насилие там имело, скорее, характер символического воздействия. Да, ключевым событием в декабре 1989 года в Румынии стал расстрел шахтерской демонстрации, в ходе которого было убито порядка тысячи человек. И общественности были предъявлены эти трупы. Однако последующее расследование показало, что трупов было двести, и большинство из них были взяты из анатомического театра. Между тем факт расстрела шел основной статьей в обвинении Чаушеску. И, в общем-то, поспособствовал смене режима в этой стране. Можно привести и другие примеры такого рода. Скажем, в том же 1989 году в ноябре в Праге одним из ключевых элементов «бархатной» революции стала попытка самосожжения одного из студентов Пражского университета, по аналогии с самосожжением студента Яна Палаха в августе 1968 года в знак протеста против ввода советских войск. Правда, злые языки утверждают, что в роли студента в ноябре 1989 года выступал кадровый сотрудник службы безопасности. Мы это оставим без комментариев. Но именно это насилие в его символическом значении я и имела в виду в контексте «бархатных» переворотов.
Юрий Яковец, президент Международного института П.Сорокина-Н.Кондратьева, вице-президент Международного фонда Н.Кондратьева, академик РАЕН: Отрадно, что организаторы «Русских чтений» повернулись лицом к проблеме революции и пригласили такого квалифицированного специалиста, лекцию которого я с удовольствием послушал. Ибо он, действительно, рассматривает самые тонкие механизмы, которые порождают революцию. Тем не менее, хотелось бы сделать несколько замечаний. Во-первых, мне кажется, что анализ причин и механизмов революции был бы более полным, если бы в большей мере учитывалась работа «Социология революции» действительного участника трех революций Питирима Сорокина. Она была написана в Праге в 1923 году. И вот впервые ее издали по первоисточнику, а не по переводу в прошлом году в издательстве «Роспэн». И пока я не могу назвать ни одной работы, которая была бы ей равной. Он, конечно, великий социолог, и он характеризует предпосылки революции в том же плане, как и наш уважаемый докладчик. Тут, действительно, необходимы предпосылки с двух сторон. С одной стороны, подавление основных инстинктов, которое становится причиной развития революционных настроений и идей. С другой, неспособность правящего режима разрешить назревающие противоречия. И сколько ни пытайся сделать революцию сверху, скажем, в Белоруссии, ничего не получится, так как там нет ни одной из этих предпосылок. Так же, как и в Казахстане.
Второе: я думаю, что очень полезен его анализ последствий глубоких революций. Я согласен, что о революции можно говорить, когда этот процесс затрагивает массы. Причем, он рассматривает эти процессы очень глубоко. И мы можем наблюдать не только на примере нашей страны, скажем, улучшение социального агрегата, ухудшение интеллектуальных условий развития нации. Все это известно. Но мы как-то не говорим о законе социального иллюзионизма Питирима Сорокина: результат революции коренным образом отличается от того, что изначально планировалось ее идеологами и вдохновляло народные массы. И мы знаем достаточно подтверждений этому. Более того, нередко получается так, что результат противоположен намеченному. Если мы говорим, скажем, о событиях августа 1991 года в России, то, во-первых, переворот произошел не из-за сильного режима, а потому, что начались малоуправляемые демократические процессы. Во-вторых, мы имеем результат, который можно назвать контрреволюцией. Потому что это не путь в XXI век, в постиндустриальное общество, а попытка вернуться к XIX веку, в эпоху первоначального накопления капитала со всеми вытекающими последствиями.
Кроме того, сегодня говорилось о том, что не бывает революций при демократических режимах. Но Веймарская республика 1929–1933 года — это полноценная демократия. Тем не менее, там произошла революция. Сегодня во Франции происходит поляризация сил, и последствия этого процесса трудно прогнозировать. Поэтому я бы не утверждал столь категорично, что революции возможны только в авторитарных режимах. Сейчас общество находится в состоянии глубокой трансформации, кризисной трансформации в рамках не только векового, но и тысячелетнего цикла. И мы еще не знаем, где образуется слабое звено, и произойдут новые перевороты. Я приветствую более широкий подход к революции и я бы не давал таких вот авансов, что демократические режимы навеки защищены от такого рода переворотов. Спасибо.
Михаил Рогожников: По-моему, очень интересное замечание по поводу Франции. О Германии мы говорили перед лекцией и профессор Гудвин сказал, что, с его точки зрения, это исключение. А вот реплика по поводу Франции мне показалась очень любопытной.
Джеффри Гудвин: Я не могу, во-первых, согласиться, что Веймарская Германия — это такая уж полноценная демократия. Это была неинституционализированная демократия, демократия без традиций. Демократия, в которой значительная часть бюрократического аппарата была антидемократической. В особенности суды и военные. Большие срезы общества были настроены антидемократично. Тем не менее, действительно, нацистская партия пришла к власти, используя демократические механизмы, которые потом сама же и уничтожила. Но я думаю, Вы правы, не стоит быть столь категоричным, утверждая, что революция невозможна в условиях демократического общества. Потому что такие выбранные радикалы, как Чавес, например, вполне могут начать революционные изменения в обществе. Но, конечно, революционные события редки в демократических обществах. Все же это преимущественно касается колониальных режимов и автократий.
Валентин Гефтер, Институт прав человека: В отличие от ученых коллег профессора Гудвина, я не буду петь дифирамбы его лекции, а сразу перейду к тому, что меня, как простого потребителя ученых штудий, не удовлетворило в такой постановке вопроса. Первое: мне кажется, понятие революции осталось совершенно размыто, и каждый из выступавших вкладывал в него свое значение. Как я понимаю, в определении, которое дал профессор, речь идет именно о перевороте. Многие же употребляли этот термин совсем в другом значении. Одно дело Октябрьский переворот 1917 года, а другое дело большевистская, социалистическая, как угодно ее можно назвать, революция, которая длилась, по меньшей мере 25–30 лет после переворота. Вплоть до войны. И которая содержала массу различных переломных точек. Второе: хотя метод, кажется, назван сравнительной исторической социологией, в нем невелика доля историзма. Я имею в виду не отсутствие исторических примеров, а то, что базовые понятия — демократии, авторитаризма, и так далее, предлагались скорее статичными. Хотя, по-моему, они очень сильно трансформировались за это время. Недаром был вопрос по поводу постиндустриального общества. И последнее. Для меня, например, не столь интересно, что происходит в странах эффективной демократии, и в странах слабого неэффективного авторитаризма. Наиболее интересны, мне кажется, системы со слабой демократией или эффективным авторитаризмом. Где более вероятны революции? Я думаю, большинство собравшихся здесь все же не сторонники серьезных революционных переворотов, на что же мы должны больше обращать внимание, что для нас более критично? Мне, например, кажется, что слабая демократия все же более уязвима, чем эффективный авторитаризм. Спасибо.
Джеффри Гудвин: Если Вас интересует вопрос предотвращения революций, то, прежде всего, важна определенная регуляторная база. Я консультировал очень многих глав государств и говорил им: укрепляйте свои демократические институты, создавайте рациональные, а не патримониальные государственные учреждения. Это самый лучший совет, который я могу дать. Конечно, всегда легче говорить, чем делать. Но это те факторы, которые подрывают революционные тенденции. Приведу несколько примеров. В середине 80-х годов на Филиппинах было очень сильное революционное движение против авторитарного правления Маркоса. Были очень крупные крестьянские восстания под руководством коммунистической партии националистской ориентации. А также существовала достаточно сильная элитная оппозиция диктатуре, которая смогла сомкнуться с диссидентствующими элементами в вооруженных силах, с тем, чтобы свергнуть диктатора и пойти по пути либерализации и демократизации. И это полностью маргинализировало радикальное революционное движение. Проблема была эффективно решена в результате отхода от коррумпированного личного правления в сторону демократического государства. Совсем недавний пример — Непал. Ситуация там немногим отличается от событий на Филиппинах. Был автократический правитель, король Непала, против него велось восстание под руководством маоистской коммунистической партии. Была сильная оппозиция среди элиты, оппозиция монархическому строю. И не так давно король провел хитрый контрреволюционный ход, созвав парламент, разогнанный несколько лет назад. И начал процесс ограничения прав монархии и перехода к демократическим, а не патримониальным вооруженным силам. И, можно с уверенностью сказать, что в Непале коммунистическое движение также будет маргинализировано. Собственно, эти примеры, думаю, говорят сами за себя. Если государство демократизируется, избавляется от коррупции, создает рациональные бюрократические институты, подрывает патримониальные институты, — происходит маргинализация радикалов. Правда, хотя это очень просто на словах, это очень сложно реализовать на деле.
Михаил Рогожников: Спасибо, профессор Гудвин, полагаю, все мы признательны Вам за Ваши плодотворные научные усилия в этом направлении. Спасибо.
