Фундаментальная структура психотерапевтического метода
| Вид материала | Литература |
- Московского психотерапевтического журнала, 48.73kb.
- Московского психотерапевтического журнала, 464.59kb.
- История, структура и перспективы развития психопатологического метода (сообщение 1), 159.46kb.
- Законы, функции, методы и принципы социологии, 2441.04kb.
- Календарно-тематическое планирование 10 класс, 727.51kb.
- Управление персоналом вопросы для подготовки к экзамену, 23.69kb.
- Рабочая программа дисциплины "Фундаментальная и компьютерная алгебра", 271.65kb.
- Суть метода координат, 16.15kb.
- Задачи: познакомить педагогов с опытом работы по использованию метода продуктивного, 61.96kb.
- Тема Система и структура права, 70.59kb.
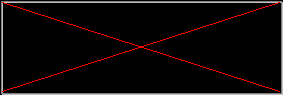
ГЛАВЛЕHИЕ >
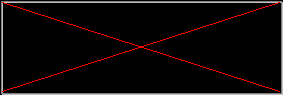
>>

На одном из моментов, существенно определяющих успех любой психотерапии, следует остановиться особо. Мы имеем в виду гедонистический фактор, понимаемый нами как соответствие принципу удовольствия в самом широком смысле слова. Это соответствие имеет отношение как к школьной технике, так и к теории. Со времени появления и развития первых крупных школ – классического гипноза и психоанализа – так повелось, что теория и практика в той или иной степени противостоят репрессивно-производительному миру житейской повседневности, где доминируют рутина и принуждение, обыденно-регламентированный характер существования. Психотерапевтический процесс неизбежно сопровождается как бы "бегством" в него (вспоминаем здесь известное "бегство в болезнь").
"Удовольствие" от терапии (ср. "удовольствие от текста" Р. Барта, 1994, 462-512) – это всегда погружение в особый мир, расслабляюще-карнавальный. выхватывающий из надоевшей повседневности. "Параллельная реальность", создаваемая в процессе психотерапии, не может не быть гедонистической в своей основе. В частности, внушаемая в гипнозе виртуальная реальность соотносится зачастую с известными видами пассивного отдыха. Здесь уместно оговориться, что, конечно, "гедонистическими" элементами никоим образом не исчерпывается психотерапевтическое действие, но именно они, без сомнения, являются существенными в формировании привлекательности образа метода в любой психотерапии.
С другой стороны, психотерапии, построенные на принципах "этики собственного усилия", скажем, аутотренинг, а также различные виды саморегуляции, в сущности, на наш взгляд, имеют немного шансов на достойное существование и результативную экспансию. То же самое можно сказать о методах, построенных на рационалистически-педагогических принципах. Рациональное убеждение, предписание определенного поведения (сюда не относятся парадоксальные предписания), а то и какое-нибудь "воспитание воли" – все это в отдельных случаях, быть может, и возможно, но в качестве последовательных психотерапевтических стратегий, на наш взгляд, лишено перспективы. Без сомнения, такие подходы будут неизбежно вытесняться из психотерапевтического пространства, даже несмотря на то, что им также не чужда известная гедонистическая тенденция (например, в аутотренинге – релаксация, индукция так называемых "приятных ощущений"). Или будет даже более уместно сказать, что в этих-то тенденциях, собственно, и заключается их главная надежда на выживание. Во всех заслуживающих внимания психотерапевтических системах, как в практике, так и в теории, пациент находится в самом центре мира карнавально-праздничной реальности, где происходит очень много такого, чего он тщетно ищет в реальности обыденной и не находит; обыденная же реальность, как мы все, к сожалению, помним, проникнута чрезмерным с любой точки зрения директивно-дидактически-принудительным духом.
Если говорить более предметно об "удовольствиях" в разных психотерапиях, то в первую очередь следует упомянуть психоанализ. Он, проходящий в своеобразной обстановке "райской ситуации", обостряющий трансфером чувства и чувственность, привлекателен еще и тем, что снимает с желаний пациента множество запретов. В анализе речь идет о многом из того, о чем в другой ситуации говорить было бы немыслимо. В гипнозе вообще ничего негедонистического нет, и то же самое можно сказать о значительной части психотерапии, основанных на форсированном изменении состояния сознания, взять хотя бы трансперсональную пневмокатартическую терапию.
В групповых терапиях происходит своеобразное изменение сознания в некоем карнавальном духе. Различные виды арттерапии привлекают приобщением к миру катартических радостей без тяжкой необходимости добиваться художественного совершенства и принимать участие в напряженном состязании поэтов и артистов, без чего немыслима никакая реальная художественная практика. Психодрама в этом смысле особенно показательна, равно как и имеющие широкое хождение психодраматические вкрапления в иные групповые техники, Не вызывает сомнений, что эта же (широко понимаемая) гедонистическая тенденция привела к повальному увлечению "телом" в современной психотерапии – не только телесно ориентированной.
Быть может, далеко не всегда путь от терапевтической техники к конкретному удовольствию прямой и ясный. Однако не вызывает сомнения, что так или иначе с этим связаны даже самые гротескно-агрессивные (вроде ЭСТ В. Эрхарда. см. Л. Рейнхард, 1994) или даже жестко-надрывные (вроде первичного крика А. Янова, см. A.Janov, 1970) терапии. При более внимательном отношении к этой проблеме можно было бы без большого труда расклассифицировать методы на процессуально-гедонистические, то есть такие, когда сама процедура напрямую связана с получением удовольствия, и результативно-гедонистические, когда процедура приносит ощутимое облегчение до того момента, как пациент покинет пространство кабинета, в духе какого-нибудь катарсиса. Нет сомнения, что такого рода ощущения сами по себе воспринимаются как терапевтический результат как клиентами, так и терапевтами. Но мы не будем здесь подробно заниматься этим делом. Ясно, что осведомленный читатель сам успешно продолжит перечень способов испытать удовольствие, принятых в рамках различных методов.
В сущности, дело обстоит так, что разные направления в психотерапии, помимо всего прочего, есть разные способы так сказать "l'usage des plaisirs" – пользования удовольствиями, психотерапевт же соответственно в том или ином варианте – "maitre des plaisirs", то есть обучающий этому делу. Однако если пациент (сам того не осознавая, естественно, а желая всего лишь избавиться от своих проблем) приобщается к удовольствиям как таковым, то собственные удовольствия терапевта – в основном от реализации, скажем прямо, стремления осуществить господство над пациентами и коллегами. Психотерапия, что и говорить, дает для этого замечательные возможности, и обсуждавшиеся выше удовольствия пациента выступают как некое воздаяние, выдаваемое ему за возможность в той или иной степени использовать его как пищу поглощаемую терапевтической машиной желания.
* * *
Наблюдая за психотерапевтической жизнью, ясно понимаешь, что было бы абсолютной нелепостью считать, будто психотерапия творится руками авторов, действующих под влиянием научных и терапевтических интересов. Как всем давно совершенно ясно, ни о чем таком тут не может быть и речи. Именно сила соблазна, исходящая от психотерапии как рода деятельности, вкупе со сложностями в оценке результативности обусловливают своеобразие этой дисциплины. Терапевтические школьные концепции и приемы есть всегда в значительной мере результат сочинительского произвола авторов с харизматически-миссионерскими склонностями. Школьные дискурсы неизбежно обнаруживают напряженное желание создать, обустроить, а затем и расширить ad maximum идеологическое пространство, в котором упомянутый автор будет осуществлять свое теоретическое влияние. Находясь под постоянным зорким контролем критика-супервизора из другой школы, он постоянно создает и переиначивает структуру своих практик, вплоть до самых мелких технических приемов, именно в силу этого давления. Само по себе существование школ, не имеющих возможностей продемонстрировать свои реальные преимущества над другими, но тем не менее успешно существующих и ведущих друг с другом агрессивную полемику, есть обстоятельство, которое ясно говорит в пользу этого, вполне очевидного положения.
Очень важно понимать, что психотерапия сама по себе, как уникальная терапевтическая практика представляет собой значительное и своеобразное искушение. Ясно, что здесь, наряду с возможностью реализации сремления к идеологическому воздействию, как это имеет место в философии, академической психологии и т.д., существует еще один соблазн – осуществления своеобразной власти над личностью клиента, будь то в индивидуальной терапии или в группе. Коренная сущность привлекательности психотерапии – в возможности добиваться реальных изменений посредством воздействий, носящих отчасти трансцендентально-магический характер. Это все не может не порождать у терапевта сознания особого могущества, видимо. аналогичного тому, что имеет место у тех, кто занимается религиозными или политическими властными практиками.
Потребность в реальной помощи, с одной стороны, легитимирует такое положение дел, с другой, что еще более важно, заставляет пациента принимать очень многое из того, что происходит в процессе такой работы. Очень многое из того, что происходит в процессе психотерапии с позволения и согласия клиента. совершенно немыслимо ни в какой другой ситуации. Упоминавшиеся "удовольствия от терапии" также примиряют его со всем этим. Таким образом, "генеалогия власти" в психотерапии имеет два источника и носит двоякий характер. Получается так, что терапевт реализует через школьную технику свое влияние на клиента и через школьную теорию – на профессиональное сообщество, стремясь при этом выйти за его пределы.
Понимание природы любой идеологии как орудия влияния является вполне закономерным делом. "Класическим философским учениям в той или иной степени свойственна просветительская, миссионерская установка. Их автор чувствовал себя монопольным обладателем истинных очевидностей, которые он должен донести до неразвитой ограниченной массы..." (М.К. Мамардашвили и др., 1972, с. 57). В сущности, то же самое можно сказать о психотерапевтических школьных теориях. Они, как и философские системы, по выражению Э. Блоха, являются "руководствами для пророков", "системами теоретического мессианизма". Безусловно, они отражают отнюдь не только потребность в концептуальном постижении мира пациента и природы его страдания (хотя об этом, конечно же, тоже не стоит забывать), но и, как уже сказано, центробежно-властное стремление сформировать собственное идеологически-влиятельное поле. Последователи его таким образом обретали бы убежище, определенные структурные рамки, где они могли бы пользоваться всеми преимуществами, которые дает такого рода существование в сообществе. Оплачиваются же эти преимущества, как водится, тем, что все уступают вожаку лучшее место у костра, самый вкусный кусок мяса, самых красивых самок, если здесь вспомнить картину, которую 3. Фрейд нарисовал в "Тотеме и табу". Иначе говоря, если раньше психотерапия рассматривалась с точки зрения возможной пользы, приносимой пациенту, то, по нашему убеждению, настало время основательно заняться ей с точки зрения тех – очень больших – преимуществ, которые она приносит терапевту.
Вопрос о "пользе" конкретной терапии для терапевта имеет несколько аспектов. Во-первых, психотерапия в школьных рамках нужна терапевту в той или иной степени как способ проецирования вовне собственных личностных смыслов. Сочиняя метод. он реализует возможность примирить собственный опыт, склонности, вкусы, мировоззрение и так далее с желанием заниматься психотерапией. Отдельный метод как бы создает канал для реализации такого желания. Все хорошо знают: нет тому примера, чтобы теоретическое новшество вводилось в сопровождении надежных исследований улучшения терапевтических показателей. Не бывает так. чтобы терапевт исследовал при этом контрольные группы, занимался подсчетом статистических ошибок, терпел длительный катамнестический срок для того, чтобы убедиться в хороших отдаленных результатах, несравнимых с теми, что имели место при работе в рамках старого метода. Кроме того, почти нет случаев, чтобы предлагающий новый метод автор до того перепробовал бы множество или хотя бы несколько различных терапий, прежде чем рекомендовал бы к внедрению собственные изобретения. Ведь невозможно представить себе, чтобы, к примеру, клинический препарат был рекомендован к употреблению без подобного рода исследовательских процедур. Для создания и распространения психотерапевтического метода вполне достаточно убежденности его создателя и его последователей в том, что он обладает определенной действенностью и этому не противоречит некий, чаще всего достаточно ограниченный, опыт автора и его товарищей.
По мнению некоторых авторов, изгнание пациента из процесса сочинения метода носит весьма радикальный характер: "Действительно, почти каждый создатель психологически сложного психотерапевтического приема-системы прежде всего лечил данным приемом себя самого и только потом, осознав-обдумав его, начинал применять к пациентам" (например, З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, В. Франкл) (М.Е. Бурно, 1992, с, 90). В сущности, разнообразие методов необходимо, скорее всего, для того, чтобы примирить как можно больше различных терапевтических индивидуальностей с психотерапией как со специфическим видом деятельности, а также создать им всем ощущение рабочего и личностного комфорта.
Думается, что эти соображения делают вполне понятным то обстоятельство, что психотерапевт, предлагающий вниманию заинтересованной публики какое-нибудь свое новое изобретение, не "присоединяет" его к уже существующему опыту других терапий, не пытается создать некую "общую психотерапию" (конечно, есть и исключения вроде К. Граве, вознамерившегося такую общую психотерапию создать, см.: К. Grawe, 1995), а всячески норовит представить это дело как независимо существующий метод и на основании его начинает разворачивать миссионерскую активность по формированию школы.
Оговоримся, что последнее время все же есть немало попыток создать "общую терапию", причем безразлично, как именно разные авторы обозначают свой проект в этом духе – эклектическая, интегративная терапия или как-нибудь еще. В общем и целом позиции сторонников эклектически-синтетического подхода ясна. Теоретический жест, который скрывается за этими соображениями, понятен и привлекателен: преодоление суеты борьбы вечно противостоящих друг другу школ, возвышение "над схваткой". С другой стороны, здесь может подразумеваться иная достойная позиция, подразумевающая тотальное использование всего объема психотерапевтического инструментария, накопленного в профессиональном сообществе, вместо того чтобы работать с заведомо более бедным набором схем и методов, ограниченных одним каким-нибудь направлением. "Количество" теории и техники, употребляемых здесь в дело, будет несравнимо большим, чем при проведении терапии вне синтетической парадигмы. Ну и конечно же, эклектически-синтетический терапевт выглядит заведомо несравненно более гибким, чем любой "школьный", который сам себя неразумно обкрадывает из-за своей узколобой преданности школьным принципам. Так что, при любом раскладе, "грандиозное Я" психотерапевта, который становится на синтетические позиции, разрастается еще сильнее.
Любой опыт наблюдения за психотерпевтической жизнью дает богатый материал для разговора о феномене терапевтического нарциссизма. Своеобразие психотерапии как специфической практики заключается в том, что воздействие на пациента практически ничем не опосредовано. Терапевт "сращен" с методом в намного большей степени, чем в любой иной терапевтической дисциплине. Основной инструмент воздействия в хирургии или, скажем, в пульмонологии – скальпель и медикаменты – не имеют никакого отношения к структуре и интересам личности терапевта. Для успешного обращения с ними вполне достаточно профессиональной компетенции. Личность терапевта как таковая, с ее интересами, ценностяи, желаниями, смыслами, в рабочий процесс не вовлечена никак. Психотерапевт, наоборот, включает в структуру терапевтического воздействия собственную личность, и известная часть школьных теоретических концептов так или иначе связана с этим обстоятельством (например, учение о переносе и контрпереносе). Проблема терапевтического успеха и неуспеха есть не только вопрос профессиональной компетенции, но и вопрос личностной состоятельности. Терапевтический неуспех здесь будет не просто профессиональным просчетом, но и нарцистической травмой. Получается так, что, помимо всего прочего, психотерапия есть род терапевтической деятельности, формирующей и обостряющей профессионально-личностный нарциссизм терапевта. Существенная часть школьных теорий личности и терапевтического вмешательства связана с этим обстоятельством напрямую. Помимо разделов, посвященных особым отношениям терапевта и пациента, эти реалии влияют на тенденцию laisser-faire, о чем шла речь выше, а также на особое внимание к методам изменения состояния сознания, о чем мы будем вести речь ниже, в соответствующей главе. Психотерапевтический нарциссизм – сродни нарциссизму артистическому.
Он проявляется, помимо всего прочего, в некритическом отношении к результатам терапевтического воздействия. Давно было замечено, в том. что касается результатов лечения сплошь и рядом имеют место несомненные искажения действительного положения дел. Известные интервью К. Обхольцер с "человеком-волком", поставившие под сомнение терапевтический успех фрейдовского анализа, показывают, что даже исключительно щепетильный Фрейд был склонен к серьезным преувеличениям в том, что касается его собственной терапевтической успешности (К. Obholzer, 1980). Профессиональная нарцистическая защита, бегство от нарцистических травм делают любого терапевта весьма близоруким в оценке собственных неудач, очень зорким при поиске положительных изменений в процессе терапии, а, кроме того, очень изобретательным в объяснении причин отсутствия успеха.
Помимо, так сказать, индивидуального нарциссизма мы можем говорить, естественно, и о нарциссизме школьном, который проявляется во всех известных феноменах школьного изоляционизма, агрессии по отношению ко всем остальным школам. В лингвотеоретическом плане "школьному" нарциссизму может соответствовать "школьный" же солипсизм. Этот солипсизм наиболее заметен в терминологической плоскости. Концептуальная терминология, принятая в рамках одного какого-нибудь направления, неизбежно формирует сознание тех, кто оказался включенным в это теоретическое пространство, в духе гипотезы лингвистической относительности Э. Сепира и Б. Уорфа, согласно которой, как известно, структура языка определяет структуру мышления и способ познания окружающего мира. Понятно, что терминологические системы, принятые в различных психотерапиях, делают невозможным, или по меньшей мере серьезно затрудняют коммуникацию в профессиональном сообществе. Создание языка, адекватно описывающего основные реалии психотерапевтической деятельности, – несомненно, одна из насущных проблем сегодняшнего дня, и наше исследование направлено не в последнюю очередь на решение этой задачи. Опасения, что перевод терминологии, закрепленной за конкретными терапиями, на "межконфессиональный" язык ущемит так или иначе нарцистические интересы школьных психотерапевтов, не должны здесь приниматься во внимание.
Но в общем и целом психотерапевт находится в несравненно более выгодном положении, чем описанный М. Мамардашвили с соавторами философ классической эпохи (см. выше). Если философ может заниматься только идеологическим конструированием, предоставляя другим действовать по сочиненным им рецептам, то психотерапевт не только теоретизирует, но и практикует, наглядно демонстрируя всем действенность изобретенных им теорий. Практическая легитимация теоретических положений в рамках психотерапевтической практики является делом относительно необременительным и при этом весьма наглядным. Нарцистическое подкрепление теоретической деятельности через терапевтические практики имеет здесь определенные преимущества. Авторы, сочиняющие свои концепции для сравнительно ограниченного клинического материала, тем не менее получают основания для утверждений, что и при увеличении масштабов экспериментирования до крупных социальных размеров исходная теория, доктринально расширенная, окажется столь же валидной, а практика – столь же действенной.
Как уже было сказано, многие терапевты стремятся к формированию некоего идеологического пространства для осуществления своего господства. Поскольку таких пространств уже много и большинство из их хозяев имеет выраженные экспансионистские склонности, на границах этих пространств постоянно имеют место стычки и столкновения. Крайне сложно, например, постигнуть значение полемики, ну, скажем, между Фрейдом и Адлером по поводу природы и значения влечений. Исследователей, как известно, занимал вопрос, какое из влечений является "первичным" и существенным – властное или половое, какое из них в большей степени задействовано в формировании патологических феноменов. На самом деле невозможно воспринимать этот спор как основательную научную полемику, направленную на уточнение верифицируемых фактов. Совершенно ясно, что речь здесь идет не о столкновении научных мнений, порожденных реальным опытом работы, а о борьбе за доминирование своего идеологического пространства над другим, за расширение его границ за чужой счет. В этих случаях все пытаются представить дело так, что, дескать, идеологическая территория, занимаемая иной школой, является как бы подчиненной территории собственной (в данном примере – властный инстинкт с точки зрения психоанализа вторичен по отношению к сексуальному, с точки зрения адлеровской психологии – наоборот). В других полемических ситуациях внутри психотерапевтического сообщества дело обстоит в большинстве случаев так же, хотя порой, конечно, нельзя полностью исключить совпадений положений той или иной концепции с действительным положением дел.
Весь опыт наблюдения за психотерапевтической жизнью говорит за то, что терапевта следует воспринимать как существо, движимое определенными желаниями, особенно же тогда, когда он сочиняет, а затем пытается повсеместно распространить сочиненные им методы, конструируя вокруг них собственную школу. Язык, которым пишутся психотерапевтические тексты, – это язык желаний, в первую очередь язык стремления к идеологическому доминированию, короче, язык воли к власти.
До сих пор, однако, проблема "страстей" терапевта рассматривалась только в контексте так называемого "контрпереноса", то есть когда речь шла о вожделении терапевтом/шей пациентки/та. Контрперенос рассматривался как симметричный ответ на перенос пациента, и все эти обстоятельства расценивались как решающие для результативности психоаналитического лечения. Кроме того, все это дело было записано в психоаналитических этических кодексах, понятно, в том смысле, что контрпереносным желаниям не следует потакать и давать им ход. В отдельных случаях на эти желания накладывались жесткие ограничения.
Однако действительное положение дел таково, что психотерапевтическая ситуация – как относящаяся непосредственно к терапевтической процедуре, так и определяющая жизнь психотерапевтического сообщества – не только предоставляет удобную возможность для удовлетворения "контрпереносных" влечений терапевта/ши, злоупотребляющих "переносными" чувствами пациентки/та. Она – что намного важнее – являет собой уникальную ситуацию для удовлетворения-реализации властных желаний терапевта. Ясно, что в поле действия этих интересов пациент неизбежно превращается в заложника школьного метода. В любом случае правда заключается в том, что психотерапевтический метод есть всегда предмет частного интереса терапевта.
С другой стороны, демонстративная сциентистская академичность многих психотерапий является неотъемлемой составной частью их "образа метода";. К этому их создателей вынуждает сама природа психотерапии, как терапии, смысл которой в ее действенности, каковая верифицируется и контролируется вовсе не методами, заимствованными из гуманитарных наук. При этом метапсихология множества психотерапии носит отчетливый антисциентистский характер. И глубинно-психологические методы, и экзистенциально-гуманистически ориентированные, не говоря уже о трансперсональных, последовательно противопоставляют свою идеологию позитивистски-экспериментальной парадигме. Ясно, однако, что при этом их существование может быть надежно легитимировано только в рамках именно этой парадигмы. Это одно из основных внутренних противоречий существования психотерапии вообще.
Таким образом, демонстративная позитивистская академичность должна внушать доверие и создавать впечатление надежности и экспериментально проверенной эффективности терапевтического товара. Сциентичность, так сказать, метода, без сомнения, в данном случае надо понимать как довод в борьбе за место на психотерапевтическом рынке и за влияние в профессиональном сообществе.
В сущности, жесткость школьных рамок обусловлена в значительной степени тем, что психотерапия является областью недостаточно легитимного знания. Это происходит в силу уже упоминавшихся причин – невозможности экспериментального контроля, трудностей в оценке эффективности, Экспериментальный контроль может осуществляться за методом в целом, но никак за элементами антропологической части школьной мета-психологии, каковые зачастую служат основным содержанием школьных дискурсов. Так, можно говорить, в частности, об эффективности психоаналитической терапии вообще, но никак не о влиянии на результативность того обстоятельства, что терапевт принадлежит к школе объектных отношений или к школе Ж. Лакана.
Другое своеобразное условие существования психотерапевтического знания – это его маргинальностъ. С одной стороны, мы имеем в виду ее "краевое" положение между гуманитарными и терапевтическими дисциплинами, о чем уже сказано. Другая маргиналия обусловлена постоянным соприкосновением с воззрениями и культовыми практиками экзотических религий – от аутогенной тренировки до трансперсональной психотерапии и распространившихся имитаций шаманских обрядов. Нуминозно-мифологические представления сохраняются в корпусе психотерапевтического знания и постоянно так или иначе дают о себе знать. В школьных метапсихологиях это проявляется постоянным тяготением к мифологизаторству, что особенно заметно, скажем, на примерах юнгианской аналитической или той же трансперсональной терапии. Получается, что психотерапия занимает отчетливо маргинальное положение по отношению к миру академической науки.
Что касается краевого положения психотехник, то здесь обращают на себя внимание самые разные методы воздействия – от гипноза до пневмокатарсиса. Кроме того, нельзя пройти мимо включения в групповые терапии репрессируемых обществом сексуально ориентированных, равно как и прочих асоциально-провокационных (раздевание, например) практик. Наконец, парадоксальные методы воздействия, такие, как терапевтическое сумасшествие, трикстерски-карнавальные провокации, тоже выглядят вызовом академически легитимированной практической деятельности. Все это усугубляется институциональной маргинальностью, исторически идущей от психоанализа. Эта "сектантская" форма существования направлений внутри науки дополняет картину своеобразия статуса психотерапии как рода деятельности. Совершенно ясно, что маргинальность и нелегитимностъ есть факторы, обусловливающие жесткость школь-ных рамок. На самом деле, если нет реальных критериев, которые обосновывали бы валидность школьных практик, функционирование школьной машины желания может быть обеспечено только укреплением границ влияния, иначе говоря, охранительно-институциональными мерами.
Справедливости ради надо, однако, сказать, что в нынешнее время агрессивно-полемическая напряженность между различными школами стала сходить на нет. Взвешенность объединяющего жеста справедливо представляются многим весьма привлекательными.
Итак, первый и важнейший вызов, на который нам хотелось бы дать ответ, может быть обозначен как вызов конца истории психотерапии. Сегодняшний день развития психотерапевтического дела характеризуется, на наш взгляд, сочетанием ощущения избыточности деятельности в области создания новых методов и – одновременно – ощущения исчерпанности возможностей для этой работы. Мнения относительно переизбытка психотерапий и как следствие этих мнений – интегративно-эклектические идеологии основаны, на наш взгляд, на непонимании коренной сущности взаимоотношений психотерапевта с его практикой, с методом, который он употребляет в дело. Правильное понимание этих отношений может быть основано только на признании метода, как уже сказано, предметом частного интереса психотерапевта. Безусловно, до тех пор, пока число психотерапий не превышает числа действующих психотерапевтов, задача создания новых методов будет оставаться насущной. Прекращение их производства как раз и будет означать действительный конец истории психотерапии.
Эклектически-синтетический проект действительно является реальной отметкой конца истории психотерапии. Этот проект, на наш взгляд, выглядит малоинтересным. Он в целом вписывается в получившую широкое распространение постмодернистскую идеологию, которая обосновывает возможность смешения различных стилей в рамках одного художественного творения. Коллажи из различных психотерапевтических приемов могут быть уподоблены текстам, состоящим из одних цитат. "Я понимаю под интертекстуальным диалогом феномен, при котором в данном тексте эхом отзываются предшествующие тексты", – пишет по этому поводу У. Эко (У. Эко, 1996, с. 60). Соглашаясь на сознательную замену порождаемого собственного текста цитированием других, автор – текста ли, психотерапевтического ли метода – идет на сознательный отказ от возможности реализации авторских желании. Размеры авторского влияния пропорциональны удельному объему собственного текста в общей массе текста.
Такая коллажная идеология не предполагает создания какой-либо собственной продукции, а занимается только перераспределением старой. Интертекст не порождает новых конфигураций. Если мы ограничимся подобными рамками, то в итоге нас ждет бесконечное перекладывание ингредиентов из одного салата в другой. Обращает на себя внимание и другой просчет эклектической идеологии: если для каждого из отдельных методов не найдено убедительных доказательств его относительной эффективности, то каким образом это можно сделать для эклектически-синтетических терапий – тем более непонятно. Но все же главный недостаток такого проекта в том, что эклектическое перемешивание готовых элементов снижает напряженность основного соблазна психотерапии, соблазна создать свой метод.
Исходя из всего этого, мы в нашем исследовании предполагаем радикальное изменение метанарратива психотерапевтического дискурса как такового. Как известно, под метанарративом (метадискурсом) Ж.-Ф. Лиотар (см.: Ж.-Ф. Лиотар, 1998) подразумевает некое положение, которое вообще делает возможным составление текстов в некоей, допустим, области знания. Так, в психотерапии все тексты основаны на положении, что терапевтический метод создается ради интересов пациента. Как ясно из всего вышеизложенного, такое понимание не может объяснить нам истории психотерапии ни в какой степени. Психотерапевтический метод создается как реализация желаний его автора очертить собственное идеологическое пространство, сформировать дискурсы, где была бы осуществлена запись его предпочтений, опыта и склонностей. Метод в психотерапии отражает интересы автора и формируется именно под эти интересы. Именно такой метанарратив, отражающий реальное положение дел, мы считаем подходящим именно для нашего исследования. Эта смена метанарратива позволяет нам исследовать психотерапию именно как практику реализации некоей власти, то есть в русле идей крута авторов от Ф.Ницше и А.Адлера до М.Фуко и Ж. Бодрийара.
Так, в духе известного исследования Ж. Бодрийара "О соблазне" мы считаем, что следует рассмотреть все структурные элементы школьной теории и техники с точки зрения их привлекательности для возможного пользователя того или иного школьного метода. Разумеется, именно состоявшийся соблазн выступает во многих случаях как превращенная форма осуществления власти. У Ж. Бодрийара мы читаем: "Всякая система, которая втягивается в тотальный сговор (complicite) с самой собой, так что знаки перестают иметь в ней какой-либо смысл, именно по этой причине оказывает замечательное по силе гипнотическое, завораживающее воздействие. Системы эти завораживают своим эзотеризмом, предохраняющим их от любых внешних логик. Завораживает резорбция всего реального тем. что самодостаточно и саморазрушительно. Это может быть все, что угодно: философская система или автоматический механизм, женщина или какой-то совершенно бесполезный предмет..." (Бодрийар, 1995, с. 54). Как уже ясно, мы исходим здесь из вполне обоснованного соображения, что психотерапевтическая школa есть целостное образование, предназначенное именно для соблазнения последователей и клиентов, и этому, очевидному положению мы будем следовать, разворачивая наш текст дальше.
Другой важнейший вызов, на который приходится давать достойный ответ, – отсутствие в психотерапии общих фундаментальных основ как единой науки. Ответ на этот вызов, как нам представляется, может быть дан через составление индекса элементов структуры школьного метода. Однако исследование структуры основных направлений в психотерапии, существующих на сегодняшний день, не должно быть самоцелью. Его задача заключается в том, чтобы наметить основные составные части как несущие конструкции возможных психотерапий.
В целом сочетание нового исследовательского метанарратива с основательным структурным анализом дает нам возможность осуществить деконструкцию психотерапевтического дискурса во всей его тотальности. При этом мы, разумеется, не забываем ни на минуту, что психотерапия является на самом деле высокоэффективным видом помощи. В конечном итоге наш проект направлен на то, чтобы она утвердилась именно в этом своем качестве, очистившись при этом от множества необязательных привнесений.
Вопреки повсеместно господствующей озабоченности переизбытком школ, нас преследует совсем другая, "мальтузианская" настороженность, что, возможно, запас новых возможных конфигураций школьных теорий и техник исчерпан. Определенная часть нашего текста предполагает проектирование новых "превращенных форм" различных структурных элементов структуры школьного метода, равно как и возможных методов в целом. Несмотря на некоторую утопичность такого подхода, мы полагаем такое проектирование необходимым, ибо так мы можем пробудить желание читателя двигаться в верном направлении, а именно в том, которое указано в титуле нашей книги.
Новые методы могут строиться и по новым правилам, нами не предусмотренным. По этому поводу Ж.-Ф. Лиотар высказывается так: "Постмодернистский художник или писатель находится в ситуации философа: текст, который он пишет, творение, которое он создает, в принципе не управляются никакими предустановленными правилами и о них невозможно судить посредством определяющего суждения, путем приложения к этому тексту или этому творению каких-то уже известных категорий. Эти правила и эти категории есть то, поиском чего и заняты творение или текст, о которых мы говорим (Ж.-Ф.Лиотар, 1994, с. 322). Современный психотерапевт находится, в сущности, в такой же ситуации и занят поисками рамок, которые позволили бы ему осуществлять свои интенции.
Итак, история психотерапии сформирована совершенно особым отношением терапевта к своему рабочему инструменту. Влекомая своей сущностью, психотерапия двигается в самых разных направлениях. Задача ответственного исследователя заключается не просто в том, чтобы отследить эти направления, но и, по возможности, в том чтобы придать им определенный импульс. Причем будет лучше всего, если желаниям психотерапевтов будет дан этот импульс не только в одном каком-то направлении, а сразу во многих, что мы и попытаемся сделать.
<<< О
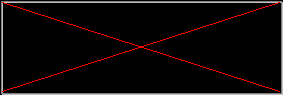
ГЛАВЛЕHИЕ >
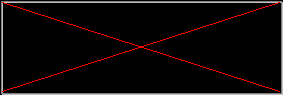
>>

ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
В ПСИХОТЕРАПИИ
Несомненно, каждый, кто ориентируется в литературе, посвященной общим вопросам психотерапии, сталкивался с текстами, в которых перечисляются и обосновываются профессиональные требования, предъявляемые психотерапевту. Соблюдение требований нормативного порядка в психотерапии имеет особый смысл. Ведь речь идет, в частности, о том, чтобы хоть как-то обуздать интенсивность желания психотерапевтов реализовывать свою власть над клиентом, легитимированную рамками терапевтической необходимости.
С одной стороны, речь идет о том, что составляет компетентность терапевта, то есть о вполне естественных требованиях к надежности владения психотерапевтическим инструментарием – техниками, приемами, теорией. Бюрократически эта компетентность удостоверяется соответствующими сертификатами, дипломами и свидетельствами.
Во многих случаях набор образовательных требований этим не ограничивается. Порой к спектру терапевтической компетентности присовокупляется целый ряд гуманитарных знаний. Так, психоаналитическое образование, как известно, по замыслу Фрейда, должно было включать в себя, помимо психиатрии и психологии, такие дисциплины, как история цивилизации, мифология, психология религий, история и литературная критика. Наличие такого рода образовательных требований, на наш взгляд, как ничто другое, обнаруживает известную тенденцию в развитии психотерапии, а именно – стремление являть собой феномен культуры, не в меньшей степени, чем терапевтическую практику. Кто бы что ни говорил, намного легче обнаружить в психотерапевтическом сообществе именно такую интенцию, нежели стремление быть только действенной терапевтической практикой. Понятно, что никакими мыслимыми средствами нельзя обосновать то, что обучение психологии религий или истории цивилизации способно оказать влияние на результативность терапевтических усилий. Это ясно тем более, что есть методы, которые обходятся без всего этого.
Другой блок требований охватывает морально-этическую сферу. Это касается в основном правил, трактующих особенности взаимоотношений терапевта и клиента в вопросах уплаты гонорара, сохранения врачебной тайны и недопустимости нетерапевтических отношении, в первую очередь сексуальных. Это само по себе примечательное обстоятельство опять-таки подчеркивает особое положение урода-психотерапии в достойной семье терапевтических практик. Ни в какой хирургии или гематологии опасность возникновения нетерапевтических взаимоотношений не связана с коренной сущностью процедуры. Опыт, однако, показывает, что именно здесь запреты оказываются наименее действенными. Совершенно ясно, что слишком велико искушение терапевта закрепить свою иллюзию влияния на клиента такими зримыми доказательствами, как сексуальное доминирование.
Нетрудно заметить, что в текстах, затрагивающих так или иначе этическую проблематику в психотерапии, нам до сих пор не приходилось встречать вполне естественного, почти само собой разумеющегося требования, а именно – не сочинять нового метода без серьезной проверки на эффективность и, соответственно, не пытаться создать вокруг него новую школу. Разумеется, речь здесь может идти только о сравнении с эффективностью других методов, а не о простой результативности ("лучше, чем ничто"). Отсутствие такого рода требований может объясняться, безусловно, крайней степенью их неприемлемости для психотерапевтов. Лишать их возможности формировать пространство, в котором осуществлялись бы их нарцистические желания, – это значило бы поставить под вопрос существование психотерапии как специфической практики.
Большинство современных авторов считает, и не без оснований, надо сказать, что оптимальная терапевтическая подготовка предполагает наличие у терапевта собственного пациентского опыта, естественного, так сказать (это если повезет и до того, как стать терапевтом, удастся побыть "настоящим" пациентом), или же искусственного, то есть полученного в результате учебного анализа или тренинга. Предполагается, что такого рода опыт помогает основательно понять суть страданий и правильно отнестись к переживаниям пациента, ну и основательно приобщиться к тайнам использования метода. Это, конечно, тоже имеет явное отношение к тому, чтобы как-то окоротить уже неоднократно обсуждавшиеся желания терапевта.
Все, кто внимательно следит за психотерапевтической жизнью. обращали внимание на одно, всем известное, обстоятельство, а именно что сплошь и рядом серьезный успех имеют терапевты. которые так или иначе не вписываются в общепринятые представления о профессиональной компетентности. В других случаях мы наблюдаем за деятельностью вполне, казалось бы, профессионально адекватной, но понимаем, что эта адекватность не имеет никакого отношения к исключительному терапевтическому успеху и дело здесь в чем-то другом.
Чаще всего в таких случаях заводится туманная речь о так называемом "воздействии личности" психотерапевта. Когда же мы ставим перед собой вопрос о специфике этого воздействия, его параметрах, то получается, что вразумительный ответ получить здесь довольно сложно. Мы, однако, попытаемся приблизиться к пониманию этой проблемы, и очень важно здесь вспомнить обучении Макса Вебера о харизматическом типе господства в обществе.
М.Вебер, как известно, выделял три типа общественного господства:
Легитимный тип, присущий европейским буржуазным демократиям. В его основе лежит подчинение не определенной личности, но законам, обеспечивающим поддержание порядка и преемственность власти.
- Традиционный тип господства, присущий, например, феодальным средневековым государствам и основанный на вере не столько в силу закона, сколько в священность существующих с давних пор традиций власти и управления.
- Харизматический тип, основанный на слепой вере в экстраординарные способности лидера сообщества, на безусловной преданности его воле. Этот тип присущ чаще всего тоталитарным государствам. (М. Weber, 1966, см. также: П.П. Гайденко, Ю.Н. Давыдов, 1991).
Сам термин "харизма" заимствован социологами из религиозного обихода. Изначально так назывались дары Святого Духа. излитые им на апостолов. В более широком смысле харизма – это благодать, божественная сила, ниспосланная человеку для преодоления греховности и достижения спасения. Однако М. Вебер, исследуя феномен харизмы в контексте общественной жизни, придал ему несколько другое значение.
Харизматический лидер обладает, по М. Веберу, особыми дарованиями, пророческими, в частности, способностями, исключительными волевыми качествами. Среди известных истории харизматических персонажей есть основатели мировых религий – Будда, Моисей и Христос. К ним относятся создатели направлений внутри мировых религий – Лютер и Кальвин, например. С другой стороны, это великие государственные и военные деятели, такие, как Чингисхан или Наполеон. В XX веке среди крупных харизматических персонажей – Гитлер и Муссолини, Ленин и Троцкий, однако также Ганди и Мартин Лютер Кинг. Дело обстоит таким образом, что свойство харизмы относительно безразлично к роду деятельности и морально-этическому содержанию этой деятельности: это с равным успехом может быть и признаваемый святым пророк, и человек, ответственный за массовые военные преступления.
