Институциональные основы государственной собственности в системе национальной экономики в посткризисный период 08. 00. 01 Экономическая теория
| Вид материала | Диссертация |
СодержаниеГруппы стран Источник: составлено по: А. Илларионов. ЕХР – удельный вес государственных расходов в ВВП; LnGDP LnPOP – логарифм среднегодовых значений численности населения; ε – остатки; t |
- Планы семинарских занятий по курсу «Экономическая теория раздел «основные закономерности, 766.99kb.
- Институциональные условия развития национальной инновационной системы 08. 00. 01 Экономическая, 817.16kb.
- Костева М. В. Научный ст преп. Киселев, 106.52kb.
- Институционально-экономические основы развития некоммерческого сектора, 581.26kb.
- Экономическая теория 06. 02 11: 30 Введение. Макроэкономика, 828.7kb.
- Старший преподаватель кафедры «Экономическая теория» рэа им., 113.81kb.
- Программа дисциплины: Экономическая теория: Микроэкономика 2 Специальность, 338.59kb.
- Программа вступительного экзамена по дисциплине «Экономическая теория» для поступающих, 405.04kb.
- Темы контрольных работ для специальности «правоведение» по дисциплине «экономическая, 23.79kb.
- Анализ эффективности приватизационных процессов государственной собственности в иркутской, 291.86kb.
В экономической теории значительным продвижением была попытка выделить тот элемент, ту единицу, которая «обладает устойчивостью во времени, передается от одних экономических объектов другим и вместе с тем способна к изменению». В качестве такой единицы в эволюционной экономической теории со времен Т. Веблена стал рассматриваться институт.
Эволюция социального организма (как и любого другого организма) всегда связана с адаптацией, приспособлением к изменяющимся условиям окружающей среды. В ходе конкуренции побеждают, закрепляются и передаются следующим поколениям те институты, которые доказали свою целесообразность и эффективность с точки зрения развития общества в целом.
В случае организации предпринимательской деятельности институты превращаются в средство обеспечения долгосрочных контрактов в условиях неопределенности и повышенных рисков хозяйственной деятельности. Институты непосредственно связаны с формальными и неформальными правилами. Если формальные правила создаются централизованно, осознанно государством, поэтому обеспечиваются легальной и специализированной защитой со стороны государства, то неформальные также ограничивают поведение участников обмена, но не зафиксированы в правовых нормах) и не защищены другими механизмами. Неформальные правила как механизм стабилизации обмена в условиях неопределенности создаются самими предпринимателями для обеспечения хозяйственной деятельности в условиях институционального вакуума. Они становится нормой в условиях, когда вновь возникшие формальные правила либо не «работают», либо их попросту нет.
Обобщая все это, можно утверждать, что два принципа – регулирования и саморегулирования – сменяя друг друга, дополняя друг друга, лежат в основе механизма самоорганизации предпринимательской деятельности в любой национальной хозяйственной системе, проявляясь во взаимодействии формальных и неформальных институтов, взаимодополняющих друг друга, а при неэффективности одного из них, и успешно замещающих одно другим. Кажущаяся простота на самом деле превращается в серьезную проблему выбора между государственным регулированием и рыночным саморегулированием, фундаментальную экономическую ловушку развития – в ситуацию парадокса так называемого «нового экономического развития». Экономическая теория последних лет столкнулась с фактом неизбежных провалов государства при правительственном вмешательстве в экономику («government failures»), которые снижают эффективность в не меньшей степени, чем провозглашенные чуть раньше провалы рынка («market failures»).
Это доказывает и динамика показателей социально-экономического развития стран мира за последние 100 лет. Так, более высокие темпы экономического роста наблюдались в странах, проводивших более либеральную экономическую политику и имевших более низкие показатели вмешательства государства в процессе перераспределения ВВП. А самыми низкими темпами экономического роста отличались страны с наиболее высокой государственной фискальной нагрузкой на экономику, т.е. более активно регулирующего предпринимательскую деятельность в стране (см. таблицу 1).
Так, среднегодовые показатели экономического роста в группе из 8 стран с централизованной плановой экономикой (ЦПЭ) (1,18%) оказались заметно ниже, чем в среднем по 42 странам с рыночной экономикой (1,94%), и по сравнению со средними показателями по всей выборке из 50 стран (1,82%), и даже чем в среднем во всем мире (1,56%). Более того, ни одна из стран с ЦПЭ в течение XX в. не имела среднегодовых темпов экономического роста, превышавших среднюю величину по всей выборке из 50 стран (1,82%). Несмотря на увеличение абсолютного показателя ВВП на душу населения в группе стран с ЦПЭ почти в 2,9 раза (с 1568 до 4541 долл.) ее относительные позиции заметно ухудшились. По отношению к среднемировому уровню показатель этой группы опустился с 94,5 до 73,6%, к среднему показателю выборки из 50 стран – с 66,5 до 36,9%, к среднему уровню группы стран с рыночной экономикой – с 62,5 до 32,9%.
Сгруппированные по типам экономической политики страны продемонстрировали отчетливую отрицательную связь между экономическими показателями и динамикой государственных финансов (государственных расходов и бюджетным дефицитом), нормированными по величине уровня экономического (отношение ВВП на душу населения соответствующей страны к среднемировому показателю).
Таблица 1
Экономический рост в странах с различными экономическими системами
в 1913–1998 гг.
| Группы стран | ВВП на душу населения | |||||||
| | в долл. в ценах 1993 г. | в % к среднему по выборке из 50 стран | в % к среднемировому уровню | абсолютный рост, раз | среднегодовые темпы прироста, % | |||
| | 1913 г. | 1998 г. | 1913 г. | 1998 г. | 1913 г. | 1998 г. | 1913–1998 гг. | 1913–1998 гг. |
| В среднем по выборке из 50 стран | 2359 | 12322 | 100,0 | 100,0 | 142,1 | 199,9 | 5,44 | 1,82 |
| В среднем по 42 странам с рыночной экономикой | 2509 | 13805 | 106,4 | 112,0 | 151,1 | 223,9 | 5,93 | 1,94 |
| В среднем по 8 странам с централизованно планируемой экономикой | 1568 | 4541 | 66,5 | 36,9 | 94,5 | 73,6 | 2,89 | 1,18 |
| В среднем в мире | 1660 | 6166 | 70,4 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 3,71 | 1,56 |
Источник: составлено по: А. Илларионов. Как Россия проиграла ХХ век? / Вопросы экономики. 2000. № 1.
Кривую, образованную линией тренда, описывающего связь между уровнем государственных расходов в ВВП и темпами экономического роста, можно назвать кривой экономического роста в XX в. Распределим различные типы экономической системы по группам в порядке убывания среднегодовых темпов экономического роста, тогда получится пять своеобразных «ступеней» на «лестнице» экономического роста. Две верхние позиции (с темпами роста свыше 2,5% и от 2,0 до 2,5% в год) занимают исключительно страны с рыночной экономикой. Следовательно, для того чтобы добиться максимальных темпов экономического роста, необходимо в условиях рыночной экономической системы, иметь низкие параметры государственной государственного регулирования экономики. При этом страны с ЦПЭ отличаются более высокими уровнями фискальной нагрузки и более низкими темпами экономического роста, чем их рыночные «аналоги».
Возникла ловушка дилеммы, при которой обе «великие альтернативы» – «laissez-faire» как идеология невмешательства государства в экономику, и социализм как идеология вмешательства государства в экономику столкнулись со структурными кризисом, который поставил в центр всех проблем противоречия с институтом государства в их основании.
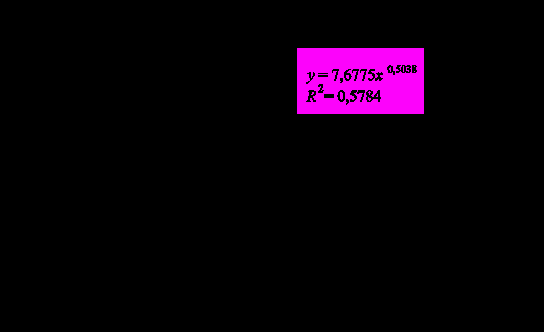
Рис. 1. Взаимозависимость расходов государства и экономического роста
Если оценивать эффективность государства как центрального элемента экономической системы, то ее необходимо связать с уровнем экономического развития (R2 = 0,416). По нашим расчетам наиболее значимой оказалась зависимость между фискальными факторами и макроэкономическим ростом по параметру ВВП на душу населения (логарифм ВВП на душу населения по паритету покупательной способности), что соответствует закону Вагнера. В результате была подобрана регрессионная модель удельного веса государственных расходов в ВВП, характеристики которой ухудшаются:
 (1)
(1)(–0,141) (8,097) (–3,527)
где ЕХР – удельный вес государственных расходов в ВВП;
LnGDPpc – логарифм среднегодовых значений ВВП на душу населения по паритетам покупательной способности в ценах 1993 г.;
LnPOP – логарифм среднегодовых значений численности населения;
ε – остатки;
t-статистика – в скобках.
Модель оказалась статистически значимой на 99-процентном доверительном интервале. Коэффициент детерминации R2 = 0,47. Стандартная ошибка оценки – 8,33. Таким образом, можно утверждать, что примерно 47% динамики удельного веса государственных расходов в ВВП объясняется изменчивостью двух факторов – уровня экономического развития и численности населения.
Эта тенденция зафиксирована на рис. 2, где показано, что увеличение относительных размеров вмешательства государства в перераспределения ВВП в России приводит к снижению темпов экономического роста.
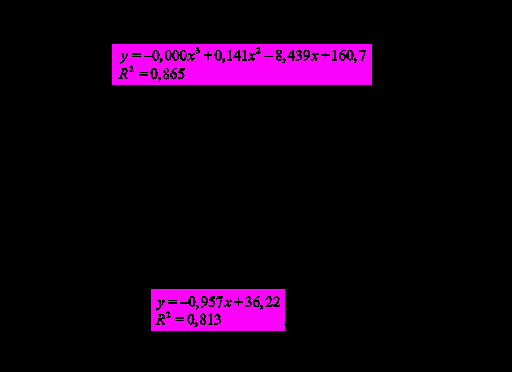
Рис. 2. Динамика зависимости государственных расходов и экономического роста
в России в 1992–2008 гг.
Масштабы государственной собственности, необходимые для производства общественных благ, соответствующих индивидуальным уровням предельной выгоды (предельных норм замещения), в идеальных условиях мог бы служить ориентиром при распределении налогового бремени. Однако выявление индивидуальной предельной полезности блага на практике трудноосуществимо, что приводит к трудности оценки спроса на общественные товары и услуги. Принятие решений о предоставлении общественных благ, а следовательно, и масштабах функционирования государственной собственности, подвержено значительному влиянию политических сил, бюрократии и других лоббистских интересов30.
Выраженная в обобщенном виде функция государственного сектора, базирующегося на государственной собственности, состоит в производстве общественных благ и услуг. В мировой практике при отнесении материальных и нематериальных благ к общественным благам, за предоставление которых в большинстве стран несет ответственность государство, и которые ограничивают функции государственной собственности принято руководствоваться следующими критериями31:
• невозможность исключения кого-либо из процесса потребления блага (оборона, система правовой защиты, формирование, законодательная база, регулирующая экономическое и социальное развитие, охрана порядка и окружающей среды, коммуникации и т. д.);
• высокая или критическая степень зависимости эффективности деятельности всех субъектов хозяйствования от производства того или иного блага (энергетика, фундаментальная наука, образование и др.);
• особая значимость для социально-экономического прогресса обязательного потребления данного блага всем населением и обусловливаемая ею необходимость обеспечения равного доступа к его потреблению (культура, здравоохранение, образование и др.);
• особая значимость блага для обеспечения социальной стабильности общества, социального равновесия, социальной безопасности (государственная защита малообеспеченных слоев населения, поддержка малого предпринимательства);
• продукция и услуги естественных монополий, производство которых нуждается в жестком государственном регулировании.
Итак, предложение государством общественных благ и услуг охватывает широкую сферу макроэкономического вмешательства, направленного на компенсацию или выправление недостатков функционирования (провалов) самого рыночного механизма.
Основным мотивом для производства определенных благ в государственном секторе и обеспечения его необходимыми ресурсами является общественный характер этих благ. Это значит, что их производство и потребление выполняет общенациональные задачи, выходящие за рамки целей частных капиталов, стремящихся к максимизации прибыли. Реализация этих целей предполагает необходимость достижения определенного компромисса между решением проблем экономической и социальной эффективности, обеспечивающего, в конечном счете, социально-экономический прогресс.
Можно выделить несколько важнейших факторов неэффективности государственной собственности в контексте структуры соответствующих пучков правомочий и поведенческого последствия.
1. Главный фактор неэффективности государственной собственности кроется в неспособности совладельца государственной собственности продать или передать свою долю участия в ней. В результате не происходит объективного процесса переструктуризации правомочий собственности между государством и частным бизнесом.
2. Не менее важно отсутствие тесной корреляции между поведением индивидуальных совладельцев государственной собственности и результатами ее использования: «При государственной собственности издержки любого решения или выбора в меньшей степени ложатся на избирателя, чем на владельца в условиях частной собственности»32. Члены общества, следовательно, слабее заинтересованы в контроле за результатами использования государственной собственности.
3. В связи с этим у них меньше стимулов контролировать поведение наемных управляющих (бюрократов), которым делегированы права пользования. Вследствие менее эффективного, чем в частных формах, контроля за поведением управляющих у тех появляется больше возможностей злоупотреблять своим положением в личных интересах.
4. Кроме того, неэффективность государственной собственности обусловлена тем, что «коллективный интерес» сложнее определить и измерить, чем частный: «...бюрократ имеет больше стимулов производить то, в чем, как он думает, нуждается общество, и меньше стимулов производить то, на что общество предъявляет спрос.»33.
Некоторые из этих затруднений не являются специфическими для государственной собственности и в равной мере характерны для любых форм объединения прав нескольких собственников в единый пучок правомочий (партнерства, корпоративная собственность). При этом во всех упомянутых случаях можно заменить государственного служащего на «управляющего корпорацией» без особого ущерба для смысла. Следовательно, неэффективность системы государственной собственности обусловлена не тем, что она вообще порождает подобные явления, а в том, что на ее основе не возникает достаточно разветвленных обратных связей и эффективных компенсаторных механизмов, способных им противодействовать.
Вместе с тем, богатый фактический материал по сопоставлениям предприятий, находящихся в собственности государства и частных лиц, свидетельствует о том, что государственные предприятия при прочих равных условиях устанавливает более низкие цены на свою продукцию; имеют большие мощности; больше средств тратят на строительство зданий и помещений; используют более капиталоемкие технологии; имеют более высокие операционные издержки; реже пересматривают цены, слабее реагируют на изменения в спросе; производят менее разнообразную продукцию; медленнее осваивают новую технику; имеют более продолжительные сроки службы высших управляющих34.
Таким образом, эффективность модели государственной собственности максимизируется лишь в результате длительного пошагового согласования интересов между обществом и государством, с одной стороны, и федерацией, территориальными сообществами и местным населением, с другой. Именно поэтому столь различны механизмы реализации соотношения централизация-децентрализация в бюджетных системах различной национальности. В своей основе они имеют теоретический парадокс, который назван в теории общественных (государственных) финансов «дилеммой треугольника». Он заключается в следующем. Будем исходить из того, что государство (и, естественно, его собственность) нацелены на осуществление трех основных функций:
- Эффективное размещение (аллокация) ресурсов. Государство может ограничивать производство отдельных товаров, потребление которых сопряжено с негативными последствиями, или, напротив, стимулировать производство товаров, обладающих особыми достоинствами. С помощью государственных финансов осуществляется размещение ресурсов для производства большей части общественных благ.
- Перераспределение доходов между индивидами для достижения социальной справедливости в обществе. Механизмом такого перераспределения служат налоговая и бюджетная система. Например, собирая налоги с работающих, государство выплачивает пенсии и пособия нетрудоспособным и безработным.
- Стабилизация экономики и финансовой системы. Налоговая и бюджетная политика могут существенно влиять на состояние экономики, способствовать поддержанию равновесия вокруг заданных макроэкономических показателей, сглаживать циклические колебания и содействовать высокой степени занятости человеческих ресурсов, устойчивому экономическому росту и снижению инфляции.
Таблица 2
«Дилемма треугольника» и эффективность государственной собственности
| Цели | Результаты |
| • Обеспечение макроэкономической стабильности путем сокращения горизонтального неравенства • Повышение социальной справедливости путем сокращения горизонтального неравенства | Обеих целей можно достичь за счет усиления централизации налоговой базы. Однако централизация налоговой базы приведет к снижению доходной автономии территорий и не позволит обеспечить аллокативную эффективность |
| • Усиление доходной автономии местных бюджетов (как способ обеспечения аллокативной эффективности) • Макроэкономическая стабильность, достигаемая путем сокращения вертикального дисбаланса бюджетной системы | Усиление горизонтального неравенства, усиление социальной несправедливости |
| • Усиление доходной автономии местных бюджетов • Усиление социальной справедливости | Снижение макроэкономической стабильности |
Источник: Масгрейв Р.А., Масгрейв П.Б. Государственные финансы: теория и практика / Пер. с англ. – М.: Бизнес Атлас, 2009. С. 65.
Сама природа этих функций государства и государственной собственности содержит противоречие между достижением экономической эффективности, социальной справедливости и макроэкономической стабильности. Сочетать эти цели непросто, так как они частично противоречат друг другу, что и содержится в парадоксе «дилеммы треугольника» (см. табл. 2). При попытке совместить социальную справедливость с обеспечением макроэкономической стабильности за счет сокращения горизонтального неравенства перед центральным уровнем власти встает серьезная дилемма. Единственный способ решить обе эти задачи одновременно – усилить централизацию налоговой базы, однако централизация налоговой базы приводит к снижению доходной автономии территорий, что в свою очередь противоречит самой сути бюджетной децентрализации, поскольку большая эффективность децентрализованных систем возможна только при усилении доходной автономии на местах. Точно так же совмещение целей экономической эффективности и макроэкономической стабильности за счет снижения вертикальных дисбалансов может быть достигнуто только путем усиления горизонтального неравенства и, следовательно, усиления социальной несправедливости.
Другими словами, потенциальная неэффективность государственной собственности предопределила внедрение финансовой модели обеспечения деятельности государства. В этом контексте функции государства, которые выгоды всем экономическим агентам, поскольку они понижают трансакционные издержки их функционирования, оплачивало само общество за счет перераспределения части валовой добавленной стоимости. Это обмен носил изначально неэквивалентный обмен в связи с тем, что экономические агенты получали взамен своего налогового вклада в бюджет государства произведенные им общественные блага и услуги не по принципу равнозначности денежного вклада, а по принципу нуждаемости (старики и дети, в первую очередь, а трудоспособное население – по мере насущной необходимости).
А, между тем, не следует забывать, что существует другая альтернативная модель финансирования функций государства – за счет наделения его активами в собственность и их производительного использования (подобно современным акционерным обществам). Однако она была в полной мере использована, пожалуй, в основном в бывших социалистических странах и дала в конечном итоге негативный результат. Поэтому вплоть до кризиса 2008-2009 гг. в научном мире было однозначно признано неэффективным использование модели обеспечения деятельности государства за счет наделения его правомочиями собственности на активы и получения им предпринимательского дохода.
В результате превалирования модели финансирования деятельности государства не за счет доходов от государственной собственности, а за счет перераспределения ВВП посредством государственных финансов в доходах государства превалировали налоговые поступления, а неналоговые, получаемыми за счет доходов от государственной собственности и от внешнеэкономической деятельности, уступали им в 8–9 раз.
Таким образом, теоретически и эмпирически было доказано, почему за небольшим исключением практически во всех странах мира превалировала модель финансирования функций государства в экономических системах за счет национального дохода общества. Что же касается альтернативной модели обеспечения деятельности государства – за счет передачи ему его в собственность материальных и финансовых активов, то она была единодушно признана неэффективной в силу целого ряда причин. Главной из них признавалась неспособность государства в качестве предпринимателя решить «дилемму треугольника», не будучи наделенным предпринимательской функцией, т.е. не имея в качестве целевой функции – максимизацию прибыли или доли рынка или рыночной цены компании.
Только в 2009 г. в этой области экономической теории был сделан прорыв, который ознаменовался присуждением Нобелевской премии за разработки американского ученого Э. Остром, впервые поставившая под вопрос неэффективность государственной собственности и разработавшая подходы к формированию альтернативных вариантов структурирования государственной (коллективной) собственности35.
В третьей главе – «
