В. П. Кохановский Кохановский В. П., Лешкевнч Т. Г., Матяш Т. П., Фатхи Т. Б. К 55 Основы философии науки: Учебное пособие
| Вид материала | Учебное пособие |
СодержаниеГлава VI. Научные традиции и научные революции... I 406 Основы философии науки Укрепление парадигмы Укрепление и все более широкое применение идеи (принципа) коэволюции |
- Философия для аспирантов. Кохановский В. П., Золотухина Е. В., Лешкевич Т. Г., Фатхи, 5248.44kb.
- Www i-u. Ru, 5094.81kb.
- В. П. Кохановский философия и методология науки учебник, 7852.02kb.
- Учебное пособие Житомир 2001 удк 33: 007. Основы экономической кибернетики. Учебное, 3745.06kb.
- Учебное пособие Санкт-Петербург 2011 удк 1(075., 3433.28kb.
- Учебное пособие подготовлено на кафедре философии Томского политехнического университета, 1526.78kb.
- Л. Е. Бляхер учебное пособие «История и философия науки» для подготовки к сдаче кандидатского, 2099.61kb.
- Учебное пособие Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования, 4872.28kb.
- Учебное пособие Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования, 4790.13kb.
- Вопросы к экзамену по истории и философии науки для магистрантов Определение понятия, 17.61kb.
Глава VI. Научные традиции и научные революции...
объекты и др. Для изучения этих очень сложных систем, как и вообще любых объектов естествознания, требуется построение идеальных моделей с огромным числом параметров и переменных. Выполнить эту работу ученый уже не может без компьютерной помощи. Допустим, объектом научного исследования является биосфера — сложный природный комплекс, включающий человека с его производственной деятельностью. Эта деятельность, бесспорно, влияет на состояние биосферы, вызывая изменения в популяциях, биоценозах. Чтобы изучить характер этих изменений, надо задействовать параметры, связанные с физико-химическим состоянием рек, озер, морей, океанов, лесов, полей, пустынь, вечных ледников, гор, атмосферы и т.д. Очевидно, что речь идет о таком огромном числе параметров и переменных, увязать которые в целостность невозможно без использования компьютерных программ и проведения специального математического эксперимента на ЭВМ.
В -пятых, при изучении такого рода сложных систем, включающих человека с его преобразовательной производственной деятельностью, идеал ценностно-нейтрального исследования оказывается неприемлемым. Объективно истинное объяснение и описание такого рода систем предполагает включение оценок общественно-социального, этического характера. Например, исследования последствий влияния производственной деятельности человека на биосферу предполагают проведение социальной экспертизы с целью выявления вредных, а часто катастрофических, последствий этого влияния и установления ограничений и даже запретов на некоторые виды человеческой производственной деятельности. В постнеклассическом типе рациональности учитывается, как считает современный философ науки B.C. Степин, «соотнесенность характеристик получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств и операций деятельности, но и с ее ценностно-целевыми структурами. Причем эксплицируется связь внутринаучных целей с вненаучными, социальными ценностями и целями»1.
-пятых, при изучении такого рода сложных систем, включающих человека с его преобразовательной производственной деятельностью, идеал ценностно-нейтрального исследования оказывается неприемлемым. Объективно истинное объяснение и описание такого рода систем предполагает включение оценок общественно-социального, этического характера. Например, исследования последствий влияния производственной деятельности человека на биосферу предполагают проведение социальной экспертизы с целью выявления вредных, а часто катастрофических, последствий этого влияния и установления ограничений и даже запретов на некоторые виды человеческой производственной деятельности. В постнеклассическом типе рациональности учитывается, как считает современный философ науки B.C. Степин, «соотнесенность характеристик получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств и операций деятельности, но и с ее ценностно-целевыми структурами. Причем эксплицируется связь внутринаучных целей с вненаучными, социальными ценностями и целями»1.
А это значит, что рациональное познание не имеет безусловного приоритета перед дорациональными и внерациональными познавательными формами.
Особо важным моментом четвертой научной революции было оформление в последние 10—15 лет XX в. космологии как научной дисциплины, предметом изучения которой стала Вселенная в целом. Философы науки выделяют две революции в космологии XX в. Не рассматривая их подробно, отметим только некоторые научные и эпистемологические последствия этих революций (при этом воспользуемся исследованием, проведенным А. Н. Павленко1).
Первая революция в научной космологии датируется началом XX в. До этого времени господствовала ньютоновская космологическая парадигма, согласно которой Вселенная в целом не может эволюционировать, она неподвижна. Теорию эволюции Вселенной в целом предложил русский математик А. А. Фридман. Эта теория признавала качественное изменение характеристик Вселенной во времени. Теория эволюции Вселенной необходимо привела к постановке вопросов о начале эволюции (рождении) и ее конце (смерти). Но рождение и смерть Вселенной как грандиозные космические процессы происходят без «свидетелей». В момент ее рождения (Вселенная рождается только один раз) человека-наблюдателя еще нет, в момент ее смерти человека-наблюдателя уже-нет. Следовательно, рождение и смерть Вселенной — принципиально ненаблюдаемые факты. Эволюционирующую Вселенную в ' целом никто и никогда не наблюдал и не сможет наблюдать. Следовательно, эволюционная теория Фридмана есть теория о том, что принципиально ненаблюдаемо. Но принципиально ненаблюдаемое является по определению трансцендентным, а потому относящимся к сфере метафизики, в которой главным способом познания является чистое умозрение, зрение умом (ср. с умозрением античных философов Платона и Плотина, например). Теория эволюции Вселенной в целом способствовала появлению в пост-неклассическом типе рациональности элементов античной рациональности. Рассмотрим некоторые из этих элементов. 1. Обращение к чистому умозрению при разработке теории развития Вселенной напоминает в своих существенных чертах античный тип рациональности. Более того, понятие «Вселенная в целом» родственно античному понятию Космос (правда, без прилагательного «Божественный»). Следует отметить, что в традиционной космологии от Канта — Гершеля — Лапласа до Шмидта отсутствовало понятие «Вселенная в целом», так как не ясно было, что есть это целое. Поэтому часто Вселенную отождествляли с Галактикой. С появлением эволюционной теории Фридмана такие понятия классической науки, как теория, эксперимент (опыт), научное знание и др., начинают приобретать иной смысл: теория становится «чистой», не опосредованной экспериментом, который по отношению к Вселенной в целом в принципе невозможен. Научное знание приобретает черты метафизического, т. е. становится знанием, получаемым только с помощью ума, хотя в отличие от античности, ум в космологической науке является только умом человека и не связан с Логосом. Метафизическая теория не может быть подтверждена опытом даже опосредованно, а потому все виды аргументации носят внутритеоретический характер.
Еще в начале XX в. А. Эйнштейн предугадал нарастание тенденции такого рода аргументации для тех случаев, когда основные понятия и аксиомы теорий конструируются по отношению к принципиально ненаблюдаемым фактам. Тот факт, что космология практически отрешилась от ньютоновского девиза «физика, бойся метафизики!», был негативно воспринят многими современными философами науки. Так, Ст. Тулмин называл космологию «естественной религией». Космология Фридмана открыла, феномен «умозрительной науки», которая «эмпирически не защищена» (А. Эйнштейн). Этот феномен, как было показано ранее, существовал в античности.
2.0 том, что фридмановская космология способствовала востребованности типа рациональности, близкого античному, свидетельствует и тот факт, что в ней впервые со времен греческой философии и протонауки был поставлен вопрос: «Почему Вселенная устроена именно так, а не иначе?» Например, почему пространство трехмерно, а время одномерно и т. д. В традиционной космологии вопрос формулировался иначе: «Как устроена Вселенная?» Вопрос «почему» в отношении метафизических объектов, каковым является Вселенная в целом, есть вопрос о причинах и первопричинах, поставленных еще античным философом Аристотелем.
объекты и др. Для изучения этих очень сложных систем, как и вообще любых объектов естествознания, требуется построение идеальных моделей с огромным числом параметров и переменных. Выполнить эту работу ученый уже не может без компьютерной помощи. Допустим, объектом научного исследования является биосфера — сложный природный комплекс, включающий человека с его производственной деятельностью. Эта деятельность, бесспорно, влияет на состояние биосферы, вызывая изменения в популяциях, биоценозах. Чтобы изучить характер этих изменений, надо задействовать параметры, связанные с физико-химическим состоянием рек, озер, морей, океанов, лесов, полей, пустынь, вечных ледников, гор, атмосферы и т.д. Очевидно, что речь идет о таком огромном числе параметров и переменных, увязать которые в целостность невозможно без использования компьютерных программ и проведения специального математического эксперимента на ЭВМ.
В
 -пятых, при изучении такого рода сложных систем, включающих человека с его преобразовательной производственной деятельностью, идеал ценностно-нейтрального исследования оказывается неприемлемым. Объективно истинное объяснение и описание такого рода систем предполагает включение оценок общественно-социального, этического характера. Например, исследования последствий влияния производственной деятельности человека на биосферу предполагают проведение социальной экспертизы с целью выявления вредных, а часто катастрофических, последствий этого влияния и установления ограничений и даже запретов на некоторые виды человеческой производственной деятельности. В постнеклассическом типе рациональности учитывается, как считает современный философ науки B.C. Степин, «соотнесенность характеристик получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств и операций деятельности, но и с ее ценностно-целевыми структурами. Причем эксплицируется связь внутринаучных целей с вненаучными, социальными ценностями и целями»1.
-пятых, при изучении такого рода сложных систем, включающих человека с его преобразовательной производственной деятельностью, идеал ценностно-нейтрального исследования оказывается неприемлемым. Объективно истинное объяснение и описание такого рода систем предполагает включение оценок общественно-социального, этического характера. Например, исследования последствий влияния производственной деятельности человека на биосферу предполагают проведение социальной экспертизы с целью выявления вредных, а часто катастрофических, последствий этого влияния и установления ограничений и даже запретов на некоторые виды человеческой производственной деятельности. В постнеклассическом типе рациональности учитывается, как считает современный философ науки B.C. Степин, «соотнесенность характеристик получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств и операций деятельности, но и с ее ценностно-целевыми структурами. Причем эксплицируется связь внутринаучных целей с вненаучными, социальными ценностями и целями»1.А это значит, что рациональное познание не имеет безусловного приоритета перед дорациональными и внерациональными познавательными формами.
Особо важным моментом четвертой научной революции было оформление в последние 10—15 лет XX в. космологии как научной дисциплины, предметом изучения которой стала Вселенная в целом. Философы науки выделяют две революции в космологии XX в. Не рассматривая их подробно, отметим только некоторые научные и эпистемологические последствия этих революций (при этом воспользуемся исследованием, проведенным А. Н. Павленко1).
Первая революция в научной космологии датируется началом XX в. До этого времени господствовала ньютоновская космологическая парадигма, согласно которой Вселенная в целом не может эволюционировать, она неподвижна. Теорию эволюции Вселенной в целом предложил русский математик А. А. Фридман. Эта теория признавала качественное изменение характеристик Вселенной во времени. Теория эволюции Вселенной необходимо привела к постановке вопросов о начале эволюции (рождении) и ее конце (смерти). Но рождение и смерть Вселенной как грандиозные космические процессы происходят без «свидетелей». В момент ее рождения (Вселенная рождается только один раз) человека-наблюдателя еще нет, в момент ее смерти человека-наблюдателя уже-нет. Следовательно, рождение и смерть Вселенной — принципиально ненаблюдаемые факты. Эволюционирующую Вселенную в ' целом никто и никогда не наблюдал и не сможет наблюдать. Следовательно, эволюционная теория Фридмана есть теория о том, что принципиально ненаблюдаемо. Но принципиально ненаблюдаемое является по определению трансцендентным, а потому относящимся к сфере метафизики, в которой главным способом познания является чистое умозрение, зрение умом (ср. с умозрением античных философов Платона и Плотина, например). Теория эволюции Вселенной в целом способствовала появлению в пост-неклассическом типе рациональности элементов античной рациональности. Рассмотрим некоторые из этих элементов. 1. Обращение к чистому умозрению при разработке теории развития Вселенной напоминает в своих существенных чертах античный тип рациональности. Более того, понятие «Вселенная в целом» родственно античному понятию Космос (правда, без прилагательного «Божественный»). Следует отметить, что в традиционной космологии от Канта — Гершеля — Лапласа до Шмидта отсутствовало понятие «Вселенная в целом», так как не ясно было, что есть это целое. Поэтому часто Вселенную отождествляли с Галактикой. С появлением эволюционной теории Фридмана такие понятия классической науки, как теория, эксперимент (опыт), научное знание и др., начинают приобретать иной смысл: теория становится «чистой», не опосредованной экспериментом, который по отношению к Вселенной в целом в принципе невозможен. Научное знание приобретает черты метафизического, т. е. становится знанием, получаемым только с помощью ума, хотя в отличие от античности, ум в космологической науке является только умом человека и не связан с Логосом. Метафизическая теория не может быть подтверждена опытом даже опосредованно, а потому все виды аргументации носят внутритеоретический характер.
Еще в начале XX в. А. Эйнштейн предугадал нарастание тенденции такого рода аргументации для тех случаев, когда основные понятия и аксиомы теорий конструируются по отношению к принципиально ненаблюдаемым фактам. Тот факт, что космология практически отрешилась от ньютоновского девиза «физика, бойся метафизики!», был негативно воспринят многими современными философами науки. Так, Ст. Тулмин называл космологию «естественной религией». Космология Фридмана открыла, феномен «умозрительной науки», которая «эмпирически не защищена» (А. Эйнштейн). Этот феномен, как было показано ранее, существовал в античности.
2.0 том, что фридмановская космология способствовала востребованности типа рациональности, близкого античному, свидетельствует и тот факт, что в ней впервые со времен греческой философии и протонауки был поставлен вопрос: «Почему Вселенная устроена именно так, а не иначе?» Например, почему пространство трехмерно, а время одномерно и т. д. В традиционной космологии вопрос формулировался иначе: «Как устроена Вселенная?» Вопрос «почему» в отношении метафизических объектов, каковым является Вселенная в целом, есть вопрос о причинах и первопричинах, поставленных еще античным философом Аристотелем.
Глава VI. Научные традиции и научные революции...
403

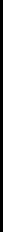


402
Основы философии науки
3. Вторая революция в научной космологии связывается с разработкой физиком-теоретиком А. Д. Линде инфляционной космологии, которая окончательно утверждает статус научной космологии как дисциплины, изучающей принципиально ненаблюдаемые объекты. Это породило проблему бессмысленности экспериментов и наблюдений в отношении предсказываемых ею фактов. Критериями истинности космологической теории становятся внутринаучные критерии, которые базируются на таких принципах разума, как целесообразность, соразмерность, гармония. Опираясь на эти принципы, Платон писал: «Космос — прекраснейшая из возникших вещей, а его демиург — наилучшая из причин». Античный Космос — это образ демиурга (творца), а человек создан по принципу «космической гармонии». Человеческое существо совершенно в силу совершенства Космоса.
А
 налогично в современной физике и космологии все чаще стали говорить об антропном принципе, согласно которому наш мир устроен таким образом, что в принципе допускает возможность появления человека. Свойства Вселенной как целого, свойства всей Метагалактики, фундаментальные характеристики Космоса таковы, что человек не мог не появиться. В этом смысле он космический феномен, органический элемент космоса. Антроп-ный принцип ставит в определенную зависимость человека и фундаментальные мировые константы, которые определяют действия законов тяготения, электромагнетизма, сильных и слабых взаимодействий элементарных частиц. Например, если бы константа электромагнитного взаимодействия, численное значение которой 1/137, было иным, то не было бы атомов и молекул, а следовательно, не могли бы появиться ни жизнь, ни человек. Но в таком случае человечество должно воспринимать Космос не как нечто внеположенное и враждебное, а как «дом» своего бытия. И тогда современному человеку должен быть понятен пафос Платона, характеризовавшего Космос как прекраснейшую и совершеннейшую вещь из всех сотворенных. В такой ситуации современный человек должен отрешиться от прагматического отношения к миру, которое сложилось и господствовало в новоевропейской культуре и науке. Другими словами, налицо корреляция типа рациональности, соответствующего современной физике и космологии, к античному типу рациональности.
налогично в современной физике и космологии все чаще стали говорить об антропном принципе, согласно которому наш мир устроен таким образом, что в принципе допускает возможность появления человека. Свойства Вселенной как целого, свойства всей Метагалактики, фундаментальные характеристики Космоса таковы, что человек не мог не появиться. В этом смысле он космический феномен, органический элемент космоса. Антроп-ный принцип ставит в определенную зависимость человека и фундаментальные мировые константы, которые определяют действия законов тяготения, электромагнетизма, сильных и слабых взаимодействий элементарных частиц. Например, если бы константа электромагнитного взаимодействия, численное значение которой 1/137, было иным, то не было бы атомов и молекул, а следовательно, не могли бы появиться ни жизнь, ни человек. Но в таком случае человечество должно воспринимать Космос не как нечто внеположенное и враждебное, а как «дом» своего бытия. И тогда современному человеку должен быть понятен пафос Платона, характеризовавшего Космос как прекраснейшую и совершеннейшую вещь из всех сотворенных. В такой ситуации современный человек должен отрешиться от прагматического отношения к миру, которое сложилось и господствовало в новоевропейской культуре и науке. Другими словами, налицо корреляция типа рациональности, соответствующего современной физике и космологии, к античному типу рациональности.4. В античности не знали того научного эксперимента, который
родился во времена Галилея и Ньютона. Сущность этого экс
перимента заключалась в том, что испытуемой вещи надо было
задать адекватный ее сущности вопрос, на который экспери
ментаторы получали однозначный ответ. Субъект познания
должен был обладать не только умом, но и телесной способ
ностью ощущать и воспринимать сигналы и ответы, которые
исходили от испытуемой вещи. Так, Галилей формулирует
закон инерции, запределивая эмпирический опыт, в котором
наблюдалось изменение длины траектории движущегося тела
в зависимости от трения. Не случайно И. Кант разводил по
нятия познания и мышления. Познать, с его точки зрения,
мы можем только то, что дано нашим чувствам, т. е. мир
явлений. Помыслить же мы можем обо всем, даже о том, что
выходит за границы возможности наших чувственных вос
приятий, например, Бога, душу и др.
В платоновской и неоплатоновской античной традиции- для получения истинного Знания также признавалась необходимость опыта, но опыта «умного», который «ставит» душа, не обращаясь к помощи ощущений и телесных чувств. Опыт души — это только умственное рассмотрение. Душа и есть собственно субъект познания, если можно применить этот термин в античном контексте. Платон считал, что душа ведет рассуждение сама с собой, «сама себя спрашивая и отвечая, утверждая и отрицая». При этом она не обращается за поддержкой к телесным ощущениям. В разделе, посвященном античной рациональности, мы показали, что такая «работа» души и есть в собственном смысле слова теоретизирование, к которому активно обращаются современные ученые.
5. Подобие античному типу рациональности обусловливается так
же тем фактом, что начинает стираться граница между теори
ей элементарных частиц и теорией Вселенной. Такого типа
«стирание» сформировалось, когда ученые обнаружили, что
электрон ведет себя антиномично: и как частица и как волна,
т. е. подчиняется двум взаимоисключающим друг друга зако
номерностям. Но, как показал И. Кант, когда мы рассматри
ваем мир как целое, то неизбежно приходим к антиномич-
ным (взаимоисключающим друг друга) утверждениям: мир
имеет начало во времени и пространстве — мир бесконечен в
пространстве и времени; в мире существуют свободные при-
■w
404
Основы философии науки

 чины — в мире царит необходимость; ряд мировых причин завершает Бог — в мире все случайно и Бога нет и т.д. Электрон ведет себя также антиномично, как и неведомый нам «мир как целое». Но антиномии, сформулированные Кантом в отношении мира как целого, относятся к сфере философии, т. е. области, изучающей трансцендентное. Н. Бор одним из первых ученых понял, что интерпретация антиномичности электрона возможна не в области физики, в области философии. Обнаруженная корпускулярно-волновая природа элементарных частиц привела его к выводу, что их сущностные характеристики столь же запредельны и парадоксальны, как и характеристики всего мироздания в целом. Стало формироваться убеждение, что элементарная частица в каком-то отношении столь же тотальна, как и весь мир, что она — другой полюс Космоса. И когда космология связала возникновение мира с Большим взрывом, то сразу возникла проблема: с какой своей «единицы» начинался мир. Большой взрыв являлся «созданием из ничего» неопределенной бесформенной протоматерии, из которой начали формироваться элементарные частицы. Они-то и были теми «единицами», которые привели к структурированию всего мироздания. Теория элементарных частиц и космологическая теория столь тесно стали сопрягаться, что критерием истинности теории элементарных частиц стала выступать ее проверка на «космологическую полноценность». Возникло близкое античности понимание того, что все связано со всем, «все во всем».
чины — в мире царит необходимость; ряд мировых причин завершает Бог — в мире все случайно и Бога нет и т.д. Электрон ведет себя также антиномично, как и неведомый нам «мир как целое». Но антиномии, сформулированные Кантом в отношении мира как целого, относятся к сфере философии, т. е. области, изучающей трансцендентное. Н. Бор одним из первых ученых понял, что интерпретация антиномичности электрона возможна не в области физики, в области философии. Обнаруженная корпускулярно-волновая природа элементарных частиц привела его к выводу, что их сущностные характеристики столь же запредельны и парадоксальны, как и характеристики всего мироздания в целом. Стало формироваться убеждение, что элементарная частица в каком-то отношении столь же тотальна, как и весь мир, что она — другой полюс Космоса. И когда космология связала возникновение мира с Большим взрывом, то сразу возникла проблема: с какой своей «единицы» начинался мир. Большой взрыв являлся «созданием из ничего» неопределенной бесформенной протоматерии, из которой начали формироваться элементарные частицы. Они-то и были теми «единицами», которые привели к структурированию всего мироздания. Теория элементарных частиц и космологическая теория столь тесно стали сопрягаться, что критерием истинности теории элементарных частиц стала выступать ее проверка на «космологическую полноценность». Возникло близкое античности понимание того, что все связано со всем, «все во всем».Итак, современная физика и космология сформировали сходную с античной тенденцию обращения к умозрению, к теоретизированию. Они впустили в пространство своих научных построений вопросы, которые в классической и неклассической науке относились к философским: почему Вселенная устроена так, а не иначе; почему во Вселенной все связано со всем и т.д. Но на философские вопросы нельзя адекватно ответить, опираясь на нормы и идеалы научного познания, сложившиеся в пределах классической и неклассической рациональности.
Глава VII
Особенности современного этапа развития науки
§
 1. Главные характеристики современной, постнеклассической науки
1. Главные характеристики современной, постнеклассической науки1. Широкое распространение идей и методов синергетики — теории самоорганизации и развития сложных систем любой природы.
В этой связи очень популярны такие понятия, как диссипа-тивные структуры, бифуркация, флуктуация, хаосомность, странные аттракторы, нелинейность, неопределенность, необратимость и т. п. В синергетике показано, что современная наука имеет дело с очень сложноорганизованными системами разных уровней организации, связь между которыми осуществляется через хаос. Каждая такая система предстает как «эволюционное целое». Синергетика открывает новые границы суперпозиции, сборки последнего из частей, построения сложных развивающихся структур из простых. При этом она исходит из того, что объединение структур не сводится к их простому сложению, а имеет место перекрытие областей их локализации: целое уже не равно сумме частей, оно не больше и не меньше суммы частей, оно качественно иное.
Один из основоположников синергетики Г. Хакен (предложивший и сам этот термин), поставив вопрос — «Что общего обнаруживается при исследовании систем самого различного рода, природных и социальных?» — отвечал на него следующим образом.
I
406
Основы философии науки
Общее — это спонтанное образование структур («Strakturbilding»), качественные изменения на макроскопическом уровне, эмерджен-тное возникновение новых качеств, процессы самоорганизации в открытых системах. Отличие синергетического взгляда от традиционного, по мнению Хакена, состоит в переходе от исследования простых систем к сложным, от закрытых к открытым, от линейности к нелинейности, от рассмотрения равновесия процессов вблизи равновесия к делокализации и нестабильности, к изучению того, что происходит вдали от равновесия.
О
 бъективности ради надо сказать, что вышеперечисленные и другие идеи синергетики были сформулированы не без влияния диалектики (Шеллинга, Гегеля, Маркса), хотя об этом, как правило, не упоминается. Но об этом помнит один из основателей синергетики И. Пригожий, который писал, в частности, о том, что гегелевская философия природы «утверждает существование иерархии, в которой каждый уровень предполагает предшествующий... В некотором смысле система Гегеля является вполне последовательным философским откликом на ключевые проблемы времени и сложности»1. Более того, Пригожий четко и однозначно утверждает, что «идея истории природы как неотъемлемой составной части материализма принадлежит К. Марксу и была более подробно развита Ф. Энгельсом... Таким образом, последние события в физике, в частности, открытие конструктивной роли необратимости, поставили в естественных науках вопрос, который давно задавали материалисты»2.
бъективности ради надо сказать, что вышеперечисленные и другие идеи синергетики были сформулированы не без влияния диалектики (Шеллинга, Гегеля, Маркса), хотя об этом, как правило, не упоминается. Но об этом помнит один из основателей синергетики И. Пригожий, который писал, в частности, о том, что гегелевская философия природы «утверждает существование иерархии, в которой каждый уровень предполагает предшествующий... В некотором смысле система Гегеля является вполне последовательным философским откликом на ключевые проблемы времени и сложности»1. Более того, Пригожий четко и однозначно утверждает, что «идея истории природы как неотъемлемой составной части материализма принадлежит К. Марксу и была более подробно развита Ф. Энгельсом... Таким образом, последние события в физике, в частности, открытие конструктивной роли необратимости, поставили в естественных науках вопрос, который давно задавали материалисты»2.Между тем некоторые современные ученые не только не видят преемственной связи между диалектикой и синергетикой, но считают, что первая из них отжила свой век и должна быть заменена второй. Или — в лучшем случае — диалектике предназначается «участь» одной из частей синергетики. С таким подходом согласиться нельзя, ибо диалектика как общая теория и универсальный метод была и остается выдающимся достижением мировой философской мысли. Она как философский метод продолжает успешно «работать» в современной науке наряду с другими общенаучными методами (синергетика, системный подход и др.). (О синергетике см. следующий параграф данной главы.)
1
 Пригожим И., Т>генгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986. С. 140.
Пригожим И., Т>генгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986. С. 140.2 Там же. С. 320.
407
Глава VII. Особенности современного этапа развития науки
Принимая синергетический подход, некоторые современные исследователи стремятся осуществить комплексное, системное рассмотрение всей совокупности факторов, определяющих изменение роли науки в процессах постиндустриальной транспормации. Так, Л. В. Лесков к числу таких факторов относит: модернизацию научной методологии; роль фундаментального теоретического знания; модернизацию общенаучной парадигмы; достаточно широкий спектр анализируемых научных направлений; перспективы снятия барьера между естественнонаучным и гуманитарным научным знанием; уточнение роли и места науки в культуре, а теоретического знания — в социокультурной динамике. «Подобная постановка проблемы означает, — по мнению автора, — не что иное, как попытку построить модель самой науки как самоорганизующейся системы»1.
2. Укрепление парадигмы целостности, т. е. осознание необходимости глобального всестороннего взгляда на мир. «Принятие диалектики целостности, включенности человека в систему — одно из величайших научных достижений современного естествознания и цивилизации в целом»2. В чем проявляется парадигма целостности?
а) В целостности общества, биосферы, ноосферы, мироздания и
т. п. Одно из проявлений целостности состоит в том, что че
ловек находится не вне изучаемого объекта, а внутри его. Он
всегда лишь часть, познающая целое.
б) Для конца XX в. характерной является закономерность, со
стоящая в том, что естественные науки объединяются, и уси
ливается сближение естественных и гуманитарных наук, на
уки и искусства. Естествознание длительное время ориенти
ровалось на постижение «природы самой по себе», безотноси
тельно к субъекту деятельности. Гуманитарные науки — на
постижение человека, человеческого духа, культуры. Для них
приоритетное значение приобрело раскрытие смысла, не
столько объяснение, сколько понимание, связь социального
знания с ценностно-целевыми структурами.
1
 Лесков Л. В. Наука как самоорганизующаяся система // Обществен
Лесков Л. В. Наука как самоорганизующаяся система // Общественные науки и современность. 2003. №4. С. 148. ;
2 Моисеев И. Н. Естественнонаучное знание и гуманитарное мышление
// Общественные науки и современность. 1993. № 2. С. 66.
408
Основы философии науки
Глава VII. Особенности современного этапа развития науки
409

 Идеи и принципы, получающие развитие в современном естествознании (особенно в синергетике), все шире внедряются в гуманитарные науки, но имеет место и обратный процесс. Освоение наукой саморазвивающихся «человекоразмерных» систем стирает прежние непроходимые границы между методологией естествознания и социального познания. В связи с этим наблюдается тенденция к конвергенции двух культур — научно-технической и гуманитарно-художественной, науки и искусства. Причем именно человек оказывается центром этого процесса, в) В выходе частных наук за пределы, поставленные классической культурой Запада. Все более часто ученые обращаются к традициям восточного мышления и его методам. Все более распространяется убеждение не только о силе, но и о слабости европейского рационализма и его методов. Но это никоим образом не должно умалять роли разума, рациональности — и науки как ее главного носителя — в жизни современного общества.
Идеи и принципы, получающие развитие в современном естествознании (особенно в синергетике), все шире внедряются в гуманитарные науки, но имеет место и обратный процесс. Освоение наукой саморазвивающихся «человекоразмерных» систем стирает прежние непроходимые границы между методологией естествознания и социального познания. В связи с этим наблюдается тенденция к конвергенции двух культур — научно-технической и гуманитарно-художественной, науки и искусства. Причем именно человек оказывается центром этого процесса, в) В выходе частных наук за пределы, поставленные классической культурой Запада. Все более часто ученые обращаются к традициям восточного мышления и его методам. Все более распространяется убеждение не только о силе, но и о слабости европейского рационализма и его методов. Но это никоим образом не должно умалять роли разума, рациональности — и науки как ее главного носителя — в жизни современного общества.Ориентацию европейской науки XX в. на восточное мышление четко зафиксировал В. И. Вернадский, который писал: «Едва ли можно сомневаться, что выдержавшая тысячелетия, оставшись живой, слившись с единой мировой наукой, мудрость и мораль конфуцианства скажется глубоко в ходе мирового научного мышления, так как этим путем в него входит круг новых лиц более глубокой научной традиции, чем западноевропейская цивилизация»1. Тема «Восток—Запад» сегодня активно обсуждается в литературе. Разительное несходство двух типов культур пронизывает всю жизнь современной цивилизации, оказывает огромное влияние на происходящие процессы во всех сферах общественной жизни и на пути осмысления возможных перспектив развития человека.
Тот факт, что даже при обсуждении новой концепции природы эта проблема возникает, говорит о ее чрезвычайной актуальности. «Мы считаем, что находимся на пути к новому синтезу, новой концепции природы. Возможно, когда-нибудь нам удастся слить воедино западную традицию, придающую первостепенное значение экспериментированию и количественным формулиров-
кам, и такую традицию, как китайская: с ее представлениями о спонтанно изменяющемся самоорганизующемся мире»1. 3. Укрепление и все более широкое применение идеи (принципа) коэволюции, т. е. сопряженного, взаимообусловленного изменения систем или частей внутри целого. Будучи биологическим по происхождению, связанным с изучением совместной эволюции различных биологических объектов и уровней их организации, понятие коэволюции охватывает сегодня обобщенную картину всех мыслимых эволюционных процессов, — это и есть глобальный эволюционизм. (Подробнее об этом см. §3 данной главы.)
Данное понятие характеризует как материальные, так и идеальные (духовные) системы, т. е. является универсальным. Оно тесно связано с понятием «самоорганизация». Если самоорганизация имеет дело со структурами, состояниями системы, то коэволюция — с отношениями между развивающимися системами, с корреляцией эволюционных изменений, отношения между которыми сопряжены, взаимоадаптированы. Полярные уровни коэволюции — молекулярно-генетический и биосферный.
Коэволюция остро ставит вопрос о синтезе знаний, о необходимости совмещения различных уровней эволюции, различных представлений о коэволюционных процессах, выраженных не только в науке, но и в искусстве, религии, философии и т. п. Коэволюция совершается в единстве природных и социальных процес-, сов. Поэтому на современном этапе развития науки нужно тесное единство и постоянное взаимодействие естественнонаучного и гуманитарного знания с целью более глубокого исследования механизма коэволюционного процесса.
Принцип коэволюции является углублением и расширением на современном научном материале принципа эволюции (развития), который, как известно, был основательно разработан в истории философии — особенно в немецкой классике (и прежде всего у Гегеля), а затем — в материалистической диалектике («две концепции развития»). Идеи развития и «полярности», особенно остро и глубоко «выстраданные» в немецкой классической и материалистической диалектике, сегодня являются ключевыми для современной науки.
 Вернадский В. И. О науке. Т. 1. Научное знание. Научное творчество. Научная мысль. Дубна, 1997. С. 398.
Вернадский В. И. О науке. Т. 1. Научное знание. Научное творчество. Научная мысль. Дубна, 1997. С. 398.1 Пригожий И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986. С. 65.
411
I
Основы философии на
4

 . Изменение характера объекта исследования и усиление t междисциплинарных комплексных подходов в его изучении, В современной методологической литературе все более ск няются к выводу о том, что если объектом классической на были простые системы, а объектом неклассической науки — ела ные системы, то в настоящее время внимание ученых все боль привлекают исторически развивающиеся системы, которые с чением времени формируют все новые уровни своей орган» ции. Причем возникновение каждого нового уровня оказывает i действие на ранее сформировавшиеся, меняя связи и композицию их элементов.
. Изменение характера объекта исследования и усиление t междисциплинарных комплексных подходов в его изучении, В современной методологической литературе все более ск няются к выводу о том, что если объектом классической на были простые системы, а объектом неклассической науки — ела ные системы, то в настоящее время внимание ученых все боль привлекают исторически развивающиеся системы, которые с чением времени формируют все новые уровни своей орган» ции. Причем возникновение каждого нового уровня оказывает i действие на ранее сформировавшиеся, меняя связи и композицию их элементов.Системы, характеризующиеся открытостью и саморазвитием, постепенно начинают определять облик современной пост-неклассической науки. А это требует новой методологии их познания. В литературе определяют такие признаки самоорганизующихся систем, как: открытость — для вещества, энергии, информации; нелинейность — множество путей эволюции системы и возможность выбора из данных альтернатив; когерентность (сцепление, связь) — согласованное протекание во времени процессов в данной системе; хаотический характер переходных состояний в них; непредсказуемость их поведения; способность активно взаимодействовать со средой, изменять ее в направлении, обеспечивающем наиболее успешное функционирование системы; гибкость структуры; способность учитывать прошлый опыт.
Объектом современной науки становятся — и чем дальше, тем чаще — так называемые «человекоразмерные» системы: медико-биологические объекты, объекты экологии, включая биосферу в целом (глобальная экология), объекты биотехнологии (в первую очередь генетической инженерии), системы «человек—машина»
и т. д.
Изменение характера объекта исследования в постнекласси-ческой науке ведет к изменению подходов и методов исследования. Если на предшествующих этапах наука была ориентирована преимущественно на постижение все более сужающегося, изолированного фрагмента действительности, выступавшего в качестве предмета той или иной научной дисциплины, то специфику современной науки все более определяют комплексные исследова тельские программы (в которых принимают участие специалисты различных областей знания), междисциплинарные исследования.
